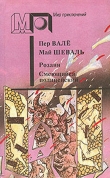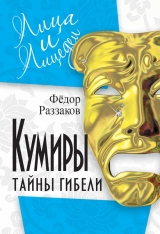
Текст книги "Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Кумиры всех поколений"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Константин РАЙКИН
К. Райкин родился в июле 1950 года в Ленинграде в актерской семье. Его отец – Аркадий Исаакович – был актером и художественным руководителем Государственного театра миниатюр, мать – Руфь Марковна – работала вместе с мужем. Кроме сына в семье Райкиных был еще один ребенок – дочь Катерина, 1938 года рождения.
Мало кто знает, что нынешний руководитель театра «Сатирикон» мог и не появиться на свет – такой сложной была в тот момент ситуация в его семье. Что же произошло? Дело в том, что Аркадия Райкина, как и всякую знаменитость, преследовали женщины. Перед некоторыми из них актер не мог устоять, и тогда случалось то, что во французском языке именуется словом «адюльтер». Один из таких романов у великого актера произошел как раз перед рождением Константина, и Руфь Марковна каким-то образом про него узнала. Вот тогда она и решила прервать свою беременность. Но, к счастью, прежде чем пойти к Врачу, она рассказала о своем намерении подругам и тем удалось Убедить ее отказаться от этого шага. Ребенок все-таки родился. По словам Константина, с малых лет он рос чрезвычайно активным мальчишкой. Видя такую подвижность, родители отдали в спортивную школу – в секцию гимнастики. Именно там в первый раз сломает себе нос – когда сделает неудачное сальто на брусьях. В дальнейшем последуют еще пять переломов, правда, к спорту они уже не будут иметь никакого отношения – их Константин заработает в драках. Причем последняя произошла, когда он был уже достаточно знаменит. Он тогда играл в «Современнике», приехал с театром на гастроли и однажды вышел прогуляться. Едва он сделал несколько шагов, как рядом с ним выросло несколько незнакомых молодых людей, которые без всяких объяснений принялись его бить. Один из них и нанес коварный удар артисту в переносицу. Что это были за люди и почему они на него напали, Райкин так и не узнал.
Однако вернемся в детские годы нашего героя.
Так как родители Константина большую часть времени проводили на гастролях, сына и дочь воспитывала нянечка – безграмотная татарка. Как расскажет позднее К. Райкин: «Я очень переживал, когда моя няня, чрезвычайно заботливая, но жутко невежественная женщина, принималась кричать в общественном месте: «Это сын Райкина идет, пропустите его без очереди!» Мне казалось, что я обкакаюсь от стыда. Я физически не мог пользоваться именем отца, меня в жар бросало от одной мысли...
Что касается моей национальности, то с этим у меня проблем не было. На меня антисемитизм не распространялся: кто-то когда-то ругнет за глаза – это можно не считать. Для всех я был, прежде всего, сыном национального героя, сыном Райкина, а не евреем. У меня с самого детства все было хорошо, но глаза и уши у меня были. Когда моего товарища, талантливого парня, не принимали в консерваторию, когда Ойстрах при мне жаловался папе, что ему навязали жесткую квоту по национальному признаку, я понимал: с этой национальностью в этой стране жить сложно...»
Видимо, чтобы отвратить сына от актерской профессии, родители отдали Константина в физико-математическую школу при Ленинградском университете, в класс с биологическим уклоном. Однако это не помогло. Закончив школу в 1967 году, Константин решил связать свою жизнь с искусством и благополучно сдал экзамены в Театральное училище имени Щукина. Стоит отметить, что многими тогда это поступление было воспринято скептически – мол, поступил благодаря громкой фамилии. Однако уже на первом курсе Константин опроверг это мнение, став одним из самых талантливых студентов своего курса Когда в 1971 году он закончил училище, его пригласили к себе сразу четыре столичных театра: МХАТ, Театр Советской Армии, Театр на Таганке и «Современник». Райкин выбрал последний. Почему? Сам он на этот вопрос отвечает так: «Потому что на Таганке я бы занимался тем, что и так уже умел. Еще в институте я понимал, что в каких-то областях немножко опережаю сокурсников: скажем, по части движения, эксцентрики, некоторой спортивности. И понимал, что Юрий Петрович Любимов будет использовать прежде всего эти качества.
А в «Современнике» – я видел – актеры умеют что-то такое, чего я еще не могу, а мне хотелось идти в глубину, хотелось стать настоящим драматическим артистом – как Смоктуновский, как Бабочкин. Я всегда метался между острой выразительностью и, так сказать, глубинным содержанием. Хотя на самом деле одно не противоречит другому...»
Первой ролью Константина на сцене «Современника» стал Валентин в спектакле «Валентин и Валентина» (1971). Затем спектакли с участием Райкина пошли один за другим: «На дне», «Вечно живые», «Балалайкин и К» (1973), «Из записок Лопатина» (1974), «Двенадцатая ночь», «Эшелон» (оба – 1975), «Вишневый сад» (1976), «Монумент», «А поутру они проснулись...» (оба – 1977), «Лоренцаччо» (1980) и др.
Первой значительной ролью Константина Райкина в кино стала центральная мужская роль в экранизации комедии В. Шекспира «Много шума из ничего», предпринятая режиссером Самсоном Самсоновым в 1973 году. Однако всесоюзную известность Константину принесла другая роль – татарина Каюма в боевике Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974; позднее актер признается, что списал эту роль со своей нянечки). Во время съемок в нем Константину пригодилось многое из того, чему он сумел научиться в детстве, посещая спортивную секцию. К примеру, в фильме он падал с 12-метровой высоты в горную реку Аргун (съемки проходили недалеко от столицы Чеченской Республики города Грозного). Скорость течения была бешеная, температура воды – плюс 3 градуса. Райкин должен был со скалы упасть в поток, причем в такое место, где крутился бурный водоворот. Стоит отметить, что, когда спасатели предварительно проверяли это место – выясняли, какая глубина, – одного из них водоворотом засосало под скалу. К счастью, его удалось спасти. Однако нечто подобное едва не случилось и с Константином, правда, уже в другом месте бурной реки. И теперь уже спасателям пришлось спасать актера, который оказался на волосок от гибели.
На следующий день после премьеры этого фильма Константин Райкин проснулся знаменитым. Отныне к стайке юных поклонниц, преследовавших его в театре, прибавилась целая армия новых фанаток, которая появилась у актера по всему Союзу. Это было удивительно, так как назвать Константина Райкина красавцем было бы сильным преувеличением. Однако... Сам актер так высказывается на этот счет: «Я никогда не комплексовал по поводу своей внешности. Конечно, мне хотелось нравиться девочкам, не обошлось и без несчастной любви, но у кого ее не было? Во всяком случае, чувство обделенности, ущербности у меня никогда не возникало. Я понял, что красота не главное. Правильность форм, красивость, хорошенькость мало что значат сами по себе. Все решает обаяние, степень заразительности...»
Большое значение в понимании степени популярности того или иного артиста играют слухи, которые его сопровождают. Так вот, про Райкина больше всего ходило слухов о его любовных приключениях. И с кем только не сводила его народная молва! Сыграл он несколько спектаклей с новой примой «Современника» Мариной Нееловой, как тут же появилась сплетня, что они любовники. Снялся в фильме «Труффальдино из Бергамо» (1977; реж. Владимир Воробьев) вместе с Натальей Гундаревой – новые слухи не заставили себя долго ждать. Между тем официальными женами Райкина в те годы были другие женщины.
Первой его женой была дочь известной певицы из Узбекистана Тамары Ханум. По словам Райкина, их московский дом был удивительным, прекрасным проходным двором. Хлебосольным, с музыкой, бесконечными разговорами, с сумасшедшим количеством всегда присутствующих гостей. Однако в этой бьющей ключом жизни Константин так и не смог занять своего места, и через четыре года молодая семья распалась. Расстались они легко, без скандала. По словам Райкина, у него от того брака не осталось ни одной общей фотографии.
Через некоторое время Райкин женился во второй раз. Однако и этот брак не сложился. Актер рассказывает: «Со второй супругой рвал очень больно, притом что внешне обошлось без ссор и скандалов. Я предупредил, что могу уйти, ничего не изменилось, и тогда я ушел. И больше никогда не возвращался, хотя очень любил жену. Тогда я понял, что людей связывают нити разной длины. Перерезал самые короткие, посчитал, что больше ничего не держит, и стал удаляться. А тут нитка, что подлиннее, натянулась и сделала больно. Ее обрубил, успокоился, а уже следующая нить в звенящую струну превратилась...
По-моему, самая нетерпимая ситуация – это когда меня не надо, а я есть. Лучше я на ровном месте заподозрю неладное и раньше времени уйду. Насильно заставлять быть со мной я никогда не стану. У меня врожденное чувство такта, чем горжусь...»
Между тем после блистательно сыгранной роли Труффальдино на Райкина как из рога изобилия посыпались предложения сниматься в ролях подобных этой. Однако он не хотел Повторяться, поэтому ни одно из этих предложений не принял и ждал ролей совершенно иного плана – серьезных. И в конце 70-х такая роль вполне могла к нему прийти. Сценарист Сергей Ермолинский специально для Константина Райкина написал сценарий, в котором актеру предстояло стать Денисом Давыдовым. Райкин очень загорелся этой ролью, потому что всегда считал себя похожим на этого человека – и внешностью, и темпераментом, и любовью к поэзии. Однако чиновники от кино запретили снимать Райкина в этой роли, объяснив это весьма грубо: «Чтобы гусара играл этот страшила? Никогда!» Стоит отметить, что в те годы Райкин из-за своей внешности попал в «черный список» актеров, которых не рекомендовалось слишком часто снимать в кино (в этом списке были также Ролан Быков, Инна Чурикова и др.). А роль Дениса Давыдова в фильме «Эскадрон гусар летучих» сыграл молодой актер Андрей Ростоцкий, внешность которого ни у кого не вызывала нареканий (картину снял его отец Станислав Ростоцкий).
В начале 80-х годов Райкину стало тесно в стенах «Современника», и он стал использовать любые возможности, чтобы попробовать свои силы в иных областях творчества. Так как путь в кино был ему заказан, он попробовал себя в педагогической деятельности – стал преподавать в студии Олега Табакова. В то же время он отдельно и совершенно лабораторно работал с режиссером Валерием Фокиным. Вместе они поставили спектакль «Записки из подполья» по Ф. Достоевскому, который Райкин позже Назовет самым главным спектаклем в своей жизни – только после него он начал чувствовать себя настоящим артистом. Все эти опыты рождали в Райкине мечты нового театра, в котором ему хотелось бы работать. Было ясно, что в «Современнике» он этого иметь не будет, потому что тот шел по иному пути. Но где найти такой театр? И тогда Константин обратил внимание на Государственный театр миниатюр, которым руководил его отец. Уж там-то, по его мнению, он смог бы развернуться. И в 1982 году Константин был принят в труппу этого театра.
Стоит отметить, что еще за год до этого именно Константин уговорил отца перевезти театр в Москву, потому что в Ленинграде, где он базировался со дня основания, ему не давали существовать партийные власти города. Отец какое-то время возражал доводам сына, мотивируя это тем, что никто не разрешит переехать его коллективу в столицу. «Кто будет терпеть у себя под боком такой театр?» – заявлял Аркадий Исаакович. «Брежнев будет терпеть, потому что он тебя любит и знает с 42-го года», – отвечал ему Константин. В конце концов отец дрогнул и решился обратиться к Генсеку. И случилось чудо – вопрос о переезде был решен в течение 15 минут. Московские квартиры тогда получили все: осветители театра, радисты, монтировщики, артист, ты. А помещением для театра стал кинотеатр «Таджикистан» в Марьиной Роще. Правда, местные жители сначала возмутились, что у них отбирают единственный кинотеатр, но вопрос был быстро улажен – вскоре рядом был построен новый кинотеатр «Гавана».
В 1982 году спектаклем «Лица» Константин Райкин дебютировал на сцене Государственного театра миниатюр как режиссер и актер. Стоит отметить, что Аркадий Исаакович видел, что его сын старается создать на базе его театра нечто новое, непривычное для него, и иногда противился этому. Однако в таких случаях Константин поступал хитро – после серьезных разговоров с отцом на эту тему он говорил, что ему нехорошо. И этого было достаточно, чтобы отец тут же принимал сторону сына – к чужим болезням он относился свято
В 1987 году Государственный театр миниатюр был переименован в театр «Сатирикон», а в декабре того же года из жизни ушел Аркадий Райкин. С 1988 года художественным руководителем театра стал Константин Райкин.
Между тем в конце 80-х годов изменилась в лучшую сторону кинематографическая судьба Константина Райкина – он вновь начал сниматься. Так, в 1987 году он снялся в мюзикле Евгения Гинзбурга «Остров погибших кораблей», а два года спустя в эротической комедии Валерия Рубинчика «Комедия о Лисистрате». Кстати, ролью в последнем Райкин добыл себе славу первого российского актера, показавшего свое обнаженное тело со всех сторон. Позднее Райкин будет вспоминать съемки в этом фильме следующим образом: «С этим фильмом меня обманули. Они мне не говорили, что придется сниматься обнаженным, до последнего момента, пока я на съемки не приехал. Приехал, а мне говорят, что все в «соответствующем» виде уже отснялись. Остался только я. «Ну, раз так, – подумал я, – значит, надо сниматься. Нельзя идти на попятный». Другое дело, что ничего хорошего из этого кино не получилось. Самое забавное, что кино снимали в Дербенте и вокруг площадки стояли тысячи людей, которые все созерцали. А мне надо было бежать, а потом возвращаться на исходную точку. И вот я так бегаю туда-сюда, голый, между людьми, а они в это время у меня автограф просят. Самое смешное в том, что половина пленки потом оказалась в браке и доснимать эту сцену пришлось уже в Москве. В Москве я стоял, закутанный в халат, поодаль опять стояла толпа. Я умолял, чтобы людей попросили разойтись. Но ведь им не прикажешь...»
В те же годы изменилась и личная жизнь Константина – он женился. Его третьей женой стала молодая актриса его же театра Елена Бутенко (она родилась в городе Валки на той же улице, где когда-то родилась знаменитая актриса Валентина Серова). Незадолго до встречи со своей будущей женой Райкин был на гастролях в Донецке и тамошняя гадалка ему нагадала: «Скоро ты женишься на украинской девушке». И это предсказание в точности сбылось. В 1988 году у них родилась дочь Полина. Стоит отметить, что роды у жены Константин принимал сам. Вот как он об этом рассказывает: «В школьные годы я серьезно занимался биологией. А позднее познакомился с семьей альтернативных акушеров, видел фильмы про роды в воде. И когда моя жена забеременела, мы с ней решили, что рожать она будет дома.
Я притащил домой бассейн из органического стекла. Поставил его посередине комнаты. Налил в него тонну воды из крана, никакой не дистиллированной, и в море рожают. Все основное сделали, конечно, наши друзья-акушеры. Я прибежал со спектакля только ко второй половине происходящего. Но включился сразу активно. Успокаивал ее, подбадривал. И пуповину сам перерезал обыкновенными ножницами, которые мне продезинфицировали.
Потом мы устроили целый праздник из этого события. Звучала медитативная музыка, восточная. Родилась здоровая девочка на три шестьсот, 51 сантиметр...»
В начале 90-х годов Константин Райкин попробовал свои силы на сцене чужого театра – он сыграл две роли в спектаклях режиссера Леонида Трушкина в Театре Антона Чехова: в «Сирано де Бержераке» и «Там же, тогда же». Однако это был его единственный сценический опыт на другой площадке.
В своем родном театре (с 1992 года он называется Государственный театр «Сатирикон» имени А. И. Райкина) Константин сыграл целый ряд интересных ролей. Среди них: Брюно в «Великолепном рогоносце», Мекки-нож в «Трехгрошовой опере». Премьера последнего спектакля состоялась осенью 1996 года (режиссер Владимир Машков) и на сегодняшний день является беспрецедентным случаем дороговизны в отечественном театре – на спектакль ушло полмиллиона долларов.
В 1991 году Райкин снялся в фильме Михаила Козакова «Тень», это пока последняя работа актера в кино. Почему? Сам он так отвечает на этот вопрос: «Я не снимаюсь, мне давно уже неинтересно играть труффальдинистые роли. Мне все время предлагают то, что я уже оставил позади. А с некоторых пор роли мне предлагать уже перестали. Зачем терять время, если известно, что Райкин все равно откажется? Я приучил к мысли, что соглашусь сниматься, если мне дадут совершенно фантастическую, неожиданную роль...»
Сегодня народный артист России Константин Райкин по-прежнему возглавляет театр «Сатирикон», и возглавляет довольно успешно – каждая новая сценическая работа коллектива вызывает самый живой отклик как у критики, так и у зрителей. Пишет критик Е. Ямпольская: «Внутри «Сатирикона» царит вполне здоровая атмосфера. Основной возраст актеров – ниже тридцати. Поэтому закулисным интригам они предпочитают любовные. Заключаются браки – официальные и не совсем, от тех и от других рождаются дети – личная жизнь кипит не хуже творческой. Художественного руководителя практически никто в театре не называет по имени-отчеству. На своих актеров Райкин пишет эпиграммы, как правило, неприличные, и зачитывает их на общетеатральных капустниках. По-моему, многие из них звучат весьма обидно, но иной реакции, кроме обвального хохота.
пока не наблюдалось. Кстати, традиция проведения капустников тоже сохранилась сегодня едва ли не в одном «Сатириконе».
В течение нескольких лет семья Райкина жила за городом, а год назад переехала в новую квартиру в центре Москвы – на Малой Никитской улице (бывшая улица Качалова). Супруга Константина Райкина – Елена Бутенко – удачно совмещает работу в театре со съемками в кино. Она снялась в двух фильмах: «Русская певица» (1993; главная роль) и детективном телесериале Игоря Масленникова, премьера которого должна вскоре состояться на Российском телевидении.
1975
Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ
И. Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. В отличие от большинства актеров, которые чуть ли не с детства мечтали посвятить себя искусству, у Игоря такой мечты не было. В школе он отдавал предпочтение точным наукам, однако на стандартный вопрос «кем хочешь быть после окончания школы» определенного ответа не имел. После окончания восьми классов пошел в вечернюю школу. Закончив ее, поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ), хотя с тем же успехом это мог быть и горный, и авиационный, и любой другой столичный вуз. Проучился в нем всего лишь два курса, а с третьего решил податься в артисты. Причем этот его выбор был неожиданным для всех: и для родителей, и для друзей-сокурсников, которые никогда не замечали за ним особенной тяги к искусству. Костолевский художественному слову не учился, в любительских кружках не участвовал, театром и кино особенно не увлекался. Чем же было вызвано такое решение? Как объяснил позднее сам актер, толкнула его на этот шаг любовь. Он тогда встречался с девушкой, которая большое значение придавала гуманитарному образованию и считала, что ее поклонник обязательно должен его иметь. «Ты на Есенина похож – тебя в актеры обязательно примут», – уверяла она его.
Однако оптимистические прогнозы девушки в тот год не сбылись. Когда Костолевский пришел показываться в Школу-студию МХАТ, он волновался так сильно, что едва не разделся перед членами комиссии до трусов. Дело в том, что, несмотря на теплую погоду, он был тепло одет и раздевался до тех пор, пока один из преподавателей не остановил его возгласом: «Вы же не в баню пришли, молодой человек!» Костолевский бросился одеваться в обратном порядке, а затем медленно попятился к дверям. «Вы уже уходите?» – вновь удивленно спросил его тот же преподаватель. Костолевский вернулся и с ходу стал читать стихотворение, которое до этого повторял про себя раз сто: «Дай, Джим, на счастье лапу мне...». Но читал его так плохо, что комиссия забраковала абитуриента и посоветовала приходить на следующий год.
Костолевский так и поступил, только в следующем году подал документы во все театральные вузы одновременно. И произошло чудо – он всюду был принят. В конце концов Костолевский остановил свой выбор на ГИТИСе, где режиссер Андрей Гончаров набирал смешанный актерско-режиссерский курс.
Стоит отметить, что с той девушкой, благодаря которой Костолевский стал актером, он позже расстался. Она поступила во ВГИК и стала киноведом.
Первое время учеба в ГИТИСе давалась Костолевскому нелегко – на первом курсе его даже признали профнепригодным и пытались отчислить из вуза. Как вспоминает сам актер: «Когда меня стали выгонять, я сделал для себя много ценных открытий. Оказалось, что тут надо учиться, что артист – это профессия... Можно сказать, мне впервые тогда пришлось как-то шевелиться. А вообще я довольно долго был в меру (или не в меру?) ленив, идеалистичен и романтичен, и всяческие иллюзии во мне долго существовали...»
Дебют Костолевского на съемочной площадке произошел в 1970 году, когда он учился на 2-м курсе – в телефильме «Семья как семья» он сыграл маленький эпизод. А через год Станислав Ростоцкий пригласил его на роль Миши в картину «А зори здесь тихие...».
Однако настоящая слава пришла к актеру в 1975 году, когда на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», в котором Костолевскому досталась роль декабриста Ивана Анненкова (к тому времени Костолевский успешно закончил ГИТИС и уже два года играл на сцене театра имени Маяковского).
По словам В. Мотыля, на некоторые центральные роли в фильме актеры были навязаны ультимативно. Однако Костолевского он отыскал сам и пригласил его к себе домой для предварительной беседы. Как гласит легенда, в ту первую встречу молодой актер был страшно взволнован и ничего связного сказать так смог. В довершение разговора Костолевский опрокинул в прихожей вешалку, пролил кофе и запутался в телефонном шнуре. Однако режиссер оказался снисходительным к молодому актеру и своего первоначального решения – пригласить его на роль – не изменил.
Между тем чиновникам из Госкино кандидатура Костолевского не понравилась, они заявили, что «этот актер на революционера не похож». Мотыль же, видя, что, действуя напрямую он победы не одержит, пошел на хитрость: пообещал Костолевского заменить, сам же, в обход мнения чиновников, начал снимать его в роли Анненкова. Но здесь режиссера едва не подвел сам актер. Играл он поначалу плохо, неуклюже и на блестящего кавалергарда явно не тянул. Коллеги Мотыля по съемочной площадке советовали режиссеру, пока не поздно, заменить Костолевского другим исполнителем. Но Мотыль с окончательным решением не спешил. Вместо этого он начал снимать эпизоды с участием других актеров, а Костолевского почти на два месяца отправил на ипподром – учиться держаться в седле. Далее – слово В. Мотылю: «Наконец мы стали снимать эпизод конной прогулки Ивана с Полиной Гебль (в этой роли снималась польская актриса Эва Шикульска. – Ф. Р.). Помните, когда он осыпает ее цветами? Съемочная группа предвкушала веселые минуты. Но все буквально онемели, когда увидели вчерашнего увальня, который красиво и уверенно держался в седле и без дублера проделывал прямо-таки цирковые номера. А что же киноначальство? Проглотило, будто и не было запрета...»
А вот как сам актер вспоминает съемки в этом фильме: «Моя первая большая работа в кино началась с казуса. Меня должны были снимать в одной из камер Петропавловской крепости. В кандалах приковали к стене, установили осветительные приборы и... забыли обо мне. Целых 4 часа я дрожал от холода в камере, думал, что так и надо. И вот обо мне вспомнили, прибежали. Стали снимать эпизод, где Полина предлагает Анненкову бежать, а он отказывается: не может бросить друзей. Так вот, партнерша мне говорит, а я настолько задубел, что языком не могу повернуть. И слезы вдруг брызнули. «Все, – подумал я, -завалил съемку». Но оказалось, что этот эпизод – один из лучших в фильме».
Фильм «Звезда пленительного счастья» был тепло принят публикой и собрал на своих сеансах 22 млн. зрителей.
Критик М. Швыдкой так написал о работе И. Костолевского в этой картине: «После премьеры фильма дебютант «проснулся знаменитым». Всем стало ясно, что природа наделила его качествами замечательными, не проявляющимися, пока он сам не поверил в себя, в свои возможности увлечь зрительный зал, в умение управлять своим телом, в способности сопереживать чужим страданиям. В кинематограф пришел артист, обладающий, можно сказать, завидными физическими данными, хорошо сложенный, обаятельный, естественный, интеллигентный – словом, являющий собой тип героя почти идеального, для доказательства победительности которого и не требуется, как кажется, дополнительных душевных затрат».
Успешный дебют молодого актера заставил многих кинорежиссеров обратить на него внимание. В итоге в конце 70-х – начале 80-х годов Костолевский был одним из самых снимаемых актеров советского кино. Назову самые известные фильмы с его участием: «Повторная свадьба» (1976), «Весенний призыв», «Степанова памятка» (оба – 1977), «Ася», телефильмы «И это все о нем» и «Безымянная звезда» (все – 1978), «Гараж» (1980), «Тегеран-43» (1981). Четыре последние картины сделали Костолевского суперзвездой советского экрана. Причем роли, исполненные актером в них, были совершенно разными по своему характеру. В фильме «И это все о нем» он сыграл целеустремленного комсомольского вожака Евгения Столетова (в 1978 году сам актер вступил в КПСС), в «Безымянной звезде» провинциального учителя Мирою, в «Гараже» благополучного профессорского сынка, в «Тегеране-43» супермена-разведчика Андрея Ильича. Последний фильм стал лидером проката в 1981 году – 1-е место, 47,5 млн. зрителей.
Критик А. Колбовский, касаясь работ Костолевского в кино, писал: «Невписание, выпадение из реальности играли многие. Одни, как, скажем, социальные герои Михаила Ульянова, выламывались из пошлой, бездарной соцсистемы с треском и грохотом. Инородность героев Игоря Костолевского была другой. Они все, во-первых, обладали нравственным достоинством, неспособностью подличать. Во-вторых, их протест пассивен, он не Поступках – в образе мышления, в отстраненности от реальности, иногда в пересмеивании ее постылой глупости.
Вообще-то думающий герой – не самое распространенное явление в нашем кинематографе...»
Одновременно с успехом в кино к Костолевскому пришел и театральный успех. Начиная с эпизодических ролей на сцене Театра имени Маяковского, он к началу 80-х годов получил несколько больших ролей в спектаклях: «Летят перелетные птицы» (роль ученого), «Дело Сухово-Кобылина» (князь), «Смотрите кто пришел!» (Кинг), «Правда хорошо, а счастье – лучше» и др.
В начале 80-х Костолевский женился. Его избранницей стала молодая актриса Театра сатиры Елена Романова.
Е. Романовой ее мама прочила совсем другую профессию – переводчика, так как сама давно работала в этой области. Однако дочь с детства мечтала об актерской карьере и с упоением играла в школьном драмкружке. После окончания десятилетки Елена втайне от мамы поступила в Театральное училище имени Щукина, однако, когда это обнаружилось, мама потребовала, чтобы дочь пошла на компромисс: поступила и на инязовские курсы. Так что через несколько лет Елена получила два диплома: об окончании училища и курсов.
Судьба свела ее с Костолевским в 1981 году на Калининском проспекте, у стоянки такси. Вот как она сама вспоминает об этом: «Имя Костолевского меня тогда мало беспокоило. Просто талантливый актер, думала я. И вот однажды, это был май, настроение премьерное, я решила остановить такси. Стал накрапывать дождик, я жутко боялась простудиться – первый спектакль, центральная роль, и у кого! – у Андрея Александровича Миронова (в его постановке «Бешеные деньги»). Поднимаю руку (впереди меня двое мужчин), один поворачивается и довольно резко заявляет: «Если вы на такси – будете за нами». Вижу – Костолевский. Я отвечаю: «Не к лицу популярному актеру быть таким невежливым». Он мне начинает объяснять, что ему в театр – работать. «А я тоже в театр!» – парировала я. Выяснили, что я играю у Миронова, а у Игоря там работает друг, второй режиссер, и он Игорю даже обо мне рассказывал. Но подошли сразу две машины, разговор оборвался, и мы разъехались...
Впечатления на меня он тогда не произвел. Я только мельком подумала: какой, видимо, избалованный человек, не может даму в такси пропустить. А на следующий день ко мне вдруг подошел тот самый режиссер и тихо осведомился: «Лен, ты случаем не лошадь?» Я прямо-таки обомлела: «В каком смысле?!» – «По гороскопу, – успокоил он меня. – Не волнуйся... Но это хорошо, что ты не лошадь».
Я потом поняла, что это Костолевский таким образом наводил обо мне справки. Кто-то ему наворожил – все, что угодно, только не лошадь! Вот он и интересовался... Наконец у меня премьера! Выхожу на сцену – волнение жуткое. Вдруг со второго ряда дикий хохот. А смеется Игорь громко, заразительно. Но у меня-то – первая роль. Ах, думаю, невоспитанный человек! И про такси вспомнила, и слова роли чуть не забыла. Но собралась, спектакль отыграла. А в конце получаю от него огромный букет...
А потом Игорь оказался на высоте – такого напора в сочетании с обаянием, деликатностью и заботой я еще не встречала. Если бы он предстал суперменом, как в «Тегеране-43», или благополучным хлыщом, как в «Гараже», я бы никогда не сделала выбор в его пользу. Но, оказывается, за «лихим» имиджем стоял Человек. Ранимый, неуверенный в себе и очень добрый. Моя позиция, что я никогда не выйду за актера, сильно пошатнулась. Боже мой, думала я, неужели бывают мужчины, сочетающие столько достоинств, находясь в привилегированном положении. Он же купался в славе и поклонении. Но не оставлял меня вниманием и заботой, вникая даже в творческие проблемы. А когда мы уехали на гастроли в Новосибирск – не поверите, прислал мне туда кипятильник! Мне кажется, этот кипятильник решил все!..
После моего возвращения с гастролей мы вместе с Игорем стали сниматься в фильме «Отпуск за свой счет» (телефильм режиссера Виктора Титова, 1981 год. – Ф. Р.). И он несколько раз, как бы невзначай, обронил: «Вот поженимся, будешь мне суп варить...» Я про себя думала: «О, ужас, я совсем не умею готовить суп!» Мы два раза подходили к загсу, но разворачивались и возвращались обратно. Я никак не могла решиться. Но на третий раз...»