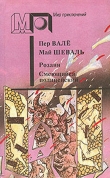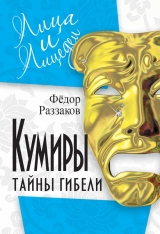
Текст книги "Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Кумиры всех поколений"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Владимир КОНКИН
В. Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове в семье военного. Его отец во время войны служил в учебном подразделении, готовил младших авиаспециалистов для фронта. В отставку вышел в звании капитана.
Володя с детства увлекался историей и после окончания школы собирался посвятить себя служению богине Клио. Однако судьба повернула иначе. Однажды Конкин встретил приятеля, с которым не виделся несколько лет. Тот обмолвился, что занимается в театре «Молодая гвардия» при Дворце пионеров и предложил попробовать себя на театральном поприще и Конкину. Тот внял совету и вскоре переступил порог Дворца пионеров. Но руководитель театра развел руками: «Вы для нас, молодой человек, уже стары». Так, ни с чем, Конкин тогда и ушел. Но история на этом не закончилась.
Однажды перед самой премьерой заболел исполнитель главной роли в спектакле про Иванушку-дурачка. Стали спешно искать ему замену и вспомнили про Конкина. Долго уговаривать его выйти на сцену не пришлось, и через несколько дней состоялся его сценический дебют. Был он настолько удачен, что сразу после премьеры ему предложили место в коллективе театра.
В 1968 году Конкин поступил в Саратовское театральное училище имени И. Слонова (курс Д. Лядова). Закончив его в 1972 году, он был распределен в труппу Харьковского театра юного зрителя. Уехал туда один, оставив беременную жену в Саратове.
Со своей женой – Аллой Выборновой – Конкин познакомился в конце 60-х при следующих обстоятельствах. Ее мама была классная руководительница будущего Шарапова. Однажды Алла пришла в школу на традиционную встречу выпускников И встретилась с Конкиным. Однако то знакомство оказалось шапочным, и молодые люди расстались. И только через год, на очередной встрече выпускников, Конкин вновь осмелился к ней подойти и предложил свою дружбу. Молодые начали встречаться. В 1971 году (Конкин тогда заканчивал театральное училище, а Алла иняз) они поженились. 4 мая 1972 года на свет появились близнецы: Святослав и Ярослав.
День, когда у Конкина родились сыновья, круто изменил и творческую судьбу молодого актера. Из Киева на его имя пришла телеграмма из съемочной группы фильма «Как закалялась сталь» с просьбой срочно прибыть на пробы (Конкина случайно обнаружил ассистент режиссера Олег Фиалко, просматривая портреты недавних выпускников Саратовского театрального училища). Актер поначалу воспринял это приглашение как розыгрыш: накануне сгорел харьковский ТЮЗ, где он работал. Однако коллеги убедили его в подлинности происходящего, и уже на следующий день Конкин отправился по вызову.
Очередную экранизацию романа Н. Островского «Как закалялась сталь» (третью по счету, на этот раз телевизионную) решил предпринять режиссер Николай Мащенко. Прибывшего в Киев Конкина он поначалу утвердил на эпизодическую роль, затем доверил ему роль Цветаева – антипода Корчагина. Однако по ходу съемок исполнители ролей Павла Корчагина и Тони Тумановой (Николай Бурляев и его тогдашняя супруга Наталья Бондарчук) творчески перестали его удовлетворять и он решил искать им замену. Перебрав множество актеров, он наконец остановил свой выбор на Владимире Конкине и актрисе Театра Драмы и комедии на Таганке Наталье Сайко.
Н. Мащенко вспоминает: «Почему мы выбрали Конкина? Прежде всего до проб, до того, как он убедил нас в своей актерской одаренности, при первом же знакомстве нельзя было не заметить чистоту его взгляда, неискушенность, природную непосредственность. В нем есть нечастое сочетание простоты и интеллектуальности. Он убеждает и тогда, когда он рабочий, солдат-буденновец, и тогда, когда берет в руки карандаш, пишет книгу...»
Съемки фильма проходили летом-осенью 1972 года и всю первую половину 1973 года на Украине. Конкину они поначалу Давались тяжело. Многое у него не получалось в силу естественен для дебютанта скованности, а режиссер, вместо того чтобы помочь актеру, порой на него еще и покрикивал. По воспоминаниям актера Леонида Перфилова (в фильме он играл кулака), однажды он не выдержал и после очередного разноса режиссера отвел Конкина в сторону и сказал: «Как ты можешь позволять на себя кричать?! Ведь ты же актер! Ты должен научиться за себя постоять».
Кстати, сам Перфилов подобного обращения с собой не терпел. После того как однажды Мащенко принялся его распекать за то, что он на пять минут опоздал на съемочную площадку, Перфилов развернулся и уехал в гостиницу. Буквально через час после этого режиссер лично пришел к нему в номер, извинился и уговорил вернуться на съемки. Для съемочной группы поступок Перфилова был чем-то сродни подвигу.
Во время съемок эпизода на кладбище, где Корчагин произносит свой знаменитый монолог: «Самое дорогое у человека -. это жизнь...», Конкин внезапно потерял сознание. Дело было так.
Еще в школе этот хрестоматийный монолог Конкину никак не давался. Однажды он даже схлопотал за него единицу. И вот теперь ему вновь предстояло с ним встретиться. Поэтому день накануне съемок прошел для актера в усиленной зубрежке и репетициях перед зеркалом. Вечером он специально лег пораньше, чтобы выспаться и утром повторить его с новыми силами. Однако отдохнуть актеру не дали. Несмотря на то, что номер в шепетовской гостинице Конкину выделили самый лучший – двухместный, однако замок в двери был испорчен и открывался только снаружи. Поэтому актер вынужден был на ночь дверь не запирать. И поплатился за это. Ночью его разбудил какой-то шум, он включил свет и увидел незнакомого мужчину, в дымину пьяного. Судя по тому, что незнакомец был раздет (в трусах и майке), Конкин понял, что тот ошибся дверью. Видимо, он шел в туалет, но перепутал дверь и оказался в его номере. Однако, зайдя внутрь, незнакомец по инерции захлопнул дверь, и открыть ее теперь могли только снаружи. Что делать? Конкин счел за благо не связываться с пьяным и кое-как уложил его на свободную кровать. И выключил свет.
После этого прошло минут двадцать и Конкин, повторяя про себя завтрашний монолог, заснул. Однако сон его длился недолго. Разбудил его вновь посторонний шум, а точнее – журчание за спиной. Конкин вскочил с постели, включил свет и обомлел – незнакомец стоял у стены и, приспустив трусы, отправлял свою малую надобность. Конкин от возмущения завопил так громко, что на его крик прибежала чуть ли не вся гостиница и увела исканного посетителя. Но на этом злоключения актера не закончились.
Встав в шесть часов утра, он наскоро умылся и отправился на грим. Пока ехал, видел, как по улицам Шепетовки идут люди во всем черном, откликаясь на просьбу съемочной группы участвовать в массовке на кладбище. Конкина это так тронуло, что он почувствовал небывалый прилив энтузиазма и понял, что не имеет права сегодня играть плохо. Однако этот прилив сохранялся несколько минут – до памятника-захоронения погибшим на войне при освобождении Шепетовки. Когда машина поравнялась с ним, Конкин внезапно увидел мужчину, который, качаясь из стороны в сторону, стоял у памятника и отправлял ту же надобность, что и его ночной «гость». Возмущению актера не было предела. Выскочив из машины, он набросился на пьянчужку, повалил его на землю и схватил за горло. К счастью, водитель, который оказался здоровым малым, сумел предотвратить смертоубийство. Он оторвал Конкина от пьянчужки и затащил обратно в автомобиль. При этом ему еще пришлось несколько минут вырывать у разъяренного актера ботинок незнакомца, который Конкин стащил с него во время потасовки.
И вот в таком состоянии актер наконец попал на съемочную площадку. Там уже все было готово к работе: вокруг вырытой могилы стояли люди, выстроился почетный караул солдат в буденновской форме. Дали команду «Мотор!», и несколько человек понесли на руках гроб с телом погибшего. Конкин же никак не мог сосредоточиться. Перед глазами стояли пьяные рожи двух незнакомцев, в ушах слышалось журчание. Что делать? Усилием воли актер заставил себя забыть о недавних приключениях и представил, что в гробу лежит его самый близкий друг. И это подействовало. Слезы потекли из его глаз, губы задрожали. А следом за этим зазвучал и монолог: «Самое дорогое у человека – это жизнь...»
Когда эпизод был отснят, довольный режиссер бросился к Конкину, чтобы уговорить его снять еще один дубль. Но это было Уже не в силах актера. Как только прозвучала команда «Стоп!», он рухнул на землю без сознания...
Щестисерийный телефильм «Как закалялась сталь» вышел на экраны страны в 1973 году. На следующий день после премьеры Конкин «проснулся знаменитым». Он стал заслуженным артистом Украинской ССР (1974), лауреатом премии Ленинского комсомола, был приглашен на работу в Москву – в труппу Театра имени Моссовета. Получил несколько интересных ролей в кино: у Андрея Михалкова-Кончаловского в «Романсе о влюбленных» (1974) сыграл брата главного героя Сергея, у Бориса Ивченко в «Марине» (1975) – подпоручика Бориса Извольского.
В 1974 году Конкин покинул труппу Театра имени Моссовета и стал штатным актером киностудии имени Довженко. Через два года именно там актер снялся в одном из лучших своих фильмов – картине Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты» (Конкин сыграл лейтенанта Суслина). После успеха этой картины (в прокате 1977 года она заняла 7-е место, собрав 35,8 млн. зрителей) на Конкина обратил внимание Станислав Говорухин, который в мае 1978 года на Одесской киностудии приступил к съемкам телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя» по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия».
Отмечу, что кандидатура Конкина на роль Владимира Шарапова вызвала яростное сопротивление со стороны авторов книги. В этой роли они видели кого угодно (Александра Абдулова, Сергея Никоненко), но только не Конкина. Но Говорухин был непоколебим: «Буду снимать Конкина!»
Вспоминает В. Конкин: «То, что я сыграл Шарапова, – это прежде всего заслуга Станислава Сергеевича Говорухина. Все остальные были категорически против моего участия в этой картине, но Говорухин меня отстоял.
Помню, в один из первых наших разговоров он объяснял: «Понимаешь, мне нужна антитеза Жеглову. Зная характер Высоцкого – напористый, пружинистый, с шипами, я убежден, что он просто создан для роли Жеглова. А в тебе есть то, что я увидел еще в «Как закалялась сталь». Там ты строил узкоколейку и махал шашкой, но в тебе чувствовалась интеллигентность, порода. Кувалду ты сжимал тонкими, чуткими руками. Вот твоя интеллигентность и необходима мне в качестве противовеса напору, натиску и темпераменту Высоцкого. На этом контрасте я и хочу строить ваш дуэт».
Работа началась, но первые результаты никому не понравились. Тогда вдруг, совершенно неожиданно, Станислав Сергеевич сказал фразу, которая меня просто сразила наповал: «Володя, ты меня предаешь! Я так тебя отстаивал, а у нас ничего не получается...»
Наверное, Говорухин не хотел меня обидеть. Должно быть, слово «предательство» для него значит гораздо меньше, чем для меня. Но я почувствовал себя уязвленным, униженным – как будто пощечину получил. И впервые отчетливо понял: никому я в этой картине не нужен.
Тогда я тихо собрал свой чемодан и уже решил было уезжать, как вдруг в дверь моего гостиничного номера постучал Виктор Павлов, с которым мы должны были сниматься в прологе картины. Этот пролог был в сценарии, но не вошел в картину: там мы показывали кусочек фронтовой биографии Шарапова и Левченко (эту роль как раз и играл Павлов). Потом пролог почему-то вырезали и, наверное, правильно сделали: в результате встреча Шарапова и Левченко в пятой серии картины вышла более неожиданной, более напряженной и психологически сильной...
Так вот, Витя Павлов спрашивает: «Чего это ты чемодан собрал?» «Да вот, Вить, уезжаю я. Не могу больше работать в такой обстановке, когда все тебя не любят, не понимают, а теперь еще и в предательстве упрекают. Да и Высоцкий давит, как танк, ничего не слушает, тянет одеяло на себя...» А именно так и было, чего скрывать? Не знаю, может, кому-то и приятно, когда на него орут. Мне приятно не было, у меня просто руки опускались...
А Вите Павлову я буду по гроб жизни благодарен. Он взял сценарий и говорит: «Ладно, давай пойдем подышим. На поезд ты еще успеешь, я тебя даже провожу». Мы вышли на улицу. Смеркалось. А неподалеку от нашей гостиницы был то ли институт марксизма-ленинизма, то ли еще что-то в этом роде, и там стояли на пьедесталах Маркс и Ленин. Вот в этих декорациях Витюша начал читать сценарий. Как смешно было!.. Мне и в голову прийти не могло, что это, оказывается, просто комедия, водевиль, канкан на тему борьбы с бандитизмом! По крайней мере в интерпретации Витюши все выглядело именно так. Он вообще Прекрасный рассказчик, знаток анекдотов и всяких смешных историй. Как он читал!!! И в обнимку с Карлом Марксом, и в обнимку с Лениным... Я просто умирал от смеха! В общем, ему удалось вырвать меня из атмосферы всеобщей агрессивности, поддержать и успокоить. Мы вернулись в гостиницу, распили бутылочку сухого вина, и я, умиротворенный, заснул. Наутро моих страданий и след простыл, и я уже был готов к дальнейшей работе...
Между тем налет «паханства» в картине определенно присутствовал. Все выбрали себе идола, на которого молились. Слово Высоцкого было непререкаемо. Почему? Так ведь не должно быть, кино – детище коллективное. Но перед Владимиром Семеновичем, царство ему небесное, все плясали на задних лапках. Я ничего дурного сказать не хочу: он был очень одаренным артистом, его песни насыщены уникальным проникновением в суть человеческого бытия и существа. Но если он что-то или кого-то не принимал, то шел в этом своем неприятии до конца. Притом зачастую бывал совершенно не прав... Теперь многие почему-то считают, что мы были друзьями. Увы, нет: жесткость в наших отношениях, к сожалению, доминировала».
Фильм «Место встречи изменить нельзя» вышел на телевизионные экраны в ноябре 1979 года. После его премьеры Владимира Конкина иначе, чем Шарапов, никто из зрителей уже не называл. Эта роль стала его визитной карточкой, навсегда отодвинув в сторону образ Павки Корчагина.
В том же году Конкин вновь вернулся на театральную сцену и попал в труппу Театра имени Ермоловой. На этой сцене он сыграл несколько крупных ролей в спектаклях: «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Товарищи-граждане» В. Шукшина, «Казанский университет» Д. Валеева, «Старший сын» А. Вампилова.
Так получилось, что в 80-е годы Конкин практически не снимался в большом кино, предпочитая работать на телевидении. Поэтому из 12 фильмов, в которых он снялся в то десятилетие, 10 – телевизионные. Назову их все: «Путь к Софии», «Переходим к любви» (1982), «Отцы и дети», «За ночью день идет» (оба – 1984), «Тетя Маруся» (1986), «Певучая Россия» (1987), «Нетерпение души» (1988), «Гражданский иск», «Дубровский», «Мудромер» (все – 1989).
В 1988 году Конкин в очередной раз сменяет место работы – переходит в театр-студию под руководством Е. Радомыслянского.
В том же году в его семье случилось прибавление – родилась дочь София.
В отличие от предыдущего десятилетия, в 90-е годы Конкин снимается мало. На его счету роли в фильмах: «Последняя осень», «Лифт для промежуточного человека» (ТВ, 1991), «Исчадие ада» (1992), «А спать с чужой женой хорошо?» (1993), «Бульварный роман», «Мы не вернемся» (оба – 1995).
В 1991 – 1994 годах Конкин работал в труппе театра «Эрмитаж». Это был уже пятый театральный коллектив, в котором он успел поработать за последние 20 лет. На вопрос, почему он сменил так много коллективов, Конкин ответил: «Я не умею лизать анальные отверстия. В отличие от многих моих сотоварищей по театральному цеху, которые, как перевертыши, готовы угодить любой власти: «Вдруг косточку подадут?»
В 1995 году режиссер театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко пригласил Конкина на главную роль – Захара Бардина – в спектакль «Враги» по пьесе Горького. И вот что удивительно: женой Конкина по пьесе стала актриса Наталья Сайко – та самая, которая 23 года назад сыграла возлюбленную Павки Корчагина Тоню Туманову в фильме «Как закалялась сталь».
Сегодня Конкин живет в Москве вместе с женой Аллой, дочерью Софией и собакой. Двое взрослых сыновей – Святослав и Ярослав – создали собственные семьи и живут отдельно. По стопам отца они не пошли – стали художниками-реставраторами. Хотя возможность стать артистами у них была.
Рассказывает В. Конкин: «В 1983 году мы снимали «Отцов и детей», мои мальчики играли там Федьку и Петьку в имении Базаровых. В один из съемочных дней стояла ужасная жара – дело было летом, – а на солнце прицепилась маленькая тучка, испортила нам освещение. Съемочная группа ждала, когда тучка уйдет. А мальчишки есть мальчишки: увидели метрах в пятистах стог сена и, никому ничего не сказав, убежали с этого стога кататься. Тучка ушла, надо начинать съемку, а их нет. Наконец нашли. Они, конечно, сразу все поняли, что не правы, но я уже Удержаться не мог и орал на них так, что даже режиссер испугался. Наверное, это была истерика, но на мальчишек она произвела Неизгладимое впечатление и желание сниматься в кино отбила...
Я за своих детей спокоен. Мы их наставляли как могли. В школе у них я побывал дважды – в первом классе и в десятом, Когда аттестаты вручали. Но мама всегда была дома, при детях. Они не пьют и не курят, что тоже воспитание супруги. В милицию нас ни разу не вызывали. Если бы вызвали, я, наверное, сразу бы умер...
Я молю Бога, чтобы и София не пошла по моим стопам. Она очень подвижная девочка, все время устраивает какие-то представления, спектакли, импровизирует, всех смешит. Но актерская профессия – жестокая, не девичья. Я мечтаю, чтобы дочка стала такой же, как моя супруга, – мамой своим детям, чтобы создавала надежный тыл будущему мужу. Супруга сам ей хочу выбрать...»
А теперь послушаем, что говорит В. Конкин о себе и своей супруге Алле: «Терпеть такого, как я, – это чудо. Я ведь свою фамилию вполне оправдываю. Лошадиная фамилия. Я и взбрыкнуть могу, взорваться, способен на неожиданные импульсивные поступки, о которых сам потом жалею. Наша семья исповедует православие, и Аллочка человек очень религиозный, что, видимо, дает ей силы и терпение. Она надеется, что я стану лучше. И я ей бесконечно благодарен за то, что она не только родила мне троих детей, но и сумела создать дом, которым можно гордиться...»
Ольга ОСТРОУМОВА
О. Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в Куйбышеве. Ее отец был учителем, мать – домохозяйкой. Из-за происхождения отца – он был сыном священника – семья Остроумовых долгое время считалась социально неблагонадежной и подвергалась притеснениям. Сменив в поисках лучшей доли несколько городов, семья Остроумовых наконец осела в Куйбышеве. Вскоре на свет появилась Оля – четвертый, самый младший ребенок в семье.
Несмотря на то, что учительской зарплаты отца едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами, праздники в семье Остроумовых справлялись всегда. Папа покупал детям нехитрые гостинцы, мама пекла пирожки.
Еще одним «священным ритуалом» в семье Остроумовых было чтение. В доме была чудесная библиотека, в которой заботливыми руками отца были собраны сотни замечательных книг – от философских трактатов до приключенческой литературы. Как вспоминает О. Остроумова: «Папа сажал нас на диван, мы прижимались к нему, и он начинал читать вслух. До сих пор помню то ощущение тепла и мира...»
Закончив школу в 1965 году, Ольга внезапно решила отправиться в Москву – учиться на артистку (в качестве запасного варианта, в случае провала в театральный институт, Остроумова собиралась стать воспитателем в детском саду). Несмотря на то, что в столице у Остроумовых из родственников или знакомых не было никого, родители девушки восприняли ее заявление очень спокойно. Мама только спросила: «У кого же ты будешь жить в незнакомом городе?» На что Ольга уверенно сообщила: «А всем абитуриентам на время экзаменов предоставляют комнату в общежитии». Ольга, конечно, соврала, но сделала это из чистых побуждений – надо же было как-то успокоить родителей. Видя, что дочь полна решимости сделать все, как задумала, мать не стала больше возражать. «Если надумала – езжай», – сказала она и напекла дочери в дорогу пирожков.
Приехав в Москву, Ольга отправилась на поиски ГИТИСа, точного адреса которого она, естественно, не знала. К сожалению, и многие москвичи, к которым она обращалась за помощью, ничем ей не смогли помочь и только в недоумении пожимали плечами. Наконец через справочное бюро Ольга узнала нужный адрес и только ближе к вечеру добралась до заветного института. Однако во время собеседования, где Остроумова вдохновенно прочитала стихи Рождественского, экзаменаторы ее внезапно обескуражили. «Вам, девушка, надо выбрать другую профессию. У вас внешность героини, а голос детский».
О. Остроумова вспоминает: «То ли от нервов, то ли от усталости, я разревелась. Вообще-то я стараюсь не плакать, тем более прилюдно. Но мне было так обидно, что все случилось так быстро. Я вполне могла подумать, что срежусь на первом, на втором туре... И под какой-то лестницей случились даже не слезы, а самый настоящий обвал. Меня утешают, и помню, чей-то голос, наверное, старшекурсника, дает мне четкие и категоричные установки, что читать и как себя вести. Как ни смешно, но это он посоветовал мне идти на первый тур, сказав парадоксальную для актрисы фразу: «Что, думаешь, тебя запомнили?» Не знаю, помнит ли меня этот человек, стал ли он артистом, но я его никогда не забуду.
А потом пошла в деканат и спросила об общежитии. Особо не упрашивала, просто просила. А о том, что уже завалилась на Консультации, промолчала. И мне дали койку на Трифоновке. На втором туре я уже плясала что-то русское, очень хорошо у меня получилось: крутанулась, повернулась, ха! На третьем решила повторить, а каблук подвернулся, я свалилась, разорвала чулки. Вот так «легко» я и поступила...»
Остроумова была принята на актерский факультет, в мастерскую В. А. Вронской. Училась с большим вдохновением, играя в студенческих отрывках роли девочек-подростков. Из-за этого уже на втором курсе была приглашена в труппу Театра юного зрителя (тогда в их мастерскую пришел главный режиссер ТЮЗа П. Хомский, он и приметил талантливую студентку).
В 1967 году в ГИТИСе объявился один из ассистентов режиссера Станислава Ростоцкого, который на студии имени Горького приступал к съемкам очередной картины – «Доживем до понедельника». Ассистент искал актеров, внешне похожих на десятиклассников, и пройти мимо Остроумовой, естественно, не мог. Так она сыграла в том фильме роль Риты Черкасовой. Фильм был тепло принят публикой (занял в прокате 16-е место), и Ольгу Остроумову заметили. За последующие два года она сыграла еще в двух фильмах, однако в отличие от дебюта отнести их к разряду удачных нельзя. Речь идет о фильмах: «Город первой любви» (1970) Маноса Захариаса и «Море в огне» (1971) Леона Саакова.
В 1970 году Остроумова закончила ГИТИС и уже в качестве полноправной актрисы была зачислена в штат ТЮЗа. Из наиболее удачных ролей актрисы в этом театре стоит назвать следующие: Елена в «Мещанах», Юлия Джули в «Тени», Лебедкина в «Поздней любви».
В начале 70-х произошли изменения и в личной жизни актрисы. Пробыв несколько лет замужем за своим коллегой – молодым актером, Остроумова внезапно влюбилась в режиссера Михаила Левитина, который ставил в ТЮЗе спектакль «Пеп-пи – Длинный Чулок». По словам О. Остроумовой: «Он влюбился в меня во время примерки костюмов. Я мерила что-то и все время запахивала кофточку на груди. Она распахивалась, а я пыталась прикрыться...»
Стоит отметить, что, как и Остроумова, Левитин в то время тоже был женат. Однако это не помешало влюбленным, забыв обо всем, броситься в омут невероятной любви, со слезами, с надрывом.
О. Остроумова вспоминает: «Левитин всегда был очень магнетическим человеком: он посмотрел на меня, и вдруг я, не предупредив мужа, уехала с ним в Ленинград. Когда мы возвратились обратно, то на эскалаторе метро на Комсомольской, держась за руки, буквально поклялись: приходим домой и объявляем правду. Потому что, как мне тогда казалось, любовь и ложь – вещи несовместимые.
Я приехала и сразу с порога все объявила. А Михаил Захарович сказал... несколько позже.
А что до разлучницы... Что вы, я так любила его жену! Я считала, что она ангел, а я падшая. Единственное мое оправдание – я любила его, а он меня...»
А вот как об этом же вспоминает М. Левитин: «Наша любовь с Ольгой была встречей двух совершенно непохожих друг на друга существ. Я встретил, не сразу даже разглядев, свой единственный идеал – женщину холодноватую внешне, но страстную внутри, безупречно моральную, чистую, хотя и с некоторой такой назидательностью и мудростью, которая никому не нужна.
А она, как я сейчас думаю, встретила то, что ей недоставало в себе: свободу, хаос-карнавал...»
Любовный роман Остроумовой и Левитина длился в течение нескольких лет, пока наконец не завершился законным браком. В 1976 году у них родился первенец – дочка Оля.
Свою «звездную» роль в кино Ольга Остроумова сыграла в 1973 году в фильме своего «крестного отца» в кинематографе – режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...». Причем о том, каким образом она попала на эту роль, существует несколько версий. Согласно первой, Остроумова пришла «поболеть» за своего коллегу по ТЮЗу Андрея Мартынова (он должен был играть Васкова) и во время проб внезапно заявила: «Я сыграю Женьку Комелькову!», взяла гитару и стала петь. И все увидели, что глаза у нее, и правда, Женькины...
Согласно другой версии, Остроумову нашел автор экранизируемой повести Борис Васильев: он шел по коридорам ГИТИСа, случайно увидел Остроумову и разглядел в ней Женьку Комелькову.
И, наконец, последняя версия выглядит следующим образом. Узнав о том, что Ростоцкий собирается экранизировать «Зори...», где Остроумова давно приглядела для себя роль Жени Комельковой, актриса набралась смелости и позвонила ему домой. И хотя страшно боялась предстоящего разговора (в памяти еще были свежи два последних провала в кино, где ей, кстати, тоже Довелось играть военные роли), однако пересилила собственную робость и буквально упросила Ростоцкого позволить ей сняться в пробе вместе с другими претендентками. После некоторых колебаний Ростоцкий такую возможность ей предоставил. И, как оказалось, не пожалел.
О. Остроумова вспоминает: «А зори здесь тихие...» для меня – это прежде всего Ростоцкий. В первую очередь – он. Он нас познакомил с Аней Бекетовой, которая на фронте спасла ему жизнь. И война для меня это тоже – Ростоцкий. Впервые через Ростоцкого я поняла, что на фронте, на войне, все было не так уж сумрачно. Он говорил нам: «Мы никогда больше столько не смеялись, как на фронте. Мы были молоды. А молодость – это великая сила!»
Мы даже не знали, что у него протез. На съемки мы выезжали в шесть утра, а перед этим – в пять – приезжала «скорая» сделать новокаиновую блокаду Ростоцкому. Без этого он не мог надеть протез.
Мы с Катей Марковой параллельно со съемками еще ездили в Москву – играть спектакли. Андрюша Мартынов взял в театре академический отпуск, а мы ездили. И каждый раз везли с собой в Москву грибы, ягоды (фильм снимался в Карелии в течение 7 месяцев. – Ф. Р.). У меня никогда больше не было такой замечательной лесной пищи, как в то время: брусника моченая, черника, грибы... Я собиралась в Москву, а те, кто не был непосредственно занят в съемке, собирали буквально вокруг съемочной площадки грибы и ягоды мне в дорогу. Мне запомнилась там одна деревня: несколько домов вокруг озера-блюдца. Там живут невероятные люди – все дома без замков!..»
На съемках фильма было много забавного. Например, в эпизоде похода в баню актрисы поначалу наотрез отказывались обнажаться полностью – только по грудь. Ростоцкому стоило большого труда уговорить их, при этом напирая больше на идейные соображения: это надо для Родины, для картины. Он тогда сказал: «Убивают не только интеллект и духовность, но и тела, прекрасные женские тела. Вы же любуетесь ими в музеях». Кроме этого, Ростоцкий пообещал, что в момент съемок в бане из мужчин останутся только двое – он и оператор. В конце концов актрисы согласились, не зная, что там будет еще один представитель сильного пола – наладчик паросильной установки. Естественно, когда съемки начались, тот не удержался и стал подглядывать. И так засмотрелся, что на время забыл про свою установку. А когда вспомнил, было уже поздно – давление в ней поднялось выше нормы, и предотвратить взрыв оказалось невозможным. Единственное, что он успел, – это броситься в баню и заорать что было силы: «Ложись!». Все, кто был на съемочной площадке, рухнули на пол, и в это время раздался взрыв. Только по счастливой случайности никто тогда не пострадал. Но это был не последний скандал, связанный с банной сценой.
Как уже упоминалось, по уговору с актрисами в бане из мужчин должны были остаться только двое – Ростоцкий и оператор Вячеслав Шуйский. Причем последний должен был забраться в бочку и, не выходя из нее, вести съемку с одной точки. Однако как только женщины разделись, оператор не выдержал и нарушил договор – вылез из бочки и стал снимать моющихся с разных точек. Будучи людьми дисциплинированными и зная, что каждый метр пленки обходится группе слишком дорого, актрисы сделали вид, что не заметили этого нарушения. Но едва прозвучала команда «Стоп! Снято!», женщины дали волю своим чувствам – они с дикими криками набросились на оператора и едва не растерзали его на части. Столь печального итога оператору удалось избежать только благодаря присутствию поблизости своего коллеги и товарища Станислава Ростоцкого.
Фильм «А зори здесь тихие...» вышел на экраны страны в 1973 году и стал лидером проката – 1-е место, 66 млн. зрителей.
О. Остроумова вспоминает: «К эпизоду в бане зрители отнеслись спокойно. Я получила только одно письмо, из тюрьмы. Оно начиналось словами: «Наша лаг. администрация...» А дальше о том, что на 7 Ноября им показали «А зори здесь тихие...». Как хорошо девочки защищали родину. И вдруг с красной строки: «Но как ты могла!!!» И дальше шла такая отповедь, что если я не замужем, то как же я собираюсь выйти замуж, родить ребенка. Заканчивалось письмо вопросом: «По той ли дорожке ты идешь?»
Боже мой, какие же мы были наивные! Я растерялась, чуть не Плакала, хотя была уже замужем...»
Касаясь работы Остроумовой в фильме «А зори здесь тихие...», критик Л. Калгатина писала: «В Женьке Комельковой был удивительный сплав тонкости и шокирующей дерзости, Хрупкой женственности и вызывающей экстравагантности, мягкости и дикарской неукротимости, ранимости и ожесточенности. Всю роль Остроумова вела на тонком нервном сопряжении разнородных качеств – это и составило существо и энергию экранного образа...»