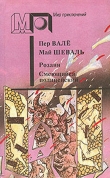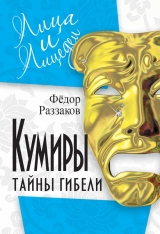
Текст книги "Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Кумиры всех поколений"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
1973
Леонид БРОНЕВОЙ
Л. Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Его отец имел богатую военную биографию: воевал с 14 лет за красных, после гражданской войны попал в аппарат НКВД и к середине 30-х годов дослужился до звания генерала. Во время сталинских чисток ему повезло: в отличие от многих чекистов, которых тогда расстреляли, его вместе с семьей отправили в ссылку в поселок Малмыш Кировской области. Было это в 1937 году, когда Леониду было всего 9 лет.
В 1941 году Броневым было разрешено вернуться в Киев, однако переезду помешала война – им пришлось отправиться в Чимкент (Южный Казахстан). Леониду, чтобы прокормить семью, пришлось параллельно с учебой и работать: он был разнорабочим, пекарем, секретарем-машинисткой в исполкоме, рабочим в кукольном театре. В 1944 году он закончил семь классов и поступил в вечернюю школу. Там за один год он умудрился сдать экзамены за восьмой, девятый и десятый классы. Однако из-за того, что он считался сыном врага народа, мать ему объяснила, что путь в журналистику или дипломатию, которыми он хотел заниматься, ему заказан. «Поэтому, сын, иди в театральный,» – посоветовала ему мать. Так он и сделал. Поступать в Москве он не мог, поэтому отправился в Ташкент. Подал документы в Институт театрального искусства имени А. Островского и с первого же захода поступил. Проучился в нем до 1950 года. Затем в течение трех лет работал в театрах Магнитогорска и Оренбурга. В первом своем спектакле – «Анна Каренина» – Броневой сыграл Капитоныча и реплика у него была всего лишь одна: «Ваше превосходительство».
После смерти Сталина Броневой наконец решился поехать в Москву. В августе 1953 года подал документы в Школу-студию МХАТ. В экзаменационной комиссии сидели одни корифеи: Топорков, Грибов, Массальский, Кедров и другие. Однако Броневому удалось покорить их своей игрой, и его приняли сразу на третий курс. Так он получил второе высшее образование.
Закончив Школу-студию в 1955 году, Броневой вновь вынужден был отправиться в провинцию: сначала в Грозный, затем в Иркутск, Воронеж. На сцене этих театров он играл разные роли, причем много раз ему приходилось играть реальных исторических персонажей: от Марка Твена до Ленина и Сталина. Во время исполнения этих ролей с актером происходила масса интересных историй. Вспомним лишь две из них.
В спектакле грозненского Театра имени Лермонтова «Кремлевские куранты» Броневой играл Сталина. Актер вспоминает: «Вы знаете, что такое для актера молчание зрителей при его выходе на сцену, если до этого зал просто взрывался аплодисментами?! Помню, на первых спектаклях мне казалось, что пушки стреляют (в театре были деревянные сиденья, и оттого, что все резко вставали, стоял ужасный грохот). Такие овации! Бо-оже мой... И вдруг на одном спектакле – тишина. Абсолютная. Конечно, с меня пот градом. Пробормотал, помню, что-то и ушел. Лег за кулисами. Что произошло? Первая мысль была: наверное, у меня расстегнулась ширинка. Все. Это расстрел. Смотрю – нет, все нормально. И грим в порядке. Подошел Тиханович – главный режиссер. Я говорю: «Что же это такое я сделал сегодня?» – «Да ничего ты не сделал! Там просто КГБ сидит – они получили закрытое письмо, разоблачающее Сталина. Это был целевой спектакль, вот никто и не хлопал при твоем выходе». – «Предупреждать же надо! Меня чуть удар не хватил». Тиханович удивился: «Ну не всех же предупреждать. Ты ведь тем более беспартийный». – «Постойте... А как же наша Сталинская премия?» – «Все, тю-тю наша премия. Накрылась!» Я спрашиваю: «И как теперь мне играть послезавтра?» – «Так и играть! Только никаких усов». А Добротину, который Ленина играл, сказал: «А вы скажите, что просите зайти к себе не товарища Сталина, а референта». Так я и играл – с тем же текстом, но уже референта, немножко подхалимничая».
Второй случай произошел с Броневым в Воронеже – на этот раз ему выпала честь сыграть Ленина. Причем за исполнение этой роли его наградили квартирой. Актер рассказывает: «В Воронеж я приехал с беременной женой (она закончила училище имени Вахтангова. – Ф. Р.). Сняли в гостинице маленький номерок. Режиссер театра Шишигин говорит мне: «Ты кого хочешь играть в таком-то спектакле?» – «Ленина». – «Ленина Ожигин будет играть». – «Тогда я прошу меня вообще не занимать». Но почему-то ходил на все репетиции – сидел на галерке. Зачем – не знаю, ведь уже было отказано в роли. Выучил текст. И вот однажды в театре постелили красные дорожки – приехал какой-то большой начальник. Начался спектакль. Степа Ожигин то ли растерялся, то ли неважно себя чувствовал – не понравилась его игра. В конце спектакля наш важный гость говорит Шишигину: «А у тебя другого Ленина нет?» Тот заволновался: «Да есть тут один...» – «Так что же ты?! Где он?» Шишигин как закричит: «Где этот, как его? Береговой, Броневой, Боровой!» – «Я здесь», – говорю. «Спускайтесь вниз немедленно». Шишигин меня спрашивает: «Ты мог бы сейчас Ленина сыграть?» – «Попытаюсь». – «Что для этого тебе нужно?» – «Кепку». Дали мне кепку. И на нервной почве или оттого, что так хотел получить эту роль, я сыграл сцену одним махом. Гость сказал: «Все, пусть он играет». Степа в больницу попал, бедняга.
А я играл. И вот однажды опять разложили красные дорожки. Я отыграл первый акт. Прибегает директор: «Спускайтесь скорее вниз!» А я поправляю грим Ленина. «Да быстрее, быстрее!» Не успев поправить грим, конечно, бегу. На первом этаже толпа: секретарь обкома, начальник КГБ, командующий военным округом. Но никто не входит в комнату, в ней – человек маленького роста в сером костюме. Потом я узнал, что это был секретарь ЦК КПСС Аверкий Борисович Аристов. Он пожал мне руку и, обращаясь к стоящим в дверях, сказал: «Ленин всем нравится». На другое утро звонок: «Вас беспокоят из горкома партии. Сейчас за вами пришлют машину». С ума можно сойти: за мной – машину! Приезжаю. Сидит секретарь и председатель горисполкома. «Вот вам ключи от двух квартир и машина – идите выберите». И то ли от страха перед этой машиной, то ли перед всеми этими «шишками» я выбрал худшее, что мог...»
Между тем для семьи Броневого, ютившейся в маленьком номере гостиницы, и этот худший вариант был неплохим подспорьем. К тому же их пребывание в Воронеже вскоре закончилось – они уехали в Москву. Вызвано это было несколькими причинами, в том числе и печальной – жене Броневого, ввиду тяжелой болезни, требовалась квалифицированная медицинская помощь. Однако переезд в столицу не спас ее от трагического финала – она скончалась. На руках Броневого осталась 4-летняя дочь. Жили они тогда в маленькой комнатке в коммунальной квартире в Среднем Кисловском переулке. В квартире жили восемнадцать жильцов, из них семь – дети. По выходным дням в туалет было не пробиться – взрослым приходилось пропускать детей вне очереди.
В Москве актер попытался устроиться в несколько театров, но его никуда не брали. К примеру, он сунулся было в «Современник» к своим бывшим однокурсникам по Школе-студии МХАТ Ефремову, Табакову, Волчек, однако они его не приняли. Ему тогда сказали: «У тебя нет личной темы». Какую такую тему имели в виду его бывшие однокашники, Броневой не знает до сих пор.
И только главный режиссер Театра имени Пушкина Борис Равенских пошел навстречу Броневому и взял его в свою труппу. Однако серьезных ролей актеру там не доверяли, и он частенько сидел без работы. Например, однажды его не взяли на гастроли и Броневому, чтобы прокормить семью, пришлось зарабатывать на Тверском бульваре игрой в домино. Сегодня ничего подобного уже не практикуется, а в начале 60-х доминошные баталии на деньги были распространенным явлением в Москве. Броневой порой зарабатывал на них рубль в два дня. Причем иногда ему приходилось несладко. Ведь он играл не ради спортивного интереса, а с одной целью – заработать на хлеб себе и дочери. Поэтому, выиграв свой рубль, покидал доминошную арену. А среди игроков это было не принято: там царило правило – играть до победного конца. Броневой рассказывает: «Но я нарушал этот неписаный закон. «Ах ты...» – меня матом как пошлют. Я им объяснял, в чем дело, и потом мне начали прощать то, что с выигрышем я уходил».
В 1961 году Броневой покинул Театр имени Пушкина и перешел в труппу другого столичного театра – на Малой Бронной. А через три года состоялся его дебют в кино – режиссер Иван Лукинский предложил ему роль жандармского полковника в фильме «Товарищ Арсений» (картина рассказывала о первых годах революционной деятельности М. В. Фрунзе). Несмотря на то, что с ролью Броневой вполне справился, однако долгожданного открытия этого прекрасного актера другими кинорежиссерами тогда так и не произошло. В 60-е годы он снялся еще в двух фильмах: «Лебедев против Лебедева» (1965) и «Твой современник» (1967). Последний фильм снял Юлий Райзман, картина была удостоена призов на кинофестивалях в Ленинграде, Карловых Варах и Лагове. Броневой сыграл в ней роль референта министра.
Между тем всесоюзная слава пришла к Броневому в августе 1973 года, когда по телевидению был показан 12-серийный телесериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». В нем Броневому досталась роль группенфюрера СС, начальника IV отдела РСХА (гестапо) Генриха Мюллера.
По воспоминаниям самого артиста, первоначально его пробовали на роль... Гитлера. Была сделана фотопроба, на актера наложили хороший грим. Однако режиссера кандидатура Броневого не удовлетворила (роль сыграл актер из ГДР Фриц Диц). Не устроила Лиознову кандидатура Броневого и на роль Мюллера. Однако второй режиссер – Зиновий Гензер – сумел убедить ее, что Броневой – именно то, что надо.
О своих съемках в фильме Броневой вспоминает следующее: «В самом начале съемок я женился во второй раз – на своей нынешней жене Виктории Валентиновне. День свадьбы совпал с днем начала съемок (картина снималась в 1970 – 1972 годах. – Ф. Р.). Утром мы с несколькими друзьями, взяв шампанского, отправились в загс, оттуда – сразу на съемочную площадку, даже не успев выпить шампанского. Жена тогда расплакалась. Я ей говорил, утешая, что это хорошая примета, значит, всегда будет много актерской работы...
Свою роль я выучил благодаря жене. Монологи были огромные, и ничего нельзя было выкинуть, все были очень хорошие. Так что я попросил жену помочь. Читали, конечно, ночами, днем-то на работе, и она, бедная моя, так вымоталась... Кроме этого, мне надо было знать и текст Штирлица – тогда я мог точно отреагировать, выбрать правильную интонацию, жест. Поэтому, заодно с моей ролью, нам с женой пришлось выучить и текст роли Штирлица...
Я ничего о своем герое не знал, даже фотографий не было, не сохранились... Да и книг про него я тоже не читал. До сих пор не имею о Мюллере никакой информации и его дальнейшей судьбой не интересовался.
Сыгранный мною нервный тик Мюллера – дело случая. Мне сшили мундир, наверное, на размер меньше, чем надо, и он резал мне шею. Из-за этого я все время дергал головой. Лиознова поэтому и спросила меня: «Что это вы делаете?» – «Да мне мундир режет». – «Я не к тому, что вам режет! Не сделать ли это нам краской в самых «нервных» местах?» И она нашла эти места... Кстати, это очень понравилось Марку Захарову. Он говорил потом актерам: «Видите, как можно без слов передать нервное состояние человека?»
Я не думал, что эта роль принесет мне такую известность. Второму режиссеру Зиновию Гензеру говорил: «Тут же нечего играть». А он мне ответил: «Ты даже не представляешь, что тебе принесет эта роль».
Как показали дальнейшие события, режиссер оказался прав. Фильм имел оглушительный успех у зрителей, и все актеры, занятые в нем, пережили настоящий всплеск зрительской любви к себе. Но особенный успех сопутствовал двум актерам: Вячеславу Тихонову и Леониду Броневому. Дело доходило до смешного. Например, группа школьников 3-го класса из Прибалтики прислала Броневому восторженное письмо, в котором благодарила его за сыгранную роль и в конце заявляла: «Дедушка Мюллер, мы все хотим быть похожими на Вас!..»
Даже родной отец актера (а он, как нам помнится, служил в НКВД) был чрезвычайно горд за сына и хвастался этим перед друзьями.
После такого успеха предложения сниматься посыпались на Броневого со всех сторон. В 70-е годы он снялся в двух десятках самых разных картин, из которых я назову лишь некоторые: «Исполняющий обязанности» (1974), «Врача вызывали?» (1975), «Прошу слова», «Концерт для двух скрипок», «Маяковский смеется» (все – 1976), «Вооружен и очень опасен» (1978), телефильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1979).
В 1979 году Л. Броневому было присвоено звание народного артиста РСФСР.
В те же годы партийная организация Театра на Малой Бронной стала активно зазывать Броневого в свои ряды. Однако подавать заявление в КПСС актер не спешил. Дело в том, что еще в 1953 году он подавал такое заявление, но его не приняли, мотивируя отказ тем, что он был сыном врага народа. С тех пор желание стать коммунистом у Броневого пропало. Актер вспоминает: «Я всегда был беспартийным. До сих пор не знаю, как мне «доверяли» роли Ленина, Сталина. Перед партсобранием меня всегда просили покинуть комнату. Однажды я возмутился и спросил, почему я, собственно, не могу поприсутствовать. Мне ничего, кроме «так положено», не смогли ответить. Я рассердился и вышел, хлопнув дверью. Потом мне в характеристиках для поездок за границу на гастроли председатель парткома постоянно писал: «В отдельных местах необходимо поработать над собой».
В театре Броневому доставались роли самого разного плана. Он играл: царей Александра I и Николая I, Капулетти в «Ромео и Джульетте» В. Шекспира, Христофора в «Сказках старого Арбата» А. Арбузова и др. В 1988 году он принял предложение Марка Захарова и перешел в труппу Театра имени Ленинского комсомола.
Броневой рассказывает: «Актер – мнительный, нервный человек. Бывало, щемило, когда я не играл. Одно время я был задействован только в «Мудреце». В одной передаче меня спросили: «Что бы вы сделали, если бы были главным режиссером, а Захаров – вашим актером?» Я пошутил в ответ: «Дал бы играть ему столько, сколько он мне». После этого Марк Анатольевич надавал мне столько ролей... Говорит: «Жаловались? Пожалуйста!» – «Я не жаловался! Я пошутил». – «Нет. В каждой шутке есть доля правды». Я молчу, играю. Потому что нельзя признаваться в своей слабости: никого не волнует, что ты себя плохо чувствуешь...
Я вообще никогда ничего не прошу, это такое суеверие. Никогда не нужно просить – то, что тебе дадут, то, значит, и положено. А если ты попросишь сам, то это накладывает на тебя ответственность и ты – ту же роль – можешь провалить. Я могу работать по 20 часов над одной фразой. Я очень обязательный. Если мне назначили встречу в два, я приду в час и буду ждать. Я и на спектакли прихожу – а надо мной смеются в театре – за полтора-два часа, чтобы еще раз все повторить...»
Что касается кино, то в 80-е годы его приглашали сниматься не так часто, как того хотелось бы. В тот период он записал в свой творческий актив такие фильмы, как: «Агония» (1981), «Покровские ворота» (1982), «Если верить Лопотухину» (1983), телефильм «Формула любви» (1985), «Конец операции «Резидент» (1986), телефильм «Физики» (1988).
В 1989 году Л. Броневому было присвоено звание народного артиста СССР.
Сегодня Броневой по-прежнему играет в Ленкоме, у него три большие роли (Крутицкий в «Мудреце», Дорн в «Чайке», Норфолк в «Королевских играх») и одна маленькая (Потапыч в «Варваре и еретике» по «Игроку» Ф. Достоевского). О последней роли актер рассказывает: «Роль начинается в конце первого акта и заканчивается в середине второго. Я сначала хотел отказаться: у Янковского, Абдулова, Джигарханяна, Чуриковой нормальные роли, а у меня какой-то обрывок... И характер непривычный – абсолютно русский человек, робкий, беспомощный, зависящий от барыни. Но Захаров сказал, что хватит мне играть генералов. Потом уже моя жена предположила, что он это сделал из педагогических соображений, для молодежи. Если Броневой согласился сыграть эпизод, то молодой актер и без слов может выйти... Я выходил когда-то...»
Из последних интервью Л. Броневого: «В общем, я легко живу. Особых трудностей не испытываю. Прежде всего потому, что у нас с женой маленькие запросы. Мы сознательно решили их ограничить. Хорошо, конечно, иметь дачу. Приезжать туда в выходные дни, отдыхать, дышать воздухом. Но к даче понадобится машина – не на себе же продукты таскать. К машине – гараж... И так далее. Нет, лучше уж и не начинать. Поэтому ни дачи, ни машины у нас нет. Есть только двухкомнатная квартира, вырванная с боем 10 лет назад (в 1986 году. – Ф. Р.). Дуров надо мной шутит: «Все, чего ты добился, это двухкомнатной квартиры». Да мне больше ничего и не надо! Я человек самоограничения...
Я не тусуюсь. Я вообще боюсь шумных компаний, не умею вести себя там естественно, становлюсь мрачным и замкнутым. К тому же не люблю этих пустых встреч, разговоров ни о чем. Стыдно за откровенную жратву и питье на экране. Вы оглянитесь вокруг, как люди живут. Смотришь телевизор, и, если бы не был мужчиной, заплакал бы. Всех жалко, и ничем не поможешь... Живите хорошо, но не выпендривайтесь!..
В кино я не снимаюсь. Предлагают мало и в основном ерунду, бесстыдную и пошлую. Вот недавно предложили сняться с голым задом. Я сказал «нет». Потому что я сам умру, а моя голая задница и мой позор останутся навечно».
В 90-е годы Броневой снялся всего лишь в трех фильмах: «Небеса обетованные» (1990), «Старые молодые люди» (1992), «Итальянский контракт» (1993).
«Я считаю, мне на старости лет судьба сделала подарок в лице Захарова. Он не только прекрасный режиссер, но и человек замечательный – тонкий, деликатный. Не выносит сплетен и интриг. Вечно боится кого-то обидеть – актера, директора, критика... Я не смог бы окончательно уйти на пенсию. Сидеть дома, киснуть, ничего не делать, тосковать и в конце концов быстро помереть. Пока ходят ноги, видят глаза и бьется сердце, надо работать...»
Лев ДУРОВ
Л. Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Вместе с родителями и двумя сестрами жил в Лефортово, на Второй Бауманской улице (до войны эта улица называлась Коровий Брод). Его отец работал взрывником, мать – в военно-историческом архиве. Они оба происходили из знатных родов: отец принадлежал к роду Дуровых, мать – к роду Пастуховых.
Дуровы впервые упоминаются в 1540 году, они занимают одну шестую часть геральдической книги России. Они служили при дворе нескольких российских царей: Ивана Грозного, Петра I. Легендарная героиня войны 1812 года Надежда Дурова и цирковая династия дрессировщиков Владимира и Анатолия Дуровых – тоже из этого же рода. А вот род Пастуховых приобрел себе славу на ином поприще – обувном.
Л. Дуров вспоминает: «Моим домом был Лефортовский дворец. Очень интересным был и двор – закрытый, потому что там находился Военно-исторический архив, где работала моя мама. У каждого был свой палисадничек. У въездных ворот стояли два огромных тополя. Однажды я приехал туда с телевидением, и мне милиционер тихо сказал: «Эти два тополя посажены при Петре Первом». На что я ответил: «Да нет, командир, я тебя расстрою, их посадил мой отец». Он говорит: «А эта березка, говорят, еще при Екатерине...» А я снова: «Да нет, это я посадил».
Двор существовал как маленькое государство. Там иногда пролетали шаровые молнии, случались самоубийства, стрелялись даже из-за любви. Помню, как репрессированного начальника архива Юрцина увозили на «эмочке». Там до сих пор сохранились и петровские погреба. Думаю, все это наложило какой-то отпечаток на его жителей. Почему-то все они – даже отъявленная шпана – очень хорошо знали историю района, где и что делал Петр и где стоял его ботик на Яузе...
Мой папа никогда в жизни не пил и не курил. Только раз пришел домой с папиросами в кармане – в этот день его призвали в армию. Во время войны. А бросил курить сразу, едва вернулся с фронта. Отец никогда не произносил бранных слов. Как только он появлялся во дворе, умолкали все матерщинники, которые там играли в карты и в домино. Все, даже блатные. Они считали, что при дяде Косте ругаться нельзя...»
Лев рос мальчишкой очень непоседливым, с непростым характером. Учился он плохо, поэтому в процессе обучения ему пришлось сменить несколько школ. Однако несмотря на это, родители ни разу не повысили на него голос.
Среди дворовой детворы Лев по росту был самым маленьким и за копну светлых волос на голове получил прозвище – Седой. Однажды их многочисленная компания, гуляя по Лефортово, наткнулась на такую же кодлу с другой улицы. Завязалась отчаянная драка. Однако вскоре к месту побоища примчалась, вызванная взрослыми, милиция, и всех драчунов увезли в отделение. А Дурова, из-за его маленького роста, не тронули. Размазывая по лицу слезы, он собрал с земли разбросанные шапки своих товарищей и отправился домой. Там он обо всем рассказал отцу. А тот поступил неожиданно: заставил сына ехать в отделение милиции и разделить судьбу вместе со своими товарищами.
Л. Дуров вспоминает: «После войны в Москве была вспышка блатного мира, голубятни. Я и сам был голубятником, знал все местное ворье. Но не воровал, честно говорю».
Помимо голубей у Дурова в те годы была еще одна страсть – театр. Он занимался в драмкружке Дворца пионеров Бауманского района, у прекрасного педагога С. В. Серпинского. Приобретенные там навыки помогли ему в будущем, когда он после окончания школы подал документы в Вахтанговское училище и Школу-студию МХАТ и был принят в оба заведения. Выбрал же последнее. Его однокурсниками были многие нынешние звезды театра и кино: Т. Доронина, М. Козаков, О. Борисов, О. Табаков, Е. Евстигнеев, И. Кваша, О. Басилашвили и другие.
Во время учебы в студии Дуров познакомился со своей будущей женой – студенткой этого же вуза Ириной Кириченко. В этом браке у них позже родится дочь.
Закончив училище, Дуров собирался связать свою дальнейшую судьбу с МХАТом. Однако О. Ефремов внезапно посоветовал ему идти к нему – в Театр юного зрителя. Дуров согласился. В итоге за 9 лет работы там переиграл кучу самых экзотических ролей: от пуделя Артамона, Чеснока, Репейника и Молодого Огурца до царевича Федора в «Борисе Годунове» и Жаркова в «Как закалялась сталь».
Короткий период Дуров играл и в знаменитом в те годы «Современнике». Причем его приход туда был отмечен скандалом. Что же произошло?
Самым злостным шутником в «Современнике» считался Олег Табаков, который славился своими розыгрышами. Естественно, не мог он обойти своим вниманием дебютанта – Дурова. Зная его смешливый нрав, Табаков повадился каждый раз, когда Дуров выходил на сцену, смешить его, произнося всего лишь одно слово – «колбаса». Так продолжалось до тех пор, пока Дурову это не надоело и однажды он решил опередить Табакова. Выйдя в очередной раз на сцену и встав рядом с Табаковым, он выждал момент и, когда тот собрался было говорить свое заветное слово, выпалил из себя контрслово – «ливерная». И в следующую секунду произошло неожиданное: Табакова разобрал такой смех, что он не выдержал и был вынужден чуть ли не уползти за кулисы. Разразился скандал. Дурова вызвали на ковер и влепили ему строгий выговор за хулиганский поступок во время спектакля.
Будучи молодым безденежным актером, Дуров в те годы часто подрабатывал на всякого рода детских утренниках, новогодних елках. Вместе с коллегами он порой играл по 10 елок в день. Расписание выглядело так: из детского сада – в клуб Горбунова, оттуда – в клуб Зуева, оттуда – в Кремль и опять в детский сад. На одной из таких елок произошел курьезный случай, который мог стоить его взрослым участникам больших неприятностей.
Л. Дуров рассказывает: «В Колонном зале я работал на елке Медведем. Как сейчас помню, вместо Деда Мороза главным почему-то был Владимир Ильич Ленин. Снегурочка была с подарками и зверюшками, а Ленин, стало быть, с добрыми идеями. И вот в конце каждого представления Снегурка, обращаясь в зал, вызывала детей почитать стихи о Ленине. Детишки выскакивали, разумеется, подготовленные, с которыми репетировали день и ночь. И вот однажды спецдетишки что-то замешкались, и Снегурочка взяла мальчика из первого ряда: он громче всех кричал «хочу» и тянул руку. «Мальчик, ты будешь читать стихи о Ленине?» – «О Ленине, о Ленине», – кричит мальчик от нетерпения. «Ну читай». Мальчик встал посреди сцены и продекламировал:
По улице шел зеленый крокодильчик И вдруг обосрался...
У директора Колонного зала, ответственных работников и у дедушки Ленина случился паралич. Мальчику в гробовой тишине всучили плюшевого медведя и усадили на место. Но самое страшное началось потом. Дядька, который привел мальчика на елку, делал вид, что это не его мальчик. А мальчик вдруг понял, что он совершил страшное преступление. И у обоих был такой вид, что не дедушка Ленин, а они обосрались. На лице дядьки читалось, что он уже подбирает место своего будущего жительства – Колыму или Магадан. А мальчик, наверное, думал, где он теперь окажется – в детдоме или тюрьме для малолетних преступников...»
В кино Дурова открыл режиссер Андрей Фролов (автор «Первой перчатки»), который в 1954 – 1955 годах пригласил его в свои комедии «Доброе утро» и «Гость с Кубани». Однако роли там у Дурова были небольшими. А первыми своими серьезными ролями в кино актер обязан режиссеру Анатолию Эфросу, который в начале 60-х возглавил Театр имени Ленинского комсомола и куда в 1963 году перешел Дуров. Эфрос тогда активно работал и в кино и в двух своих картинах – «Високосный год» (1962) и «Двое в степи» (1964) – снял Дурова.
В 1964 году актера пригласил в свою картину «Ко мне, Мухтар!» режиссер Семен Туманов. Дурову предстояло играть одного из преступников, которых преследуют Мухтар и его хозяин, лейтенант милиции Глазычев (Ю. Никулин). Эпизод снимали зимой в строящемся многоэтажном гараже, который продувался со всех сторон. Дуров должен был пробежать по длинному коридору, залезть на стену, и в этот момент его настигал Мухтар. Чтобы обезопасить актера, ему на правую руку надели кожаную крагу (чтобы мог отбиться от собаки), на ноги водрузили две пары брюк, между которыми положили еще специальную прокладку. Затем скомандовали «Мотор!», и съемка началась. Дуров бросился бежать, добежал до стены, но едва подтянулся на руках, как на него сзади набросилась собака. Со всего размаха она ударила его головой между ног, и Дуров от дикой боли разжал руки. В следующую секунду он оказался на полу и увидел, как собака пытается сомкнуть свои клыки у него на шее. Машинально Дуров выставил вперед руку в краге, но пес оказался умнее и укусил актера в левую, незащищенную, руку. К месту побоища первым подбежал Никулин, попытался оттащить пса, но тот его не слушался и продолжал терзать Дурова. И только когда рядом оказался дрессировщик, собаку удалось оттащить от актера.
Когда Дуров поднялся с пола, оказалось, что на нем из одежды остались только крага, сапоги и трусы. Все остальное валялось вокруг в виде небольших лоскутов. На память об этих съемках у Дурова сохранилась пожизненная метка на щиколотке левой ноги: маленькое синеватое пятнышко – след зубов Мухтара.
Когда стали выяснять, почему же пес так озверел, выяснилось следующее: актер Алексей Пархоменко, который играл главного бандита, в перерыве между съемками съел суп, предназначенный Мухтару. Был он из куриных шеек, и актер, промерзший до костей, не избежал соблазна поживиться за счет пса. Вот Мухтар с голодухи и озверел. И свою злобу он выместил на первом же попавшемся ему «бандите» – Дурове.
Из других работ актера в кино в то десятилетие назову следующие фильмы: «Я шагаю по Москве» (1964), «Время, вперед!», «Иду искать» (оба – 1966), «Случай с Полыниным» (1970).
В театре он сыграл роли в спектаклях: «Отелло» В. Шекспира (роль Яго), «Трибунал» А. Макаенка, «Женитьба» Н. Гоголя.
Всесоюзная слава пришла к Дурову в августе 1973 года – после выхода на телевизионные экраны 12-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны». В нем актеру досталась роль провокатора Клауса, которого Штирлиц хладнокровно убивает на берегу пруда. Этот эпизод должен был сниматься в ГДР, однако обстоятельства не позволили Дурову выехать туда. Что же произошло?
В соответствии с положением, которое существовало тогда, каждый гражданин СССР, выезжающий за границу, должен был сначала пройти через фильтр выездной комиссии. В нее обычно входили наиболее рьяные слуги партии, которые в каждом отъезжающем видели в худшем случае потенциального изменника родине, в лучшем – болвана. Вот и Дурова они встретили соответствующим образом. Например, с ходу спросили его: «Опишите нам, как выглядит флаг Советского Союза». Услышав такой вопрос, актер ответил на него сообразно обстановке: «Он выглядит очень просто: черный фон, на нем белый череп и две перекрещенные берцовые кости. Называется флаг «веселый Роджер». Что тут началось! Женщины завизжали, мужчины замахали руками: да как вы смеете! да как вам не стыдно! Однако опрос продолжился, но ни к чему хорошему это привести уже не могло. Некая дама задала вопрос: «Назовите столицы союзных республик». Дуров, не моргнув глазом, перечислил: «Калинин, Тамбов, Магнитогорск, Тула, Малаховка». Больше его ни о чем не спрашивали и из списков отъезжающих вычеркнули. Но фильм-то снимать надо. Поэтому режиссер пошел по наиболее легкому пути: убийство Клауса сняли в подмосковном лесу. После этого за Дуровым закрепилось прозвище, которым он очень гордился – «главный бандит республики».
Вообще с именем Дурова связана масса самых необыкновенных случаев, розыгрышей. Вспомню лишь некоторые из них.
Однажды вместе с Театром на Малой Бронной Дуров отправился на гастроли. Ехали в поезде. В дороге трем ведущим актерам (Г. Мартынюку, Г. Сайфулину и В. Смирнитскому) захотелось выпить. Бутылку они достали, а вот закуску – нет. Прибежали в купе к Дурову. «Дед (так актеры звали между собой Дурова), нет ли у тебя какого-нибудь закусона?» – «Нет», – ответил тот. – «А это что за баночка у тебя на столе стоит?» – «Это мазь, которой я голову мажу, чтобы волосы росли». – «Ну ты заливаешь, – заржали гости. – Какие же волосы могут вырасти на твоей лысой голове?» Короче, поржали и ушли.
Ночью Дуров внезапно проснулся и увидел, что его соседка по купе спит, а ее шиньон висит на длинном шесте. Актер снял его и одел себе на голову. Затем зашел в соседнее купе и включил свет. «Ну что, суки, не верили, что у меня волосы вырастут?» По словам Дурова, у его коллег был настоящий шок. Смирнитский упал с верхней полки на пол и выбил себе локоть (руку потом загипсовали), Мартынюк заплакал, а Сайфулин заявил: «Ну все, хана!» И в течение 20 минут никто из присутствующих ни на йоту не усомнился в реальности происходящего.