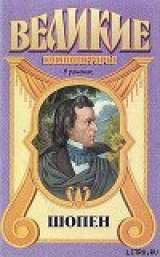
Текст книги "Шопен"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
Еще один год прошел, как всегда, в труде. Время двигалось медленно. Горестные дни, как листья, опадающие осенью, покрывали свежую могилу Эмилии, но не могли покрыть целиком, не тускнела память о живой, и рассудок не хотел мириться с необходимостью идти вперед без нее. Потом время пошло быстрей.
В марте отпраздновали восемнадцатилетие Фридерика. К этому времени уже было написано второе рондо – на этот раз для двух фортепиано. Кроткая, необычайно прекрасная мелодия, внезапно появившаяся в середине, поразила Тита Войцеховского. Это мог быть только образ Эмильки, ее добрая, нежная улыбка! Тит взглянул на Фридерика, когда, играя вдвоем, они приблизились к этой теме. Но Фридерик не ответил на его взгляд. «Когда-нибудь я спрошу его, – подумал Тит, – может быть, лет через двадцать!»
В сентябре выяснилось, что Фридерику предстоит интересное путешествие. Профессор Яроцкий, зоолог, друг его отца, собирался в Берлин на съезд натуралистов и предлагал взять Фридерика с собой. Это было заманчиво. Яроцкий предложил похлопотать в Берлине насчет концерта польской музыки. Но Эльснер не советовал. – Твое от тебя не уйдет, – сказал он Фридерику, – подожди немного! А Берлин – это хорошо. Запасайся впечатлениями и как можно чаще слушай музыку!
Перед отъездом Фридерик прощался с Варшавой, обходил свои любимые уголки. Он пришел в ботанический сад, где еще в детстве играл с сестрами. Он не замечал раньше, до какой степени сад запущен и убог. Это, по правде сказать, был не сад, а скорее огород то заброшенный, и в самом центре города! Оттого сад и закрыли. Когда же после долгого перерыва он открылся вновь, его и узнать невозможно было! – Версаль, да и только! – восклицали варшавяне. Фридерик также был восхищен новым садом. – Он там буквально пропадает! – говорила подругам Изабелла. – И уверяю вас – не без причины!
В одну из суббот пан Миколай окончил свои занятия раньше обычного: у него была новость для сына. – Не знаешь ли, Еугениуш, где пан Фридерик? – спросил он маленького школьника, только что поступившего в пансион. – В ботаническом саду, пан Миколай. – Проводи-ка меня к нему! – Еугениуш вдруг замялся. – Что же ты? – А я не знаю, пан, там ли он! – Вот тебе раз! Ты же сказал, что он там! – Да, пан. – А теперь – уже не знаешь? – Еугениуш потупился. – Что же. он там, морковку ворует, что ли? – Мальчик совсем смутился, однако пролепетал: – Там, пан, уже нет морковки! Там одни цветы! – Вот как! Ну, ты только проводи меня. Остальное – не твое дело!
Они застали Фридерика в обществе трех молодых девушек его возраста. Девушки были очень мило одеты и хороши собой. Ничего предосудительного не было в том, что Фридерик гуляет в саду с девушками. Он постоянно был окружен девочками, подругами сестер, как и сестры всегда играли с мальчиками, приятелями Фрицка. Это была одна, очень дружная компания. Но здесь, в этой беседе с выросшими девушками, с паннами в длинных платьях, в больших шляпах, повязанных газовыми шарфами, было что-то новое, совсем не похожее на те детские встречи. Панны были учтивы, но скрытны. Они говорили одно, а думали другое. Они смеялись не от сердца, а для того, чтобы польстить собеседнику, развлекающему их, и, может быть, еще больше для того, чтобы показать свои красивые зубки. У одной из девушек были к тому же глубокие ямочки на щеках – как же ей не смеяться! Пан Миколай знал ее: это была дочь генерал-губернатора, панна Александра де Мориоль, или Мориолка, как звали ее в Варшаве. Лестное знакомство! Это ее имела в виду Изабелла, уверяя, что Фридерик не без причины ходит в ботанический сад.
Красивая, изящная Мориолка сидела на скамье и играла зонтиком. По всему было заметно, что она здесь главная и ее подругам надо примириться с этим. Правда, одна из них, должно быть завистница, намекнула, что панна Мориоль слишком разрумянилась, сегодня более, чем всегда. – Мне легко рассеять твои подозрения, – сказала Александрина со смехом и тут же кошачьим движением провела рукой в белой перчатке по щеке. – Вот видишь, и следов нет! – И она кокетливо промурлыкала начало песенки, которая проникла из Кутна в Варшаву:
Вовсе я не мажусь,
Вовсе не помажусь!
Я у мамы нежусь,
Оттого и свежесть!
Но с самим Фридериком произошла непостижимая перемена. Он тоже был себе на уме и безусловно не вполне искренен. За его учтивостями что-то скрывалось: не было и следа того веселого равенства, при котором возможно и поссориться с подругой, и потянуть ее за волосы, и попросить у нее прощения, предложив ей в свою очередь побить его без пощады… Нет, здесь велся дипломатический разговор, церемонный, несмотря на шутки, здесь собеседники следили друг за другом, здесь, если хотите, разыгрывался поединок! Пан Миколай не узнавал своего сына в этом изящном незнакомце. Он любовался им, и в то же время что-то кольнуло его в сердце. Какое-то смутное чувство заставило его вновь вспомнить Эмилию. Нет больше его младшей дочери, этой умницы и кроткой души! Но где Фрицек, маленький мальчик с его милым, задыхающимся смехом? Иначе лежат его волосы, светло-карие, золотистые глаза кажутся почему-то голубыми. И характер другой: теперь уже не всегда знаешь, что он скажет, как отнесется к твоим словам. Он – взрослый мужчина, с которым нужно еще познамиться! – Теряешь детей и находишь их, но уже другими! Вот как они вырастают! – подумал пан Миколай и подошел поближе к группе. Отвесив поклон паннам и извинившись за вторжение, он сказал сыну:– Я хотел передать тебе, что пан Яроцкий едет сегодня ночью. Так что спеши приготовиться, если ты не передумал. – Так скоро? Сегодня ночью? – переспросил Фридерик, в его голосе не слышалось радости. Панна Мориолка должно быть, также подумала, что это слишком скоро. Правда, она сказала:-Так вам надо поторопиться, пан Шопен! – но ее ямочки углубились, не от улыбки, от досадливой гримасы. Остальные панны тоже сказали, что ему пора укладываться, чтобы не опоздать.
Когда Фридерик возвращался домой с отцом, маленький Еугениуш, улучив минуту, прошептал ему:
– Извините, пан Фрицек, вы не велели мне говорить, где вы гуляете, я проговорился! – Фридерик сказал рассеянно: – Ах ты, гадкий мальчишка! – В гостиной он застал профессора Яроцкого, который с легкой улыбкой выслушивал наказы пани Юстыны. Сестры уже хлопотали и суетились, готовя брата в первое далекое путешествие.
Глава третьяВ гостинице, после завтрака, пан Яроцкий сказал Шопену:
– Теперь я пойду по своим делам, а тебя оставлю одного. Ты благоразумный хлопец и, надеюсь, не сконфузишь меня перед родителями!
В Берлине они виделись довольно редко: Яроцкий был занят на съезде, а Фридерик целые дни бродил по огромному городу.
С утра он гулял, любуясь величественными улицами и мостами. Был сентябрь, а солнце светило и грело по-летнему. Никто не обращал на него внимания. Бродить одному, затерянному среди толпы, было удивительно приятно. Его опьяняло сознание собственной молодости и свободы.
Разумеется, прежде всего он зашел в музыкал магазин – познакомиться с новинками. Там он неожиданно нашел свое первое рондо, изданное в Вене. Значит, оно попало и сюда! Он развернул ноты. На заглавном листе крупными буквами значилось посвящение: «Графине Александрине де Мориоль». Фридерик покраснел и оглянулся. Но два посетителя, которые рассматривали витрину, не обратили на него никакого внимания.
Он перелистывал свое рондо как посторонний. Ей-богу, ничего! Это был романтический дневник – впечатления деревенской жизни. Подобно скрипачу в Шафарне или в Желязовой Воле, он связывал различные эпизоды и вдруг обрывал их: «Ксеб!», «От сиб!» Это было весело, а мечтательные напевы только оттеняли бьющее через край оживление.
Но он пришел в музыкальный магазин не для того, чтобы рассматривать свое собственное рондо. Он скоро оставил его. Превосходно изданная партитура привлекла его внимание. То была симфоническая увертюра некоего Мендельсона к пьесе «Сон в летнюю ночь». Теперь Фридерик вспомнил, что слышал имя Мендельсона в театре. Его знали в Берлине, – стало быть, он крупный мастер. В этом можно было убедиться, рассматривая увертюру. Фридерик не чувствовал тяготения к оркестру, что очень огорчало Эльснера, но увертюра «Сон в летнюю ночь» могла поразить любого музыканта. Наследник классических традиций, этот Мендельсон в душе был романтиком! Поэтически раскрывалась здесь жизнь сказочного леса; бархатистые звуки деревянных духовых оживленно перелетали с места на место и перекликались, как эльфы в свите Оберона и Титании. Это не был бесплотный мир, созданный одним только воображением, этот мир, пробуждающий мечты, был живой, истинный. И что-то величественное, торжественное слышалось в этой музыке, какой-то властный зов, раздающийся из глубины леса… Целый час Фридерик просидел за фортепиано, разбирая увертюру, а потом пошел в городскую библиотеку, чтобы еще раз перечитать великолепную сказку Шекспира.
После обеда в гостинице Фридерик засыпал, утомленный впечатлениями дня, а вечером шел в оперу или в концерт. Он слушал оратории Генделя, оперы Спонтини, «Тайный брак» Чимарозы и веберовского «Волшебного стрелка», о котором мечтал в Варшаве. Знакомый с партитурами, он мог судить и об исполнении. Оно было хорошо, но не безукоризненно. Певицы, как и варшавские примадонны, вольно обращались со своими партиями: что было им не под силу, пропускали, иногда же вставляли целые куски, написанные современными композиторами по их заказу. И все-таки «Волшебный стрелок» пленил Фридерика: здесь немцы были в своей стихии, как он сам среди Мазуров и краковяков.
Запомнился ему прощальный обед натуралистов, куда Яроцкий взял его с собой. На председательском месте восседал директор певческой академии, друг Гёте Цельтер. Он больше всех походил на ученого. Рядом сидел юноша, почти мальчик, очень серьезный, с умными, проницательными глазами, но, должно быть, неспокойный по натуре: он нервически подергивал шеей, когда ученые принимались петь хором и стучать ложками о свои стаканы. После съезда они забывали про свою ученость, дурачились и веселились, как дети, пели студенческие песни и громко смеялись чужим и своим шуткам. Фридерик предусмотрительно захватил с собой рисовальный альбом, куда уже были занесены берлинские карикатуры. Встав из-за стола, он уселся в углу и принялся за новые наброски.
В первые дни Яроцкий знакомил его со многими берлинскими знаменитостями. Теперь он хотел представить Фридерика Цельтеру и Спонтини – двум музыкальным «зубрам». – Кстати, познакомишься с Мендельсоном, – сказал Яроцкий, – он тоже здесь. – Фридерик удивился, что о Мендельсоне упомянуто вскользь и как будто небрежно. Мендельсон внушал ему большее уважение, чем все другие берлинские музыканты, вместе взятые. Таково было действие «Сна в летнюю ночь».
Лучше подождем, пока я вырасту, – оказал Фридерик, принужденно улыбаясь. Яроцкий широк открыл глаза. – Да ты посмотри на него! – И он указал на юношу, сидевшего рядом с Цельтером: – Вот тебе и Мендельсон! – Сколько же ему лет? – Сам видишь. Столько же, сколько и тебе! Может быть, на год больше. – Ну, теперь-то я и подавно не стану с ним знакомиться! – Отчего же? – возразил Яроцкий, – что ж такого? У него своя дорога, у тебя своя! – Но Шопен стоял на своем. Мендельсон ему понравился, но «Сон в летнюю ночь» не мог написать мальчик в его возрасте. Он казался нереальным, и трудно было найти слова для общения с ним.
Так знакомство на этот раз не состоялось. Но увертюру Мендельсона Фридерик купил в двух экземплярах, чтобы один из них подарить Эльснеру.
Глава четвертаяПосле Берлина его встретила шумная варшавская зима, даже слишком шумная по сравнению с предыдущими годами. Что-то лихорадочное чувствовалось в ее веселье. Слишком много музыки, балов, приемов, иностранных гастролеров… Правда, были концерты-события. Этому способствовало географическое положение Варшавы. Иностранные артисты, устремляясь в богатый Петербург, всегда на пути останавливались в «третьей российской столице». Так в Варшаве появилась Каталани, потом Гуммель, в прошлом ученик Моцарта, а нынче уже немолодой, но энергичный виртуоз, очаровавший всех мечтательным, тонким и технически безукоризненным исполнением. В его поэтическом ля-минорном концерте соединились все наиболее привлекательные черты новейшего романтизма, те «ночные настроения», которые особенно привлекали молодежь.
Скрипач Кароль Липиньский и пианистка Мария Шимановская долго держали варшавян в плену. Это были соотечественники, добившиеся мировой известности, и Эльснер в своем патриотическом воодушевлении говорил даже, что не только их игру, но и про ведения можно считать образцами для подражания.
Но наряду с этими артистами появлялись и посредственные, были даже откровенные шарлатаны, и нельзя сказать, чтобы они совсем не имели успеха.
Душа городских увеселений – прекрасная Александрина де Мориоль, избалованное дитя, «отчаянная Мориолка», кумир варшавской молодежи. Ни один маскарад не обходится без нее: сегодня она – охотница Диана, завтра – Жанна д'Арк, в третий раз – царица Титания, окруженная эльфами и феями – гимназистками и пажами. В опере она сидит в первой ложе у сцены и первая подает знак к аплодисментам, а во время санных гонок сани Мориолки мчатся впереди всех, а ее смех заглушает звон бубенчиков. Она пьет шампанское лихо, как гусар, и научилась курить на морозе. Когда при ней говорят о возможности революции, и ее подруги в страхе закрывают лицо руками, она восклицает: – Ах, если бы скорее! Все-таки перемена!
Еще недавно все это пленяло Фридерика, как и других его сверстников и сверстниц. Он был без ума от Мориолки. И она благосклонно принимала его поклонение. Посвященное ей рондо она спрятала в ящик своего столика, отдельно от других сувениров. На балах Мориолка сама отыскивала Фридерика и не отпускала от себя. Вместе они придумывали шарады и шутки. Она ценила в нем юмор: это скрашивало ее жизнь, которая, несмотря на разнообразие впечатлений, все-таки казалась ей скучной. – Птичьего молока мне не хочется, – говорила она с ленивой гримаской, – думаю, что оно противно на вкус. А луну с неба тоже не хочу, она, должно быть, холодная! – Подобные изречения Мориолки пересказывались ее поклонниками и поклонницами, которые старались ей во всем подражать.
Шопен тоже считал Мориолку незаурядной, талантливой натурой. Но как все меняется! После Берлина он стал смотреть на нее другими глазами, как будто не месяц прошел, а по крайней мере год! Теперь капризы Мориолки, ее смех и кокетство, ее парадоксы и дерзкие выходки уже не казались проявлениями широкого ума и отважного сердца. Просто ей дана большая свобода, и как бы она ни чудила, она знает, что все сойдет, все будет принято с восхищением. Фридерик по-прежнему часто видел Мориолку. не слагал с себя обязанности «вздыхать» по ней, но больше для нее, чем для себя. Ей это нравится и будет еще нравиться некоторое время. Придет пора, и она превратится в степенную чопорную пани, строгую к себе и особенно к другим. Уже и сейчас Мориолка сбивается на назидательный тон!
Последний год в консерватории – самый трудный. А Эльснер требователен. Когда Фридерик переходил на второй курс, Эльснер отметил в его экзаменационной тетради: – Большие способности. – Для Эльснера это было слишком щедро. Через год он написал: – Замечательное дарование! – Но заставил работать вдвое больше. Несколько дней тому назад ученик консерватории Целиньский передал Шопену подслушанный им разговор Эльснера с Курпиньским. – Представляешь себе беседу двух китов о рыбешке? Курпиньский спросил нашего: – Каково ваше мнение о Шопене? – И что, ты думаешь, наш ответил: – Музыкальный гений! Этот юноша – музыкальный гений! – Каково? Теперь он начнет требовать от тебя всяческих подвигов!
– Что же может он от меня потребовать?
– Он прикажет тебе написать оперу, – сказал Целинский.
Он не ошибся, на ближайшем уроке Эльснер сказал Фридерику:
– Я не боюсь тебя испортить, ты всегда был скромен. Поэтому считаю возможным заявить: ты уже настолько созрел, что можешь перейти к настоящему делу.
Это было предисловием к чему-то важному.
– Фортепиано, мой милый, конечно, превосходный инструмент и к тому же необходимый для нас. Но нельзя же весь век сочинять для одного инструмента! Предоставь это посредственным музыкантам, мысль которых не идет дальше клавиатуры. Ты же – совсем другое дело!
– Я не совсем понимаю, пан Юзеф: что значит мысль не идет дальше клавиатуры? Разве фортепиано не может выразить самые глубокие мысли?
– Может. Но все-таки это один инструмент, стало быть, ограниченный в своих возможностях. Звук фортепиано, как и звук скрипки, доставляет нам удовольствие. Но этого мало!
– Неужели мало?
– Разумеется! Музыка должна будить мысль, чувство, должна, если хочешь, вести в бой! Особенно в наши дни! Разве ты не видишь, что делается вокруг? Польша сбрасывает с себя цепи! Разве ты можешь оставаться в стороне?
– Тогда надо взять в руки оружие!
– А разве музыка не оружие? Она также рождает бойцов, закаляет их души. Какой же смысл в искусстве, если оно не влияет на ход жизни?
– Я думаю, это происходит само собой, – неуверенно заметил Фридерик.
– Как?
– Все это воздействие на души. Прекрасное всегда будет волновать!
– Что ты называешь прекрасным?
На это Фридерик еще не мог дать полный ответ.
– Прекрасное вдвойне прекрасно, если оно согрето благородной целью! Ты поляк! Ты – сын угнетенного народа! Значит, ты должен быть национальным в своей музыке.
– Так оно и есть и не может быть, иначе. Я дышу потому, что дышу, а не потому, что обязан дышать! Когда человек любит, он не думает о том, что его долг – населять землю!
– Вот как ты заговорил! А мы-то считали его ребенком… Но я понимаю тебя. Ты любишь родные напевы, ты живешь ими. Значит, тебе по плечу написать национальную оперу!
– Но зачем же непременно оперу?
– Как? И ты не видишь разницу между оперой и какой-нибудь инструментальной пьесой?
– Если судить по количеству нот, то разница есть, а если судить по самой музыке, то даже самая маленькая пьеса может быть выше оперы, как лирический стих бывает иногда сильнее целой поэмы!
– Какая слепота! Опера – это самое народное и самое мощное искусство! Она действует сильнее хотя бы потому, что располагает многими средствами воздействия. Ведь это также и зрелище.
– А мне кажется – как-то почетнее выразить идею одной, только музыкой!
Эльснер рассердился:
– Не понимаю, кто внушил тебе эти мысли! Одной только музыкой! Когда можно прибегнуть к соединению нескольких искусств! Ты можешь, во всяком случае, попробовать!
И Шопен покорно ответил:
– Хорошо, пан Юзеф!
Так повторялось почти на каждом уроке. Но не только Эльснер, но и другие музыканты, и поэт Витвицкий, и старшая сестра – все в один голос твердили, что Фридерик должен написать оперу. Он не чувствовал к этому склонности. В поисках новых путей он знал, что найдет их не в опере и не в симфонии.
– Чего вы все хотите от меня? Скажите! – Мы хотим, чтобы ты прославился! Неужели у тебя совсем нет честолюбия? – Представьте, когда я сочиняю музыку, я совсем не думаю о славе! – О чем же ты тогда думаешь? – Я ни о чем не… Нет, так нельзя вести спор! Я думаю о многом! Но я не люблю предвзятости, принуждения. И… почему вы ждете от меня именно оперы? Разве те, что идут у нас в театре, оперы Эльснера, Курпиньского, Каменьского, – разве они не национальны? Не нравятся публике? Разве их мало? Чего же вы хотите от меня?
Тогда Витвицкий, и Людвика, и все другие начинают хитрить. Они говорят, что все оперы, конечно, хороши, но желательно, чтобы появилась еще одна… – Но если я не могу? И – не хочу. Если у меня душа не лежит к этому? Если я чувствую, что здесь я буду лишь подражать другим, нанизывать на либретто польские мотивы, прибавлять хоры и танцы… Нет, это не по мне! А фортепиано мне открывает новое!
Но он был слишком молод, чтобы вступить в спор с целым светом. Словами трудно убедить. Бывали и такие – правда, редкие – минуты, когда Фридерик начинал сомневаться в своей правоте. Он даже начал писать либретто вместе с литератором Казьмианом… Неожиданное событие укрепило его точку зрения и даже в какой-то степени поколебало Эльснера.
Глава пятаяВ Варшаву в эту зиму приехал Николо Паганини. Незадолго до того в концертах играл Кароль Липиньский и поразил всех необыкновенной техникой. Музыканты были уверены, что Паганини не сможет превзойти его. Что бы ни говорили об этом «ученике дьявола», какие бы чудеса он ни проделывал на своей скрипке, но есть предел для всякой техники, и, по мнению варшавян, Липиньский уже достиг этого предела. Да и мало ли что говорят! Слухи и легенды, окружающие имя Паганини, сильно возбуждали любопытство публики, но музыканты сопротивлялись этому и держались того мнения, что чем больше легенд сопутствует артисту, тем хуже для него. – Уверяю вас, это жульническая выдумка! – заявил Эльснер в ответ на все фантастические рассказы о Паганини. – Пусть все знают, что он играет божественно, – в зале будут пустые места! Но чуть примешается что-нибудь фантастическое или преступное – и слава создана! Пустите слух, что он убил жену, обобрал родного брата, украл скрипку, – и публика будет ломиться в зал! А тут еще продал душу черту! Как же не прийти и не посмотреть?
Однако Эльснер еще за две недели до приезда Паганини запасся билетом на концерт и пришел со своими учениками. Фридерик сидел в той же ложе. Он отчасти разделял мнение Эльснера насчет рекламы и был заранее немного предубежден против музыканта, который не умеет или не хочет прекратить порочащие его слухи.
Паганини стремительно вышел на эстраду, очень низко поклонился, резко выпрямился и картинно отставил в сторону свой смычок. Весь он производил впечатление чего-то непомерно длинного, тонкого и подвижного. Длинные волосы, длинный нос, чрезвычайно длинные руки. Даже смычок казался длиннее, чем бывают обыкновенно смычки. Паганини сильно тряхнул волосами, неестественным движением откинул их со лба и поднял смычок чуть ли не выше головы. Эльснер насмешливо хмыкнул.
Но как только скрипач взял первый звук (он играл собственные этюды), все понятия о правильных приемах, хорошем вкусе, блестящей технике полетели к черту и только Паганини и его скрипка остались на земле. Липиньский действительно достиг высшего предела скрипичной техники. Но игра Паганини существовала за этими пределами. Не быстрота пассажей, не безукоризненная чистота двойных нот, не ясность флажолетов поражали в его игре. Поражал прежде всего сам звук: он не мог быть звуком скрипки, его производил инструмент, неизвестный присутствующим. Сам Паганини своей игрой создал его! Он владел различными тембрами, а гибкость фразировки позволяла ему лепить образы по-своему, сметая все укоренившиеся традиции. Паганини смеялся над сентиментальностью мещан, любящих буколические картинки, и над педантизмом ученых музыкантов, всегда и везде преследующих отклонения от симметрии. Можно было возмущаться, сопротивляться тому впечатлению, которое производила его музыка, но это сопротивление никогда не длилось долго. Он заражал своей силой, страстью, убеждал странной, но властной логикой, заставлял забывать о действительности… Фридерик и сам порой забывал, где он находится. В зале была шумная тишина. Происходило чудо: музыкант вел слушателей по своему пути, по своим тропинкам, извилинам и переходам. А пути Паганини были трудны и опасны.
Романтический глашатай свободы, он верил в прекрасную природу человека. Он словно говорил: людях заложено так много, но они и сами не знают этого. Позвольте же мне показать вам ваши собственные богатства! – Впрочем, Паганини не мог сказать «позвольте!» Он повелевал.
Вот он начал новый этюд в форме танца. По ритму его можно было принять за гавот. Но это был скорее трагический монолог, ламенто.[5]5
Ламенто – жалоба.
[Закрыть] Паганини замедлил темп почти вдвое: вместо легких смычковых штрихов он предпочел удары: он словно вдавливал смычок в струны, порой казалось, что он рвет их. Но ни одна струна не лопнула, что бы он ни проделывал с ними. Говорили, что струны Паганини такие же заговоренные, как и его смычок.
Когда раздались громкие вызовы, Паганини опять превратился в тонкого, гибкого паяца, который кланяется чуть ли не до полу и делает лишние движения смычком. Крупные капли пота текли по его худым щекам и по носу, волосы были мокры. Глаза, сверкавшие во время игры, теперь погасли. Видно было, что он смертельно устал. А ему еще предстояло второе отделение, а перед ним антракт, во время которого придется отвечать на многочисленные приветствия.
Эльснер сказал Фридерику: – Хочешь, пройдем к нему за кулисы? – Мне кажется, лучше дать ему отдохнуть перед вторым отделением, – ответил Фридерик. – Что ты? Он смертельно обидится, если узнает, что не все варшавские музыканты были у него!
Эльснер был прав, Паганини едва держался на ногах от усталости, но с замиранием сердца ждал посетителей. Он должен был услышать похвалы себе, должен был видеть хотя бы тех, кто сидел в первых рядах в зрительном зале. И хоть он знал, что успех велик, и не допускал иной мысли, ему необходимо было услыхать подтверждение этого от людей, пришедших к нему. Выпив стакан лимонаду и обтерев фуляром волосы, он стал глядеть на дверь, где уже толпились нетерпеливые почитатели.
Фридерик проводил Эльснера до кулис, а сам спустился в фойе. Он был весь под впечатлением игры и не хотел видеть измученного человека, который с трудом теперь спускается с высот на землю и говорит разный вздор, ибо о чем можно говорить с толпой, набившейся к нему в артистическую? И что он может сказать после того, что высказал на эстраде? Жестокое это обыкновение навещать музыкантов в антракте!
Фридерик охотно остался бы один, но это было невозможно. В фойе толпился народ, все говорили о Паганини. И никто, ни один человек, не мог оказать, что же именно потрясает в его игре. Музыканты употребляли специальные термины, и со стороны можно было подумать, что игра Паганини их совсем не волнует. А не музыканты произносили пылкие слова: «Неподражаемо!», «Божественно!», «Бесподобно» – и это звучало фальшиво и холодно. А между тем и те и другие были глубоко взволнованы.
Сам Фридерик чувствовал себя немым. Единственный человек, который был ему сейчас приятен, – Тит Войцеховский стоял где-то в другом конце, среди студентов-любителей. К Фридерику подошел Марцелл Целиньский. – Что скажешь? – спросил он с насмешливым удивлением, – на какой скрипке играет этот злодей? Клянусь, я готов поверить, что эту скрипку подарил ему черт, а струны закляла ведьма! – Фридерик натянуто улыбнулся. Опять черти и ведьмы – постоянные атрибуты ходячих легенд о Паганини! Целиньский повторял уже по инерции то, что говорили другие. – У него в руках очень хороший Гварнери, – сказал Фридерик, – остальное – дело его мастерства! – «Как сухо и холодно я говорю об этом!» – подумал он тут же. Целиньский насупился: – Конечно, эти россказни несерьезны. Я просто думаю, что обе руки у него одинаково развиты, да и, наверное, работает, как… черт! Вот видишь, без черта не обойтись! – Он засмеялся и пошел дальше.
Фридерика нагнал Ясь Матушиньский. Он тоже был взволнован и даже потрясен. – Знаешь, что я тебе скажу, – начал он с видом человека, сделавшего важное открытие, – талант – талантом, а у него все дело в особом строении мышц – Ясь уже целый год учился на медицинском факультете и судил о вещах по-своему.
– Ну и что же? – сказал Фридерик рассеянно. – Разве в этом дело? Впрочем, не слушай меня, я сегодня глуп.
Его нервы были напряжены, и он все ждал чего-то, не меньшего, чем игра Паганини. Он взял Яся об руку, чтобы загладить свою неприветливость.
В буфете за одним из столиков он увидел свою старшую сестру и молодого юриста Каласанти Ен-жеевича. Людвика издали поманила брата. Она была очень хороша, об этом можно было догадаться и не глядя на нее, достаточно было взглянуть на Енджеевича. Этот высокий, широкоплечий и серьезный юноша всецело зависел от Людвики, и хоть он что-то объяснял ей, а она внимательно слушала, этот разговор был для него гораздо важнее, чем для нее. И Фридерик при его нервном, напряженном состоянии заметил это. Впрочем, Каласанти был его приятелем, и кое о чем Фридерик уже догадывался.
– Что касается меня, – сказал Енджеевич, продолжая разговор с Людвикой, но кивнув в сторону Шопена и Яся, – то я окончательно убедился: в музыке началась новая эпоха. Мы ее предчувствовали – и вот: Паганини открыл ее в звуках скрипки!
– Теперь остается только ждать преобразователя фортепиано, – и Каласанти посмотрел на Шопена.
– В чем же заключается это новое? – спросил Матушиньский.
– Раньше, как мне кажется, композиторы больше увлекались общими идеями. Теперь они начинают интересоваться подробностями нашей внутренней жизни. Подробностями-вот в чем дело!
– Но тогда уместнее обратиться к оркестру! – заметила Людвика, – инструменты разнообразны – вот и подробности!
– Нет, – оказал Енджеевич, обратив на нее сияющие глаза. – Не все музыканты умеют извлекать из своих инструментов заключенные в них богатства. Паганини показал нам сегодня, что такое скрипка. До сих пор мы не имели представления о ней.
Все это было верно и умно, но и это не выражала полностью мысли Каласанти. У него было более верное мнение, но он хранил его про себя. Он должен был бы сказать: до сегодняшнего вечера я любил Людвику, но еще не знал ни ее, ни глубины своего чувства. А Паганини показал мне, как она прекрасна и как я предан и верен ей!
И если бы Паганини услыхал подобный отзыв о своей музыке, выраженный именно так, то это порадовало бы его больше, чем все неопределенные похвалы почитателей и пространные описания рецензентов.
Так думал Фридерик, возвращаясь на свое место. Уже кончился антракт, люди спешили на свои места. Кто-то торопливо пробежал мимо, задев Фридерика. Две хорошенькие девушки спешили к своему месту. Одна из них сказала:-Ах, боже мой, нас могут не пустить, а ведь каждый звук дорог!
Но панны благополучно уселись на свои места, а Шопен чуть не опоздал вернуться в ложу. Панна, которая боялась пропустить хоть единый звук музыки Паганини, была одета в черное шелковое платье, и, это чудесно оттеняло ослепительную белизну ее лица и шеи. Глаза у нее были большие и синие, черты лица тонкие и нежные, голос необыкновенно музыкальный. И вообще трудно было предположить, что она родилась от женщины. Вторую панну он почти не заметил.
И пока Паганини не появился вновь на сцене, Фридерик не спускал глаз с девушки в черном. Она сидела в шестом ряду, и из ложи ее было хорошо видно. Вот она повернулась в его сторону. Шопен все еще глядел на нее. Но Паганини уже показался из-за кулис, встреченный оглушительными рукоплесканиями.







