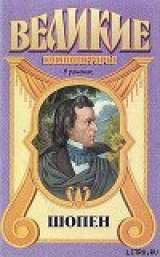
Текст книги "Шопен"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
И опять стремительно неслись дни. И снова все притворялись, что этот бег и смятение естественны и никакой опасности не несут. Отец говорил: – Слава богу, разрешение получено! Ни о чем не беспокойся: концерты дали хорошие сборы, и денег хватит надолго! А мы-то уж тебя поддержим!
Людвика просила: – Привези мне янтарные четки! – Зачем тебе? – Надену на шею вместо ожерелья! – Хорошо, что мама не слыхала! – А мне из Парижа что-нибудь! – Но, Белла, имей в виду, что Аптека уже не будет к тому времени в Париже! – При чем тут Антек? – И Белла отвернулась… Они предпочитают говорить разный вздор: о четках, о чемоданах, о том, что брать с собой, чего не брать, – и на это уходит все время!
Собрал все рекомендательные письма, бумагу, ноты, уложил вещи. – Не забыл ли ты бритву? – кричит из своего кабинета пан Миколай. Улучив минуту, Фридерик побежал в комнату пани Юстыны. Она была одна, шила. Он сел возле нее, обнял, прислонился головой к ее груди. Она сказала сдавленным голосом: – Главное, держи ноги в тепле…
Отворилась дверь, и вошла Изабелла. Глаза у нее были испуганные, губы подергивались. Пани Юстына с неудовольствием взглянула на нее. – Полгода – не такой большой срок, – сказала она, – если он соскучится, приедет раньше.
Это говорил и Живный. Но он не скрывал, что удручен разлукой. – Для вас, пани, никакой срок не страшен, – обратился он к Людвике, – а в моем возрасте и один день – вечность! И все же, милый Фрицек, отпустив мне целых семьдесят четыре года, бог не поскупится прибавить еще полгодика, чтобы мне снова увидать тебя!
Хуже всего прощанье. С консерваторскими приятелями– шутливое: «Смотри! Не зазнавайся!»– С Волковой – сдержанное. Панна де Мориоль сказала ему: – Мы еще успеем проститься! А вообще я этого терпеть не могу! – И уехала в Познань, к тетке, накануне его отъезда.
К Констанции он зашел по ее приглашению.
Она попросила его передать сердечный привет Генриетте Зонтаг и написать о методе певицы Малибран. Конечно, если у него останется время для письма. Ну, и если будет возможность, то хотелось бы узнать, как поставлены занятия в консерватории в Милане… Интересно, как в Италии приготовляются макароны? Неужели каким-то особым способом?
Минуты шли. Она все говорила о певцах, о Собачьей пещере близ Неаполя, еще о чем-то столь же ненужном! Фридерик отвечал с подчеркнутой обстоятельностью. Да, он с удовольствием расспросит повара, сколько времени кипят макароны, и специально отправится в Пизу взглянуть, как наклонилась знаменитая башня… Злость душила его. Наконец он встал, и разговор прекратился.
– Да, я совсем забыла, – начала Констанция, – вот вам маленький подарок, – голос у нее прервался.
Она взяла со стола альбом и протянула Шопену. На первой странице он прочитал:
Ты с нами расстаешься, Плывешь к брегам чужим, Но знай, о несравненный, Что в Польше ты любим!
– Очень мило! – сказал он, чувствуя, что его возмущение усиливается. – Что это? Адрес? Приветствие благодарных горожан? Написано по их поручению?
– Не понимаю. Это мои стихи. Если вам не нравятся…
Она пошла к двери.
– Какое благоразумие! – думал он. – Ты должен с нами расстаться! И – нами любим! Нами! Похвальная осторожность! Только бы не подумали, что она меня любила! Да этого и не было никогда!
Она держалась за ручку двери и не уходила.
– Кем я любим в Польше? – крикнул он громко.
Констанция поняла, что это и есть разлука, поняла с такой же силой, как однажды в детстве, когда, упав и покатившись с ледяной горы, она ощутила близость конца. Тогда ее подхватили чужие руки, теперь она могла еще спастись сама. Когда он подошел к ней, она обняла его и спрятала голову у него на груди.
– …Если кто-нибудь зайдет, то подумает, что вы остаетесь! – сказала она, улыбаясь.
– Едем со мной! Едем!
– Как же это?
– Очень просто. Пани следует за своим паном!
– С ума сошел! В начале сезона!
– И это единственное препятствие?
– Я думаю, не маленькое!
– И других нет?
– Для меня – нет!
– В таком случае сегодня вечером, у нас в доме… Мы объявим и…
– О нет, не сегодня. В первый же день, как только ты вернешься!
Значит, она хотела дождаться результатов поездки, чтобы решиться наверняка!
Его руки разжались. Она спросила:
– Но ты веришь мне?
Что он мог ей ответить? Он сказал:
– Верю.
– Так вот, – она сняла с руки кольцо, маленький перстенек с бирюзой, – я буду ждать!
Колечко было слишком мало, чтобы надеть его на палец, и он бережно положил его в левый карман жилета.
И еще было прощание, торжественное и многолюдное, в доме родителей. Пришли все, кто любил его. Пили вино, произносили речи. У всех было бодрое настроение. Разве то, что ему предстоит, не радостно? Пройдет полгода – и он будет сидеть за этим столом и рассказывать о своей удачной поездке. Ведь было же так после Берлина, после Вены!
За будущую встречу! Сестры, улыбаясь, высоко поднимали бокалы. Пан Миколай совсем развеселился, когда Живный принялся описывать парижан. Он знал их во времена Глюка[13]13
«…он знал их во времена Глюка» – то есть в период пребывания Глюка в Париже, когда его музыка явилась поводом для бурной эстетической полемики (глюкисты и пиччинисты).
[Закрыть] Экспансивные, как черти, но знают толк в искусстве. Эта публика как раз для тебя!
– Да, Франция!.. – задумчиво протянул пан Миколай. – И я кое-что помню!
Ему казалось, что если бы он поехал теперь в Мариенвиль, то сразу узнал бы места, где бродил в детстве. Там были три дерева, которые сплелись корнями, и одинокий высокий холм…
– …Но где бы ты ни был, дорогой Фрицек, ты будешь помнить свою родину! – провозгласил поэт Стефан Витвицкий, непременный оратор на таких семейных собраниях. Его слова были сигналом к чему-то необычному. Действительно, неизвестно откуда появился большой золотой кубок, и Витвицкий протянул его Фридерику. Тяжелый кубок был полон до краев. Но не вином, а свежей, черной землей. – Пусть эта земля напомнит тебе о нас! О нашей Польше!
Фридерик молчал, не находя слов для ответного приветствия. Но так как все встали, то и он продолжал стоять с кубком в руках. Его взгляд упал на портрет Эмильки, висящий на противоположной стене. Фридерик ясно вспомнил тот день, когда вся семья и Стефан Витвицкий молча стояли над ее могилой в Повонзках. Бросали на гроб черные комья земли…
Прошла минута молчания. Все опять сели. Кто-то взял кубок из рук Фридерика и поставил его на отдельный столик, рядом с цветами.
И снова он проникся предчувствием, что предстоящая разлука не на полгода, а завтрашний отъезд не радостное, а тяжелое событие в его жизни.
На другой день Шопен уезжал один. За несколько дней до того Тит Войцеховский сказал ему: – Я вижу, ты себе места не находишь! Поеду-ка я с тобой, и побудем вместе хоть первые две недели! – Это было совершенно в духе Тита – не словами, а поступками доказывать свою дружбу. Но он уехал немного раньше и теперь ждал Фридерика в Калише, по дороге в Вену. Среди провожающих не было только Эльснера. – Ничего, – сказал Живный, – когда узнаешь, в чем дело, ты извинишь его! Ну, с богом!
Быстро домчались до Желязовой Воли. Там Фридерик велел вознице остановить лошадей. Выйти хоть на несколько минут, проститься с местами детства! Но только лошади замедлили бег, послышался крик: «Стой!» Целая толпа стояла на дороге. То был Эльснер со своими учениками, которые вместе с ним ночью выехали из Варшавы. В маленьком флигеле, где двадцать лет тому назад родился Фридерик, они разучили прощальную кантату, написанную Эльснером специально для этих проводов, и теперь выстроились в ожидании. Дилижанс остановился, Эльснер дал знак, и началось пение.
Фридерик выпрыгнул из дилижанса и остановился, потрясенный. Слезы душили его. Но кантата была мелодичной, бодрой, молодые голоса хорошо звучали на открытом воздухе, и когда пение кончилось, Фридерик подумал, что эта прощальная встреча – хорошее предзнаменование. Он обнимал и целовал каждого. Эльснер сказал:
– Правда, мы хорошо придумали? Выше голову, смелее взор!
Но когда дилижанс тронулся и хор остался позади, когда уже ничего не было вокруг, кроме серого неба, проселочной дороги и редких, голых кустов по бокам, Фридерик увидал перед собой и вокруг себя холодную, позднюю осень. Это был конец чего-то, конец печальный и горький. В вышине кричали вороны. Дилижанс качало, лошади ускорили бег. Но осень расстилалась все шире, догоняла путника, не отступала от него ни на шаг. На повороте он высунулся из окошка. Эльснера и певцов уже не было, не могло быть видно. Шлагбаум медленно опустился за юностью, за всей его прежней жизнью. Путь отрезан! Оставалось только покориться неумолимой силе, которая мчала его вперед, навстречу неизвестности!
Часть четвертая
Глава перваяЗа полтора года Вена изменилась неузнаваемо.
Сам город по-прежнему прекрасен, даже поздней осенью, и весел, но это уже не то веселье, которое помнил Фридерик. Что-то лихорадочное, тревожное чувствуется во всем, какое-то насильственное оживление, словно люди взвинчивают себя и хотят развлекаться во что бы то ни стало, чтобы заглушить в себе беспокойство. Как будто ожидают чего-то, страшного и неизбежного!
Черни прямо говорит Фридерику: – И зачем вы явились в такое проклятое время? Классическая музыка в упадке. Венцы желают только танцевать. Да и как не танцевать перед лицом возможной гибели? Всюду зреют бунты, да еще, говорят, надвигается холера!
Другие музыканты менее откровенны, слащаво любезны, в их словах фальшь. – Это очень мило, что вы приехали! Мы помним, как полтора года тому назад вы пленили наш город! Это было чудесно! Но, знаете ли, времена не те! Венские музыканты безмолвствуют. А уж гастролеры! Недавно к нам приезжали певцы из миланской оперы. Так поверите ли, какой позор: мы не смогли собрать для них публику!
Так говорит граф Галленберг. У него встревоженный вид и волосы совсем распушились. Он, по его словам, разорился и намерен, как это ни ужасно, покинуть искусство и заняться более доходным делом!
Самая крупная неудача: в городе нет Леопольдины Благетки – она с семьей уехала в Германию, говорят, на целый год. А Щупанциг очень болен и вряд ли протянет зиму.
Но юность недолго предается печали. До Вены Фридерик и Тит Войцеховский провели несколько дней в Бреславле и Дрездене, где было много приятных впечатлений. Мрачные варшавские предчувствия почти рассеялись. Войцеховский и Шопен сидят в венском ресторане и пьют шампанское за здоровье графини Потоцкой, с которой они познакомились в Дрездене и которая вскружила головы им обоим.
Это было в маскараде, поздно вечером. К ним подошла стройная женщина, одетая «тарантеллой», в переднике, в красном корсаже, с бубном в руках. Полумаска не скрывала прелестных очертаний ее лица. Фридерик уже заметил эту красавицу в самом начале маскарада: окруженная молодежью, она пела неаполитанскую канцону. Ее голосу позавидовала бы любая примадонна. Юноши приняли ее за итальянку, но она заговорила с ними на чистейшем польском языке. Оказалось, это их соотечественница, та самая Дельфинка «Комаровна», дочь помещика Комара, которая ребенком пела в варшавских салонах, разделяя славу с Фридериком Шопеном и маленьким Зыгмунтом Красиньским. Она знала каждый уголок Мазовии и не раз бывала в Желязовой Воле… Но с тех пор, как вышла замуж, все путешествует по Европе… – Однако хватит вспоминать прошлое, поговорим о будущем! – Она взяла руку Тита, стала разглядывать ее, нахмурилась и покачала головой. – Мы с вами долго не увидимся, – произнесла она протяжно, – а вот что касается другого пана, то я и без гадания могу предсказать, что мы встретимся в Париже и проведем немало восхитительных дней!
…Они еще спорят о ее наружности – Тит уверяет, что она классическая красавица, Фридерик не согласен с этим, скорее она неотразимо обаятельна, – как вдруг замечают какое-то волнение среди обедающих и слышат восклицание, раздающееся у соседнего столика:
– А ведь поляки-то взбунтовались! Подумайте-ка, поднялись!
Поднялись! Когда же это произошло?
Уже на улице, от мальчика, разносчика газет, они узнают, что восстание началось четыре дня тому назад, двадцать девятого ноября. Растерявшись, они бегут обратно в гостиницу, а там хозяин встречает их сообщением:
– У вас на родине беспорядки! Сочувствую вам всей душой!
…У себя в номере, сжав губы, Шопен спешно укладывал вещи. Тит сидел поодаль, курил трубку и не мешал ему. Он должен был многое обдумать. Самое главное и тяжелое, что сейчас предстояло ему, – это много говорить, к чему он не привык и чего терпеть не мог. Однако это было необходимо!
– Вот что я должен тебе сказать, если ты захочешь меня выслушать!
– Нет, не захочу, Тит!
– Не будь ребенком! Я понимаю тебя. Но ехать тебе сейчас нельзя!
– Конечно! Эта рука, Фридерик вытянул вперед руку, – умеет, по-твоему, только играть, она не способна держать оружие!
– Чепуха! В армии есть солдаты и послабее тебя! Но они нужны…
– А я – нет? Посмотрим!
Он уже не укладывал вещи, а запихивал их в чемодан.
– Если хочешь знать, – продолжал Тит, – твое возвращение в Варшаву было бы сейчас, дезертирством.
– Ха! Остроумный и уместный парадокс!
– Да, Фрицек! У тебя есть свой пост, нельзя покидать его!
– Один пост есть теперь у нас у всех: поле битвы!
– Есть смерть и есть жизнь. Это надо помнить!
– Слишком мудрено для меня!
– Нельзя умирать ради самой смерти. Мы идем в бой для того, чтобы жизнь на земле продолжалась. А жизнь – это не только земля, но и те, кто живет на земле!
– Я понимаю, куда ты клонишь, – сказал Фридерик, выпрямившись: – ты будешь защищать женщин и детей, и меня, как женщину и ребенка!
– Нет, Фрицек: как великого художника! Если погибнут такие, как ты, наша победа станет победой Пирра!
– А я не хочу остаться в живых, если погибнут такие, как ты!
Фридерик не желал больше ни говорить, ни слушать. Тит молчал и курил. Потом начал снова:
– Значит, ты ни капельки не веришь в себя?
– Верю. И буду сражаться!
– А в свой дар… совсем не веришь?
– Да что ты мне толкуешь? Какой дар? Я буду заниматься музыкой в такие дни? Да я стану презирать себя! Теперь, когда свобода в опасности!
– Мы будем отстаивать свободу!
– Кто это вы? А – я? Где я буду находиться? И что я буду делать? А когда прольется ваша кровь, какими глазами буду я смотреть на вас? Я сяду за рояль услаждать слух, а вдовы и сироты скажут: «Ступай вон, дезертир! Не оскорбляй наши очи!»
– Да, если ты собираешься только услаждать слух…
– Я буду там, где ты. Поверь, я не хуже тебя!
– Я не знал, что цель твоей жизни – развлекаться и развлекать других, – медленно сказал Тит. Фридерик отодвинул от себя чемодан и плотно уселся на стуле.
– Чего ты добиваешься, скажи! Только – правду! Чего ты хочешь? Чтобы инстинкт жизни, который силен в каждом из нас, заговорил во мне? Чтобы я… в мелкой и подлой глубине моего существа согласился с твоими доводами и обрадовался им? Этого не дождешься! Если я не смогу уехать, я убью себя!
– Сейчас ты рассуждаешь как дитя. Но скоро мы все повзрослеем!
– Прекрати эти проповеди! Мужчине подобает молчать!
– …Черт знает, сколько чепухи я взял с собой! – возмущался Фридерик, видя, что самый большой чемодан уже заполнен, а половина вещей не уложена – жилеты, манишки, щипцы для завивки! – Как глуп человек, боже мой! Надеется, фантазирует, фанфаронит! А важно только одно: умереть как следует, с достоинством, гордо!
Тит молчал.
– Вся моя прошедшая жизнь, все, чем я наслаждался, получено даром, понимаешь? За это надо расплачиваться. Пришла пора!
– Почему же ты уклоняешься от расплаты? – Я? Это ты увидишь!
– А как ты думаешь расплатиться?
– Как? Жизнью!
– Этого мало!
– Слова!
– Мало, Фрицек! Ты должен расплачиваться иначе!
Было уже около трех часов ночи, когда Тит сказал:
– Если бы ты был просто талантливый пианист или композитор вроде Орловского, я сказал бы: – Иди! Появятся другие! – Но ты, Фридерик, с твоим редким, необычайным даром!
– Сейчас это не имеет никакого значения, важнее всего победа!
– А если она… не наступит?
– Как? Ты не веришь?
– Я верю, и оттого – иду. Каждая такая вспышка приближает нас к конечной победе. Но еще понадобятся люди, герои, которые поддержат в сердцах любовь к родине!
– Ты опять говоришь что-то такое…
– …Есть славянская легенда о старинном города-говорил Тит в четвертом часу, почти лишившись голоса, – который опустился на дно озера во время нашествия врага. И волны сохранили его. Таким тайником, таким волшебным городом является художник во время народных бедствий!
– О нет, это не моя роль! Стыдись, Тит!
– С той только разницей, что голос художника звучит из глубины и будит, зовет свой народ, как колокол. И этот колокол не должен умолкнуть,… Если бы я не верил в твое назначение – я послал бы тебя на смерть, клянусь тебе! Но в той стихии, которая тебе доступна, ты единственный! Единственный, Фридерик! Взгляни шире на свою жизненную цель! Подумай!
– А ты, конечно, едешь? И немедленно? – с горечью спросил Фридерик.
Чем тише говорил Тит, тем убедительнее звучали его слова.
– Я еду через несколько дней. Мы еще поговорим. Теперь уже поздно. Слышишь, как я охрип? Ложись. Утро вечера мудренее?
Но больше поговорить не пришлось. Фридерик не спал до утра. Тит лежал на кровати одетый, с закрытыми глазами и не отзывался на оклики. Уже на рассвете Шопен заснул тяжелым оном. В десятом часу он проснулся – я не застал Тита. На столе лежала записка:
«Прощай, друг и брат! Даст бог, увидимся! Не забывай моих слов!»
В отчаянии, в смутном ожидании чего-то непоправимого Фридерик отправился в посольство. Там его не приняли. В приемной уже стояла и волновалась толпа его соотечественников, застрявших в Вене. Как же Титу удалось проскочить без нужных бумаг, без отметки в паспорте? Или он заранее все приготовил? Но, может быть, его задержат на границе? Этот день, проведенный без Тита, в роскошном и невыносимом своей роскошью номере, вспомнился ему потом как долгий, болезненный сон. Все время лил проливной дождь. Сквозь туман проступали очертания высоких башен и домов. Гул колокола слышался вдали. Было воскресенье, и Вена собиралась развлекаться. Лишь поздно вечером Фридерику удалось нанять почтовую карету, чтобы догнать Тита, если он действительно задержан. Карета мчалась через весь город. Возница гнал лошадь. Что-то фантастическое, безумное было в этой скачке, ночью, навстречу темноте, под свист ветра и непрерывное хлестанье дождя! Фридерик дрожал от холода и не сознавал, где он находится и сколько времени прошло после отъезда Тита.
Внезапно он услыхал голоса. Свет фонаря ударил ему в лицо. Карета остановилась. Человек в военной шинели попросил его выйти. Другой офицер, высоко подняв фонарь, стал просматривать бумаги Шопена. Дождь не переставал лить. Фридерику предложили переночевать в таверне, с тем чтобы утром вернуться в Вену и там привести в порядок документы. Он повиновался в каком-то оцепенении.
Остаток ночи он пролежал на жесткой кровати в жарко натопленной корчме. Пожилой солдат сидел поодаль, держа саблю между ног, и боролся со оном. Наутро он должен был сопровождать своего пленника в Вену. Шопен не двигался. Безумие его попытки стало ясно ему самому.
Во время скачки в карете, а может быть раньше, он простудился. Две бессонные ночи и страшное напряжение, которое не оставляло его с тех пор, как он узнал о восстании в Польше, окончательно подорвали его силы, и в Вену он вернулся больным. К счастью для него, оставленный номер в гостинице был еще не занят. Фридерик свалился на оттоманку почти в беспамятстве. Доктор Мальфатти, его венский знакомый случайно зашедший к нему с утра, спас его от горячки. Но нервное потрясение было слишком велико и не могло скоро пройти.
Глава втораяС тех пор начались для него муки. Он был заперт в Вене, как мышь в мышеловке. О возвращении в Польшу не могло быть и речи. Но и в другой город невозможно было выехать без нового паспорта, а старый уже стал недействителен. Шопен жил в этом городе без всякой пользы для себя и других. Он мог, пока у него были деньги, принимать участие в развлечениях, в которых не было недостатка, бывать в аристократических домах, куда его приглашали, но все это было скучно, тошно, не нужно ему теперь! Не было никакой надежды выступить здесь в концерте, это он понял с первых же дней. Во-первых, он был поляк, а это не нравилось австрийцам; во-вторых, венские музыканты боялись конкуренции, которая как раз в последнее время обострилась, и нашептывали Галленбергу, что не стоит рисковать. Но главной причиной было то, что изменилась сама публика. Она не посещала серьезных концертов. Черни был совершенно прав, утверждая, что ей нужны только танцы. Такому серьезному скрипачу, как Славик, приходилось в концертах менять на ходу свою программу и вместо арий Баха играть фантазию из уличных маршей и танцев.
Штраус-отец был тогда в полном расцвете сил, он становился кумиром венцев, а любимой концертной площадкой уже была кофейня или биргалль – пивная, – куда приглашались небольшие оркестры. Пока оркестр разыгрывал свои попурри, посетители пили пиво, ели сосиски и под музыку обсуждали свои дела. Сам Штраус, который дирижировал оркестром, в перерывах подсаживался тут же к какому-нибудь столику и заводил непринужденный разговор со своими слушателями.
Но как могла измениться Вена в такой короткий срок? Не было ли каких-нибудь зловещих признаков и раньше? В юношеском увлечении, в радости от своих тогдашних успехов Фридерик многого не замечал. Но теперь, вспоминая графа Галленберга, критика Благетку, оркестровых музыкантов и самую публику, он начинал понимать, что людей, истинно любящих музыку и готовых отстаивать ее чистоту, и тогда было мало. Правда, ничто не мешало любви к музыке там, где это проявлялось. Теперь же, когда нравы и привычки сильно поколебались, не устояли многие хорошие музыканты.
Нельзя сказать, чтобы гастролеры совсем не приезжали и чтобы в ратуше не было концертов. Но их было немного, а артистов, исполнителей классического репертуара, принимали холодно. Исключением был Сигизмунд Тальберг, пианист, приехавший из Парижа. Говорили, что он соперник самого Листа, а в Вене имя Листа было знакомо: он играл здесь еще мальчиком, и все помнили, что его отличил Бетховен.
Тальбергу было лет девятнадцать, не больше. Самоуверенный, развязный, большой щеголь, он заботился о внешнем впечатлении. Он выходил, кланялся и встряхивал волосами по-своему, не так, как другие пианисты. На пальце носил кольцо с таким большим бриллиантом, что оно гипнотизировало сидящих близко и мешало им слушать. Он долго и задумчиво прелюдировал, а во время пауз в бессилии ронял свободную руку, любил также переносить правую руку через левую и наоборот. Публике казалось, что из всех фокусов, доступных пианистам, это перекладывание рук – наиболее трудный.
Исполнение Тальберга было под стать и бриллианту в перстне, и щегольской одежде, и ловким движениям рук. Все, что он играл, казалось блестящим и трудным, настолько трудным, что публика напряженно следила, как он справляется со всеми этими препятствиями. В зале волновались, как на скачках. Но Тальберг блестяще справлялся: децимы брал как октавы,[14]14
«…децимы брал, как октавы…». Децима – интервал шириной в десять ступеней, октава – в восемь. Признак хорошо развитого пианистического аппарата у Тальберга.
[Закрыть] играл удивительно быстро. К тому же надо сказать, что посетители концертов, по крайней мере большая часть, не замечали истинных музыкальных достоинств Тальберга. Все покупали билеты непременно в первых рядах, а кто сидел дальше, вставали с мест, чтобы видеть чудодейственные руки пианиста, и все, что они проделывают. Венцы так и спрашивали друг у друга: – Видели вы Тальберга? – Шопен с удивлением узнал, что Тальберг пишет музыку, например, фортепианные квинтеты, но, просмотрев один из них, не полюбопытствовал познакомиться с другими.
В счастье время проходит быстро. Фридерик мог убедиться, что в горести оно проходит быстрее. В Вене, где ему было скучно, тоскливо, где он чувствовал себя одиноким, где его дни уходили, не оставляя никакого следа, незаметно протекло шесть месяцев, в течение которых он жил и не замечал жизни. Он завтракал, обедал и ужинал, гулял, заводил знакомства, играл в салонах, но все это как во сне, в смутном ожидании чего-то. Он спрашивал себя: зачем он здесь? Что будет дальше? И не находил ответа. Его удивляло, как это в детстве и юности он находил вокруг себя столько интересных, умных, добрых людей и как теперь встречал совсем другое! Он писал в дневнике: – Они, может быть, и не плохие, но так самодовольны, так посредственны! А я не выношу даже запаха посредственности!
В этом беспримерном одиночестве (хотя в приятелях не было недостатка) он даже сочинять не мог, – и это было мучительнее всего. Какой-то шум все время преследовал его, неясный, но сильный, как будто производимый басовыми струнами. Это было величественно, но – как фон, как начало, как подступ к чему-то значительному. Это можно было сыграть левой рукой. Для правой еще не наступило время.
Отрадой его теперешней жизни были письма из Варшавы и часы сна. Ему часто снились родители, сестры, веселые, любящие, какими он привык их видеть. Констанция не являлась ему в этих снах. Только один раз он видел ее: богато одетая, чуть ли не в подвенечном платье, окруженная толпой, она медленно прошла мимо него сквозь два ряда зажженных свеч. Именно в этих свечах было что-то нерадостное, даже страшное, как при выносе покойника. Она смотрела на него невидящими глазами, в которых отражались язычки пламени. Она не узнавала его, и он мучился мыслью: оттого ли она не узнает его, что забыла, или оттого, что ей мешают зажженные свечи? Он проснулся в тоске…
Письма родных были добрые, успокаивающие, но он читал между строк и понимал, что от него многое скрывают. Отец ничего не советовал, считая Фридерика достаточно взрослым, чтобы распоряжаться собственной судьбой, и только просил быть как можно экономнее: значит, у них не хватало денег. Несмотря на подробные письма сестер, он не знал, как и чем живет борющаяся Варшава. Она держалась уже полгода, но – как? Какие силы поддерживали ее? Фридерик знал, что ее осаждают русские войска, что ее запасы иссякают, что шляхтичи, которые в первые месяцы были охвачены патриотическим подъемом, охладевали по мере того, как восстание ширилось, захватывало деревни и обращало против панов их собственных хлопов. Об этом писал Фридерику Ян Матушиньский, достаточно умный и проницательный, чтобы разобраться в событиях. Но это были выводы, обобщения. А Фридерик жаждал подробностей: как чувствуют себя родители? Как выглядят сестры? Что едят и пьют? Хорошо ли спят по ночам? Грозит ли им непосредственная опасности? Не могут ли они быть… ранены, проходя через город? О Констанции Ясь сообщал более вразумительно: похудела, побледнела, часто справляется о Вене. Но ее первые письма к Фридерику были ужасающе безличны. Она справлялась о его успехах, желала удачи, сообщала, что она, слава богу, здорова. И ни одного слова о том, что связывало их, ни беспокойства, ни горести от разлуки! Как будто не было ни их свидания в ботаническом саду, ни их прощания, ни восстания в Польше. И все же он покрывал эти письма поцелуями, плакал над ними. Здесь, на чужбине, он любил ее еще сильнее и ревновал ужасно. Должно быть, так суждено ему было до конца дней.
Из венских знакомых, кроме скрипача Славика,Шопену нравился еще доктор Мальфатти, старинный друг Бетховена. Он был начитан, остроумен, хорошо понимал музыку, горячо любил ее, но и этот живой, приветливый человек раздражал Шопена своей безучастностью к европейским событиям, к судьбам народов. Может быть, когда-то Бетховен и любил его, но вряд ли он чувствовал бы себя хорошо теперь, на роскошной даче Мальфатти, – где изысканный стол был, пожалуй, главной заботой хозяина. С тех пор как Вена стала тюрьмой для Шопена, рассуждения богатого эпикурейца о том, что все равно где жить, лишь бы тебя посещала муза, надоедали Шопену и усиливали в нем чувство одиночества. А Мальфатти был одним из лучших людей, встреченных им за последнее время.
Неожиданно представился случай выступить публично, за плату: Шопена пригласили принять участие в концерте певицы Вестрис, то есть «разбавить» ее пение, как некогда певцы и скрипачи «разбавляли» его игру. Он должен был отказаться. Но деньги приходили к концу, и он с ужасом думал о том недалеком дне, когда придется обратиться к отцу за помощью. Он согласился играть. Певицу встретили холодно, Шопена – без единого приветствия, как будто навсегда были забыты его прежние концерты.
Он играл свой ми-минорный концерт, и это было для него пыткой. Ми-минорный концерт, прощальный, варшавский, – перед этой разряженной, самодовольной публикой, пришедшей сюда развлекаться! Шопену казалось, что он предает родителей, сестер, друзей, выставляет их на публичное поругание. Еще раньше, одеваясь у себя в номере, он сознавал всю нелепость, невозможность этого выступления. Нельзя, не презирая себя, играть здесь, добиваться внимания! Он ясно представил себе Тита и Яся, рискующих жизнью…, Может быть, их уже нет в живых? Он видел в зеркале свое бледное лицо, завитые волосы, накрахмаленное жабо… Кому это нужно? И не сон ли все это? С тем же чувством презрения к себе он вышел на эстраду. Хорошо, что из трех частей он выбрал не первую, а финал. Об адажио не могло быть и речи! Но польский танцевальный финал расхолодил публику, она сочла этот выбор бестактным. «Бог сделал ошибку, создав поляков», – Фридерику вспомнилась эта немецкая пословица. С каким наслаждением он бросил бы в лицо этим сытым богачам что-нибудь хлесткое, злое, обрушил бы на них все свое отчаяние! Он не знал прежде подобных чувств. Но теперь испытывал ненависть. Зачем он здесь? Кто эти выхоленные люди? Эти женщины с обнаженными плечами? Что они ему? Что он им? О нет, это не просто равнодушие или отчуждение, он видит – они готовы бояться его: ведь польское восстание грозит их покою и благополучию! В первый раз он почувствовал себя революционером. В Варшаве он произносил это слово всуе, он еще не понимал его значения. Теперь он молчит, стиснув зубы, но зато всеми нервами, всей кровью понимает смысл этого слова и страдает оттого, что не умеет выразить свои чувства даже наполовину, – это не сразу дается.
С трудом доиграл он финал. Его знобило, и только сильная техника помогла ему продержаться до той минуты, когда в последний раз вступил оркестр. Дирижер к концу заторопился: вероятно, и ему было не по себе, он чувствовал равнодушие публики. Раздались слабые хлопки. Шопен коротко кивнул и удалился – уже среди полной тишины.
После этого его надолго оставили в покое, и он замкнулся в себе.
Тоска преследовала его по пятам. Он все еще надеялся продлить свой польский паспорт. Если бы это оказалось возможным, он попытался бы вернуться в Варшаву. Он мечтал об этом. Но отец в первый раз за все это время высказался категорически против возвращения. Он настаивал на переезде во Францию-единственную страну, где Фридерик мог бы добиться цели. Была еще Италия, но там началась революция. А Париж – всегда Париж: там сосредоточены все силы мирового искусства.







