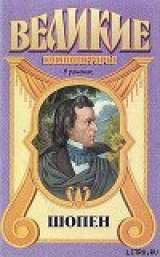
Текст книги "Шопен"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
Через неделю, в воскресенье, у кузнеца Кароля Ловейки были крестины его новорожденной дочери… Фридерик, Ганка и вернувшийся в Шафарню Домек, втроем отправились на праздник. Ганка принарядилась: туго заплела волосы и надела ожерелье из брусничных ягод, чтобы издали походили на кораллы. Никто не удивился, увидя ее в обществе панычей: в деревне барчуки часто гуляли с крестьянскими детьми. Но девчата недружелюбно оглядели Ганку. Подруги и прежде сторонились ее, а Ганка была слишком горда, чтобы навязываться кому бы то ни было. И ей было все равно. Насмешки не могли сделать ее жизнь еще горше. А то, что ей теперь хорошо, так этого никто не отнимет.
После крестин, к вечеру, целая процессия выстроилась во дворе. Начался деревенский полонез, пеший танец. Все шли парами, держа в руках зажженные каганцы. Седоусый распорядитель танцев, которого здесь называли «гетманом», захлопал в ладоши. Цимбалист и скрипач, шедшие впереди, остановились, за ними все пары. Они образовали большой круг. Музыка продолжалась, но это был уже не полонез, а оберек – трехдольный танец, похожий на мазур. Большой круг распался на маленькие кружки, которые вертелись и пели. В каждом пели по-своему. Музыка была общая, а слова разные. Справа слышалось:
За горами, у ракит,
Во садочке дом стоит…
А слева:
Там, где Висле конец,
А морю начало,
На морском берегу
Девушка рыдала…
Печальная песня, но мелодия так хороша, что ее повторяют и в веселый час.
В кружке у Ганны были только трое: она, Домек и Фридерик. Но вскоре их разлучили. Усатый «гетман» вновь захлопал в ладоши, и по этому знаку танцоры опять стали строиться в пары. Ганка очутилась рядом с братом кузнеца, а Фридерик – впереди с веселой Данутой, ровесницей Ганки. Теперь уже шли без горящих каганцов. Фридерик оживленно разговаривал со своей парой. О чем это? Брат кузнеца сказал, что у многих огоньки погасли, только у пана Фридерика сохранился дольше, чем у других, а это означает долгую жизнь.
У Ганки одной из первых потух ее огонек. Такая судьба…
…И зря поливала я тополь высокий…
Но вот опять начались танцы. Скрипач был мастер, струны его скрипки пели, подпевали, ухали, гудели, скрипели. Ганка опять очутилась в паре с Фридериком. Он успел сказать ей, что Шафарня ему нравится своей уединенностью – сюда еще не проникли городские влияния и сохранились древние напевы.
– Да, – сказала Ганка, – а паныч в городе живет?
– В Варшаве. И я не паныч.
– Хоть бы разок побывать в Варшаве!
Тут к ним подошли две дивчины, босоногие, с венками на головах, и после долгих перемигиваний и взаимных подталкиваний пропели, глядя на Фридерика:
У забора мхи растут,
Варшавянин тут как тут!
Вырос явор у калитки,
Варшавянин больно прыткий!
Шалуньи, кажется, собирались приплести варшавянина к концу каждого куплета, если не каждой строки… В следующей строфе они упомянули про гумно и прясло и тут же сравнили варшавянина с худой, облезлой собакой. Польщенный оказанным вниманием, Фридерик на всякий случай осведомился, не о нем ли идет речь. Дивчины визгливо засмеялись и побежали прочь, а Ганка объяснила, что они не хотели его обидеть: гостя принято приветствовать на празднике, а он действительно очень худой.
Танцы продолжались своим чередом. – Ксеб! – выкрикивал гетман. Это означало: к себе! – и все танцоры начинали кружиться в левую сторону. При этой «ксебке», разумеется, сталкивались друг с другом, наступали на ноги, сердились – и смеялись. Скрипач играл, что хотел, – в самом разгаре веселья вдруг перешел на плавную мелодию, слишком медленную для танца. Под нее хорошо было пройтись об руку свободным шагом, поговорить о чем вздумается, но, конечно, не отставать от такта и быть начеку, потому что гетман, да и сам музыкант готовили новый, неожиданный подвох.
– Мой огонек давно погас, – сказала Ганка. – Значит, недолго мне жить!
– А ты не верь глупым приметам! – с досадой отозвался Фридерик. – Моей маме предсказали, что я умру восьми лет, и видишь, еще столько же прошло, и я живехонек! А мама так страдала!
– Самое большое благо, – произнесла Ганка задумчиво, – это не знать своего смертного часа! А мама у паныча, наверное, очень красивая! Глаза голубые…
– Совсем голубые.
– И у паныча такие же…
– Что ты! Это только так кажется! У меня желтые!
– А есть еще братик или сестричка?
– Целых три сестры. Они бы тебе понравились!
– Отсиб! – оглушительно провозгласил гетман, и все резко повернули от себя – вправо. Ганка от неожиданности так и упала на Фридерика, а рядом один долговязый танцор споткнулся и растянулся на полу, к счастью не успев потянуть за собой свою даму. О медленной прогулке забыли. Начался общий пляс: притопывание каблуками, подбрасывание девушек кверху, кружение на одном месте и стремительный лёт вперед. Танцоры, разгорячившись, пели, выкрикивали: – Эй, хлоп! Дана-дана! – Отдельные хоры перекликались, отвечая друг другу с разных концов.
– Веселись, гуляй, разгорайся, мазовецкая кровь! Здесь, на Куявии, мы также покажем себя! – Фридерик старался не отставать от танцующих: ведь и он из Мазовии! Пляска и песня – одно целое, одна душа! Веселье разгоралось, как пожар; казалось, оно охватило всех: подпрыгивали и кружились дети, выкидывали коленца старики. Теща кузнеца, подбоченясь, приплясывала одна, без пары, и припевала:
Гей! Гей! Дана-дана! А я все еще панна!
Но ее заглушал мощный хор молодых хлопцев, налетевших издалека, подобно жаркому вихрю:
Гоп! Гоп! Круг за кругом!
Так пройдемся друг за другом!
Ты притопни в такт ногами
Да пристукни каблуками!
Казалось, они скачут на разгоряченных конях.
– Каково?! – кричал Домек, проносясь мимо. Он, кажется, готов был танцевать всю ночь, до рассвета. И громко пел:
Мы, мазуры, забияки
В каждой пляске или драке!
Хотя он вовсе не был мазуром. А также и забиякой.
Но Фридерик уже чувствовал усталость…
Да и то сказать – ночь быстро пролетала. Уже не все гости принимали участие в огненном мазуре. Нашлись одинокие меланхолики, которые стояли в стороне. Две девушки гуляли вдалеке, обнявшись. Еще несколько фигур бродило на лугу. И какой-то неприкаянный хлопец слонялся одиноко и напевал про себя:
Глава тринадцатая
Не дай бог влюбиться!
Уж лучше темница!
Решетку подпилишь,
Любви не осилишь!
… Что за странные звуки раздаются по вечерам со стороны пруда – не то смех, не то плач, не то крик о помощи? Это стонет неведомая птица, предвестница близкой осени. Так объяснила Ганка.
Раньше этих звуков не было слышно. Сегодня в первый раз за все лето…
– Теперь ночи уже прохладные, – заметил Фридерик, поеживаясь. – Чувствуется, что осень недалека…
_ Да, – отвечала Ганка, – а за ней зима!
– Зимой, вероятно, не так тоскливо.
– Да, снег кругом… Как саван…
– Ну что ты, Ганна!
… Над прудом поднимался туман.
– Что же ты, совсем не умеешь читать? – спросил Фридерик.
Ганка потупилась.
– Совсем не умею.
– Жаль. Я написал бы тебе письмо из Варшавы.
– Напишите, – сказала она тихо.
– Кто же тебе прочтет?
– Никто. Я никому не покажу.
– Какой же тебе толк в письме?
– Так.
– Да.
– Какой же? Что тебе нарисовать?
– Не знаю.
– Может быть, тебя? Как ты пела на заборе?
– Да. Но письмо – тоже.
– Ты же его не разберешь? Молчание.
– Зачем же оно тебе?
– Так.
…Снова послышался хохот или крик, только еще страшнее, чем прежде.
– А люди говорят, это не птица… – сказала Ганка.
– Кто же?
– Вила.
– Вила? Русалка?
Об этом он слыхал. Девушка бросилась в реку и там сделалась русалкой. В светлые, лунные ночи она выплывает на берег.
– …К берегу подходит старуха, – таинственно зашептала Ганка, – и приносит младенца, красивого, как месяц. – Выходи, Кристина, – кличет она, – покорми свое дитя! – И выходит Крися на берег, и кормит дитя, и обливает его слезами.
– А ты отчего плачешь?
– Так. У меня сестра здесь утонула. Давно… Рассказывали и по-другому. Несчастная вила не может ни петь, ни плакать. Это ей наказание за то, что наложила на себя руки, самовольно покинув землю раньше, чем бог призвал ее. Выходит она по ночам на берег, смотрит в ту сторону, где ее родное село, и вспоминает свою беду…
– По-моему, это не польская песня. Но очень хороша!
– Здесь были девушки из Литвы и с Украины. Может, они привезли…
– А дальше что?
– А дальше – вспомнила свою жизнь. Хотела заплакать – не смогла, хотела запеть – не смогла. Сотворить молитву забытую хочет, Нет для ней молитвы, – и она хохочет.
– А люди думают, что это сова кричит или другая птица…
– И какой конец необычный: интервал на терцию вниз!
Ганка не спросила, что это значит: она поняла. Конец песни и ей больше всего нравился. Она поглядела вдаль. Темно-темно, ничего не видно, и на небе ни одной звезды. Кончилось лето…
Домек Дзевановский провожал Фридерика на станцию. Сам он оставался на несколько дней в Шафарне; уроки в лицее еще не начинались, но Фрицек так соскучился по дому, что решил уехать раньше. Ганка его не провожала – она еще третьего дня ушла на работы в соседнее село.
– Домек, знаешь, о чем я тебя попрошу? – сказал Фридерик. – Я не успел проститься с Ганной, передай ей от меня этот листок.
– Вот чудеса! Ноты?
– Это записанный мазур. Помнишь, я играл тебе?
– Про солнышко что-то. Помню. Но ведь она нот не знает!
– Ничего, она догадается.
Фридерик помнил, как однажды Ганка, победив свою робость, пришла в господский дом по приглашению Домека. Увидав ноты, она принялась перелистывать и рассматривать их с таким видом, точно умела их разбирать. Домек со смехом спросил, не споет ли она по нотам. Совершенно серьезно она ответила, что если бы ей хорошенько в них вглядеться, то она кое-что и поняла бы.
– Мне кажется, она будет рада этому подарку. А я ей многим обязан!
– Фантазия! – сказал Домек.
– Ой, нет! Я много думал об этом! Как это, в сущности, несправедливо, что вся слава достается поэту или композитору, а те, кто помогал ему, остаются в безвестности и нужде! Неужели ты не понимаешь?
– Да ведь это же темный народ! Они и сами не сознают своего дара! Мама говорит, что они и колдуют, и будущее предсказывают, и лечат порой очень хорошо – и все по наитию!
– Это доказывает, что у них талант и большой опыт.
– Боже мой, какой ты фантазер! Это у тебя влияние Тита!
– Ну, хорошо, не буду спорить. Ты только передай ноты. Хорошо?
…Ганка взяла листок из рук Домека, поглядела на него, потом на Домека. Впилась глазами в ноты, медленно провела пальцем по первой нотной строке. Ее губы шевелились. Сильно покраснев, она опять взглянула на Домека.
Когда же он ушел, она положила листок к себе за рубашку, поправила ее и побежала. Она бежала до пруда, вскочила на забор и, вытянув шею, стала глядеть вдаль, на проселочную дорогу. И хоть уже четыре часа прошло с тех пор, как бричка отъехала в Варшаву, Ганка продолжала смотреть на дорогу, прилежно следя за клубами пыли, за медленно передвигающимися повозками. Потом, услыхав голос сестры, зовущей ее издалека, она слезла с забора и, нащупав листок на груди, побрела домой. Скрипучее быдло поравнялось с ней на поляне. Крестьянин с трудом шел за телегой, и тоскливо глядели красные глаза волов.
Часть вторая
Глава перваяВаршавская консерватория состояла из двух отделений– собственно консерватории и высшего музыкального училища. В консерватории обучались исполнители, главным образом оперные певцы. Училище выпускало композиторов и теоретиков. Профессор Эльснер возглавлял училище, поскольку сам был и композитором и теоретиком.
Фридерик поступил в училище в тысяча восемьсот двадцать шестом году. Эльснер отобрал и представил в приемную комиссию две мазурки своего ученика, ноктюрн и фортепианное рондо,[3]3
Рондо – композиция своебразной «круговой» формы, характеризующийся многократной повторностью основной темы, чередующейся с другими, контрастирующими темами. По происхождению связано с народной музыкой (хороводная песня с куплетами и припевом).
[Закрыть] уже напечатанное в Вене. Эльснер особенно рассчитывал на это обстоятельство, и не ошибся. Впрочем, ноктюрн и мазурки тоже понравились профессорам. Один из них сказал:
– Удивительно! Неужели ему только шестнадцать лет?
Эльснеру захотелось спросить в свою очередь.
– А сколько лет было Моцарту, когда он написал своего Митридата? – Но ограничился подтверждением: – Да, шестнадцать лет исполнилось первого марта.
Другой профессор не только просмотрел ноктюрн, но и проиграл его с видимым удовольствием. Он даже повторил последние четыре такта.
– Благородная меланхолия и изящество мысли! – определил он, – даже в какой-то степени напоминает Фильда.[4]4
Джон Фильд – английский клавесинист и педагог. Знаменит своими ноктюрнами.
[Закрыть]
Эльснер подумал: «Пусть будет так! Не стоит теперь доказывать, насколько Шопен оригинален; сами убедятся впоследствии!»
Таким образом, все устроилось, и Эльснеру даже не пришлось давать характеристику своему питомцу.
Варшавские музыканты хорошо знали Фридерика. В Прошлом году в зале консерватории он чудесно исполнил очень трудный концерт Мошелеса; для публики было важно другое: газетные сообщения, слухи о том, что «Шопенка» печатают в Вене, а пуще всего то, что произошло на празднике во время приезда русского царя. В присутствии царского семейства Фридерик играл на каком-то диковинном инструменте. На вид этот инструмент ничем не отличался от обыкновенного фортепиано, но все знали, что это инструмент-новинка: сочетание фортепиано с органом. Назывался он также по-диковинному: эолопанталеон! После второго концерта на эоло… и после хвалебной рецензии в «Курьере варшавском» об удивительном юноше заговорил весь город.
Но ни Эльснер, ни сам Фридерик не придавали большого значения этой славе. Эльснер был честолюбив, но он жаждал не таких успехов для Фридерика. Ему мерещился шумный зал Парижа – города, где таланты обретают истинное призвание. Но до поры до времени он внушал Фридерику, что надобно только учиться и даже на свои варшавские концерты смотреть как на практическую проверку, не более. Фридерик усердно занимался в ту зиму, и не только музыкой. Он никогда не читал так много, как в этот год, и даже ходил в университет на лекции по литератур Выпросив у родителей маленькую комнатку под самой крышей, чтобы никому не мешать, он проводил там долгие часы за письменным столом и маленьким учебным фортепиано. Рояль стоял внизу, в гостиной; на нем проигрывалось готовое. А в мансарде накапливались знания, возникали и развивались замыслы. Здесь можно было громко петь, стучать по клавишам, говорить с самим собой, писать письма Ясю Бялоблоцкому… Как ни тянуло Фридерика к людям, он понял наконец, что значит для художника уединение.
Родители, как всегда, давали ему полную свободу, сестры по-прежнему дружили с ним. Но Людвике уже минуло девятнадцать лет, а Изабелле – пятнадцать, и при всей их преданности брату они не могли жить только его интересами. Одна Эмилия думала о нем больше, чем о себе, – может быть, потому, что о себе не хотелось и нельзя было думать. Эмилия была безнадежно больна, и хоть ни родители, ни она сама не знали всей меры опасности, какой-то отпечаток боязливости лежал на всей семье, и это открывалось даже постороннему глазу. В доме никогда не говорили о болезни, нарочито избегая этого, а с Эмилией обращались так, будто не было никаких тревог за нее. Ей поручалось то же, что и сестрам, позволялось участвовать в тех же развлечениях, только в гимназию, она не ходила, учителя являлись на дом. Но в отсутствие Эмильки все думали о том, как оградить ее от трудностей и сделать незаметными беспрестанные заботы о ней.
Труднее всех приходилось пани Юстыне: она должна была всячески охранять здоровье Эмилии и в то же время заставить ее поверить, что никакой болезни нет! Это, разумеется, не удавалось, но поведение умной девушки облегчало матери задачу.
Часто Эмилия поднималась наверх, к брату: она одна умела не напоминать о себе в часы его занятий. Непоседливая Изабелла невольно отвлекала Фридерика сообщениями и расспросами, Людвика была слишком интересной собеседницей, чтобы не воспользоваться ее милым присутствием. А Миля сидела тихо-тихо! И что бы он ни играл, даже простые упражнения, она слушала благоговейно. Ей казалось, что под его пальцами и гаммы звучат не так, как у других, более выразительно! Сидя у маленького стола, придвинутого к окну, она обычно рисовала. На свету девочка казалась прозрачной. Распущенные каштановые волосы, перевязанные белой лентой, склоненная голова на тоненькой шее, чистая линия лба и носа, длинные пальцы, длинные ресницы – все очаровывало нежной печалью и напоминало солнечный день в самом начале сентября. А Эмилии было только четырнадцать лет!
Во время экзаменов Эмилька составляла вопросники-и очень толково. Фридерика, как всегда, поражала ее память. Учитель литературы уверял, что если Эмилия в будущем не прославит Польшу как писательница, то уж наверное станет выдающимся профессором литературы, первой женщиной-профессором в их стране.
Когда Фридерик утомлялся от долгой игры, они с Эмилией принимались болтать либо придумывать шарады для домашнего журнала. Это был отдых для Фридерика. Но Эмилька скоро уставала, даже от спокойных игр. Она незаметно засыпала у него на кушетке, а он снимал с себя свой байковый сюртучок и укрывал ее.
Летом Эмилька совсем разболелась, а Фридерик переутомился до крайности. Пани Юстына увезла обоих в Силезию, в городок Душники. У нее самой в последнее время сильно болели ноги, а горячий, источник Душников был, по мнению врачей, полезен для ревматиков. Играть Фридерику почти не приходилось – нельзя было найти порядочного инструмента, но природа Душников и его окрестностей была так живописна, что Фридерик, по крайней мере первые две недели, даже не тосковал по музыке.
Вначале им было весело. Польское семейство имело здесь успех. Две испанские графини ни с того, ни с сего распространили слух, что приезжая дама из Варшавы и ее очаровательные подростки – отпрыски старинного французского рода, которые очутились в Польше не по своему желанию, а «сами понимаете отчего: Наполеон не любил знати!» Фридерик упросил – мать не лишать его развлечения и не опровергать эти слухи. И они с Эмилией принялись играть роли «отпрысков»– это заменяло им домашние любительские спектакли, где они так успешно применяли свои актерские способности. Они стали держать себя замкнуто и таинственно, говорили только по-французски и интриговали графинь намеками на трагические обстоятельства, приведшие их в Польшу. Иногда они произносили фразы вроде: «Бедные изгнанники не могут себе позволить…» Как ни была польщена пани Юстына, как ни пришлась ей по сердцу эта игра, она в конце концов забеспокоилась:
– Не слишком ли вы расшалились, дети? А вдруг узнают?
– Что же, собственно, узнают? – хладнокровно спрашивал Фридерик.
– Узнают, кто мы такие.
– А кто ж мы такие? Миля смеялась.
– В самом деле, кто мы такие? – Ах, господи, они узнают, что мы вовсе не французы! – А разве папа не француз? А наша фамилия? – Не аристократы! – А разве ты не аристократка?
Но пани Юстына все-таки спросила своих графинь, чем вызваны их предположения.
– Ну что вы, мадам! – отвечала старшая графиня, более чопорная и требовательная насчет светского этикета. – Вы, без сомнения, привыкли к высшим сферам. У ваших детей такие тонкие черты лица, такое врожденное изящество и… манеры! В среднем сословии никогда не встретишь таких детей!
После того как Фридерик дважды выступил в благотворительном концерте, испанские графини еще крепче утвердились в своем мнении. Все это было бальзамом для сердца пани Юстыны, но Фридерику наскучили графини, и он решил, что затянувшийся водевиль, как и всякое представление, должен иметь развязку и притом поучительную для зрителей. Он сговорился с Эмилией, и та в присутствии обеих графинь напомнила матери, что пора вернуться домой – помочь отцу принять учеников. – Ведь наш папа учитель, – пояснила Эмилия. – И был им всегда, – с готовностью прибавил Фридерик, – наш дедушка сам работал и не оставил средств!
Пани Юстыне не сиделось на месте. Но все обошлось.
– Если вам угодно сохранить инкогнито, – с достоинством сказала старшая графиня, – мы не смеем на него посягать!
Незадолго до отъезда настроение омрачилось: Эмилия вдруг сделалась молчаливой, скрытной, хотя внешне она как будто и поправилась. Фридерик не расспрашивал ее: он чувствовал, что сестра перестала быть его товарищем и начала жить своей, особой жизнью, оберегая ее от всех, главным образом от него и матери… И это внушало тревогу…
Накануне отъезда вечером Фридерик и Эмилия заблудились в окрестностях, отойдя довольно далеко от города. Быстро стало темнеть, горы как будто надвигались на них. Оставив Эмилию у большого дуба, Фридерик пошел вперед, где открывалась широкая тропинка. Он окликнул пастуха, шедшего со стадом, и тот объяснил ему, как вернуться. Фридерик и сам увидал знакомый ему золоченый шпиль церкви.
Когда он вернулся к сестре, уже стемнело. Но было видно, что Эмилия очень бледна. Она стояла, прислонившись к стволу дерева. Должно быть, испугалась чего-то…Полный раскаяния, что оставил ее одну, Фридерик стал расспрашивать ее.
– Да нет, ничего не случилось, – оказала она слабым голосом, – никто тут не проходил.
– Ради бога, извини меня!
– Да нет, Фрицек, не в том дело! – Она взяла его об руку, и они отправились дальше. – Видишь ли, пока я тут ждала, мне пришла в голову мысль, что ты больше не придешь. – Что за глупости! Отчего же ты не окликнула меня? – Я пробовала, но не в этом дело! – А в чем же? – Она промолчала. – Но теперь, когда я здесь, ты успокоилась? – Она ничего не ответила.
Фридерик похолодел от страха. Он понял, отчего сестра чуждалась его в последнее время: она уходила от него и сама приучала себя к разлуке. Темнота, в которую она погружалась, сгустилась теперь до полного мрака. И здесь, очутившись в незнакомой местности, среди наступающего вечернего безмолвия, Эмилия ощутила себя уже по ту сторону. И с его появлением ничто не могло измениться.
Курорт помог пани Юстыне, но не помог Эмилии. Правда, в первые недели она была настолько бодра, что в доме даже перестали бояться упоминания о ее болезни. Ей уже говорили: – Милишка, этого тебе нельзя, – и это был хороший признак!
Всю осень и часть зимы Эмилька чувствовала себя сносно. Несколько раз была с Фридериком на лекциях Бродзиньского о польской литературе, вместе с Людвикой обработала в стихах две польские сказки. Была она также и в театре на гастролях немецкой оперы и с удовольствием слушала «Волшебную флейту». Но в конце декабря она слегла и больше не вставала. Частые кровопускания и пиявки вконец измучили ее. Она умерла в апреле, когда деревья начали покрываться листьями. В ее комнате было много солнца, а через открытую форточку слышалось пение птиц.
Фридерик теперь не заходил в свою мансарду, спрятал ноты и не играл больше. И родных могла расстроить музыка. Но прошло несколько дней, и они сами настояли, чтобы он продолжал занятия.
Взяв первые аккорды, он остановился: рыдания разрывали ему грудь: Эмилия еще слышала эти звуки! Но не играть было хуже, труднее. И он играл и плакал – целыми часами. В один из таких дней к нему заглянула Изабелла; она сама выглядела как после болезни. – Это хорошо, что ты так много играешь, – сказала она, – хорошо для всех нас. Теперь мама может, по крайней мере, плакать!
Проклятый это был год! Он приносил несчастье за несчастьем. Умер Ясь Бялоблоцкий. Он давно уже хворал, его хромота была зловещим признаком. Но Ясь никогда не жаловался, и Фридерик не подозревал, что так близка развязка. В детстве нет места черным мыслям. Но детство уже кончилось, и каким мрачным шествием ознаменовалось прощание с ним!
В пансионе не снимали траур. Мальчики еще теснее сплотились вокруг семьи Шопенов. Пан Миколай едва ходил, он был сражен несчастьем. Болезнь Мили была наследственная, перешедшая к ней от отца. В молодости он страдал такими же приступами лихорадки и так же задыхался от кашля. Но его болезнь отступила. Сознание собственного здоровья более всего удручало пана Миколая, и он роптал на несправедливость бога, допустившего это и забравшего одну жизнь вместо другой.
Но «кто сеет дружбу, тот пожинает верность», – так говорил пан Миколай, и все чувствовали, что он прав. Живный, Эльснер, Бродзиньский, Линде навещали и всячески поддерживали ослабевшего хозяина. Тит Войцеховский удивительно повзрослевший за этот год, тронул всех деликатной, сыновней нежностью к пани Юстыне.
Антось Барциньский, бывший воспитанник пана Миколая, а затем и преподаватель пансиона, в последнее время оставил эту работу: талантливый математик, он готовил диссертацию на очень сложную тему. Но после похорон Эмильки он сам напросился помогать пану Миколаю в пансионе. Изабелла спросила его однажды, не слишком ли он утомляется. Он ответил: – Вам принадлежит не только мое время, но и моя жизнь! – Странно! Антек Барциньский был не из тех, кто зря произносит подобные фразы! Стоя на балконе, откуда видна была почти вся Варшава, Изабелла вспоминала Антека и его слова. Конечно, он хотел сказать: «Вашей семье принадлежит моя жизнь»… тем более что он никогда не говорил Изабелле «вы»! Ведь они росли вместе! Правда, он старше… Но у него так странно звучал голос! В первый раз за все эти недели Изабелла отвлеклась от своей скорби. В досаде на себя она заплакала, но и слезы были не такие, как она желала бы! Они были сродни ясному вечеру, теплому воздуху, прекрасной Варшаве и этим новым мыслям, в которых была не горечь утраты, а скорее предчувствие нового и радостного… Изабелла утирала слезы и шептала:-Дева Мария, прости меня!
Начиналось лето. Ей шел семнадцатый год.







