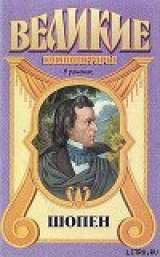
Текст книги "Шопен"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
Одно лишь Аврора знала твердо: она не в силах прямо заговорить с ним об этом. Этого она не могла. Не могла, как мнительный человек, обнаруживший в себе признаки опасной болезни, боится обратиться к врачу, чтобы не услыхать приговор. А болезнь между тем прогрессирует, и скоро будет совсем поздно. Так она рисковала в один прекрасный день узнать о крушении своих надежд, услыхать от него слова бесповоротного прощания! Он будет жалеть об этом, страдать, но все равно уйдет. Он с его нравственными понятиями чувствует себя виноватым перед Марией и непременно вернется к ней.
Когда его поздравляют в присутствии Авроры (иные нарочно, чтобы она слышала!), он ничего не опровергает, только лицо у него становится каменным. Конечно, при ней ему неприятно отвечать на эти поздравления, но он не говорит: «Помилуйте, это только слухи!». Нет, это не слухи!
– Двойственность унизительна, – говорила себе Аврора, – правда, как бы она ни была горька, лучше всего. Но я не хочу правды, я боюсь ее!
Она справлялась у всех знакомых исподтишка, не знают ли они чего-нибудь нового. И все говорили одно и то же: свадьба решена, согласие отца получено, и, возможно, Водзиньские уже на днях прибудут в Париж, чтобы закупить приданое и показать Мари все достопримечательности города, прежде чем молодые уедут в Польшу, в свое уютное гнездышко. Аврора ничего не хотела знать об этом – и всех расспрашивала. Мари! Это имя обжигало ее. И она будет свидетельницей этой свадьбы, она увидит их рядом! В довершение всего графиня д'Агу сказала ей с совершенно ангельским видом, что, по словам Мендельсона, который знал Водзиньских в Дрездене, Мари не только мила и изящна, но и очень умна и обладает многими талантами: пишет красками, восхитительно играет на фортепиано и даже сочиняет музыку! – Так что, как видите, душечка, помимо того, что есть у нас, эта девочка обладает и тем, чего мы не имеем: цветущей юностью. Восемнадцать лет – это такой козырь, с которым выиграешь любую игру!
В тот же вечер, слушая игру Шопена у себя дома, Аврора была рассеянна и так нервничала, что попросила его не играть больше. Когда все ее гости ушли, он остался. Но она сама прогнала его и потом часть ночи провела в слезах.
Наплакавшись, она задремала и вдруг вскочила с ощущением непоправимого несчастья: не то ей приснилось, не то накануне кто-то сообщил ей, что Водзиньские уже в Париже. Она заставила себя успокоиться. Но она не могла больше выдержать напряжения. Поняв, что никогда не сможет задать роковой вопрос Шопену, Аврора решила написать письмо их общему другу Альберту Гжимале, человеку ей преданному и благословляющему ее за сочувствие полякам. Она доверяла ему, и к тому же он очень хороша знал Шопена.
Несколько часов подряд Аврора писала свое письмо. Она ничего не скрывала в нем и с поразительной для женщины смелостью обнажала свою душу. Она рассказала Альберту всю свою жизнь, не оправдывая себя, но просила его помочь ей, поскольку не могла помочь себе сама.
Цель этого письма была совершенно ясна: Альберт должен был отговорить Шопена жениться на Марии Водзиньской и лишь в одном-единственном случае оставить все как есть – в том, если Шопен беспредельно любит Марию, как и она его, и если нет сомнения, что только брак с Марией даст ему полное счастье. Если же этой любви нет, а есть только долг, обязанность, верность данному слову, то надо убедить его, насколько это ужасно и даже преступно. «Клятва в верности – преступление, когда уста произносят то, от чего отрекается сердце!»
С другой стороны, даже при взаимной любви брак может стать несчастьем. Брак вообще ужасный риск, особенно для художника. Гжимала сказал однажды, что боится брачных уз для Шопена, боится ежедневных оков реальной жизни, домашних забот – словом, ужасной повседневности, прозы, которая может убить вдохновение. Аврора не знала, как Шопен справляется с мелочами жизни, она знала лишь ту сторону его существа, которая «всегда озарена солнцем», но если бы от нее зависело, то она никогда не вмешивалась бы в его реальную жизнь, ничего не знала бы о ней. И никогда не омрачала бы его покой жалобами, досадой, упреками… Свобода, полная свобода – вот что важнее всего для любви. «В какую бы минуту мы с ним ни встретились, – писала она, – наши души были бы в апогее счастья и совершенства». Она просила Гжималу объяснить это Шопену, чтобы он осознал преимущество такого добровольного союза перед брачными узами.
«Я ни у кого и ничего не хочу отнимать, – писала она далее, – разве только узника у тюремщика, жертву у палача, Польшу у России. Скажите мне, не Россия ли та, чей образ преследует нашего мальчика? В таком случае я буду просить небо о всех чарах Армиды, лишь бы помешать ему туда броситься. Но если это Польша, оставьте его в покое, ибо нет ничего на свете, равного родине. В таком случае я буду для него Италией, которую посещают, где любят иногда побывать весной, но где не остаются, ибо там не всегда удобно!»
Тут она остановилась, пораженная собственной непоследовательностью. Только что в этом письме она писала: «Нет, я не могу бороться против образа другой и воспоминаний о ней! Я слишком уважаю права собственности, вернее – это единственная собственность, которую я уважаю». Теперь же она выразила желание быть для него Италией, то есть редкой и сильной радостью, существовать в его жизни рядом с другой, внушить ему, что иногда можно раздваиваться, когда нельзя быть цельным!
Может быть, она ужаснулась бы, доведя свою мысль до конца. Чего она хотела? Удержать его при себе во что бы то ни стало! Если даже нельзя будет отговорить его от брака с Марией, то надо внушить ему, что он не должен отказываться и от Авроры, от встреч с ней и от счастья, которое она может дать. Пожалуйста, внуши это ему, Альберт, миленький, убеди, что в этом нет ничего дурного, но сделай это незаметно: пусть не догадывается, что мы давим на него! Сделай это со свойственным тебе дипломатическим искусством, потому что я, ей-богу, не могу жить без него!
Вот что Гжимала должен был прочесть между строк.
… Но только пусть никто не думает, что она способна на какую-то худосочную, бесплотную дружбу! Она писала Гжимале, что ей очень не понравилась одна фраза Шопена. Он сказал ей, что предпочитает платоническую любовь. Это еще что такое? Она возмутилась этим. Она поняла бы, что он отдаляется от нее из робости или из верности другой женщине, – это было бы благородно, как жертва. Но он презрительно отозвался о «человеческих низменностях», и это показалось Авроре отвратительным ханжеством. Кто же была та несчастная женщина, которая оставила у него такие недостойные воспоминания? Значит, у него была возлюбленная, недостойная его? Бедный ангел! Надо бы повесить всех женщин, которые унижают в глазах мужчин то, что прекрасно и снято, святее всего в мироздании. Это были самые искренние строки ее письма, здесь Она ни на минуту не противоречила себе.
«От этой манеры разделять дух и тело, – писала она далее, – произошло то, что понадобились монастыри и публичные дома».
Письмо писалось без помарок, единым порывом, в ослепляющем увлечении. Но Аврора понимала, что оно полно противоречий, и дала понять Гжимале, что он должен сам решить, показать ли это письмо или самому воздействовать на Шопена. Когда наступило утро, она перечитала письмо и осталась довольна. И этим письмом и всей прошедшей ночью: она сумела высказать то, что было для нее самой не совсем ясно. Пусть она и не пощадила себя, зато все прояснилось; она добилась предельной точности в желаниях, в целях, в словах. Подобное сознание очень важно для писателя, и письмо к Альберту Гжимале стало еще одним литературным произведением Жорж Санд – новеллой в эпистолярной форме.
Глава седьмаяОдин из французских писателей, изучивший биографию Жорж Санд, так отозвался об этом письме: «Отдадим прежде всего дань искусству, с каким эта женщина ведет сражение». Но были и другие внутренние причины, кроме «искусства» Авроры, которые толкнули к ней Шопена. Он находился в таком состоянии, когда ему было необходимо увериться в ничтожности прежних иллюзий, разочароваться в них. И какую бы боль ни причинило ему это разочарование, оно все же оказалось бы благотворным.
Когда Альберт Гжимала прочитал Шопену письмо Жорж Санд (не давая письма в руки и пропуская целые страницы – здесь, мол, чужие тайны!), Фридерик возмутился. Снова вернулось раздражение, на этот раз более сильное, чем когда-либо. Он даже сказал Альберту, что ему претит литературная несдержанность мадам Санд и что вообще это ему надоело! Но это была последняя вспышка, и Гжимала мог сделать свои выводы.
Самой большой заслугой Жорж Санд было то, что оьа открыла глаза Шопену на польскую аристократию, которую он так идеализировал (разумеется, на свой лад: замечая слабости и все-таки любуясь и гордясь!). Оставшись наедине с собой и вспоминая отрывки из письма Авроры, он понял, что она более всего боится призрака Марии Водзиньской, и у него сразу стало легко на душе. Нет, с тем миром богатых усадеб, панских милостей, лукавого кокетства, с теми иллюзиями навсегда покончено. Нет больше овеянных славой рыцарей, ласковых ангелов в образе прекрасных женщин, непреклонных властителей и «спасителей» народа. Есть Антеки Водзиньские, паны Совиньские, превратившиеся в прихлебателей, есть женщины, дорожащие постыдной рентой, и девушки – ловкие искательницы выгодного замужества. Вместо народных спасителей есть паны, которым выгоднее власть царя, чем освобождение хлопов, особенно если это освобождение начнут и завершат сами хлопы.
Обо всем этом Шопен думал и раньше. Соль-минорная баллада с ее знаменательным концом была написана до встречи с Жорж Санд, но эта замечательная женщина внесла ясность в его мысли и приблизила к другому миру, неустроенному, необжитому, полному грозовой силы.
Он чувствовал, что излечился от горя. Теперь он мог сознательно отнестись к чувству, уже пустившему глубокие корни. Он мог как следует оценить Аврору, победить гнетущее раздвоение. И идти навстречу новой иллюзии, которая казалась ему прекрасной реальностью.
Гжимала ответил Авроре запиской, составленной туманно и витиевато. Но она расшифровала ее: с Марией все порвано, Шопен ждет ее. Записка застала ее у издателя, она заторопилась – ей предстояло мчаться домой, где Шопен дожидался ее возвращения.
Она поспешно вышла на улицу. Накрапывал дождь. Небо было обложено тучами. В воздухе чувствовался холодок, хотя был еще только июнь. Что за восхитительная погода! Именно таким – серым, дождливым – был, по всей вероятности, первый день творения! Именно таким, а вовсе не солнечным. Если первый человек на земле был так же счастлив, как она теперь, зачем же ему понадобилось солнце?
Дождь усилился. Аврора почти бежала. – Куда вы торопитесь, ma fille? – окликнул ее часовой. – Башмачки-то насквозь промокли! – Она взглянула на свои ноги. Теперь дождь лил вовсю. Ни одного фиакра не было поблизости.
Он назвал ее девушкой! Так и сказал: «Ма fille».
«Что ж, ты не ошибся, дружок. Мне только восемнадцать! Начало любви не знает возраста. Все юны, ибо всё еще впереди!».
Зачем я так спешу? Разве я буду когда-нибудь счастливее, чем сейчас, в эти минуты? Ты, парень, стоящий на углу, конечно, не читал мадам де Сталь! Она изрекла однажды: «В любви бывает только начало!» Как тебе нравится? Какое недоверие к сердцу человека! Неужели будущее не зависит от нас? Только начало! А вот посмотрим!
Но нет! Я не стану заблуждаться! Прошла юность, поруганная, загубленная! Ты, славянин, воспитанный в строгих правилах заботливой матерью, поддержанный всей Варшавой с младенческих лет, ты не знаешь и не должен знать той жизни, какая была у меня!»
Аврора никогда не раскаивалась в своих заблуждениях, но теперь она отрекалась от всего. Она упрекала себя за Жюля Сандо, за Альфреда Мюссе, на которого ушли лучшие годы, за Мишеля из Буржа, чья грубая сила показалась ей высокой волей гения… Другие… С отвращением вспоминала она, как разочарование после измены первого возлюбленного бросило ее в объятия Проспера Мериме, этого язвительного, холодного циника. Раньше она ревновала к Марии Водзиньской, теперь она только мучительно завидовала ей, ее молодости и неведению, началу ее жизни, тому, что все будущее в ее юных, слабых руках…
Задыхаясь от бега, вымокшая, она остановилась на пороге своей комнаты, не протягивая руки Шопену. Потом шагнула вперед, не различая ни его самого, ни окружающих предметов.
– Бедные воротнички, – воскликнула она через минуту, подняв голову, – что сделали с ними мои слезы!
За весь этот час. ожидания Фридерик внушал себе, что должен быть спокойным, что он уже не тот мальчик, который семь лет тому назад произносил горячие клятвы в Варшавском ботаническом саду. Но его волнение не проходило, а усиливалось, и он сознавал, что только обыденные, обыкновенные слова будут уместны теперь. И он спросил:
– Что вы такое написали этому честному Альберту? Он с такой дипломатической осторожностью справлялся о моих чувствах!
– А он не показывал письма?
– Показывал, но не все. Одну лишь страничку, а там было больше. Вот чудак!
«Молодец! Умница!» – подумала она.
– Неужели вы предполагали, что я не свободен?
– Я ничего не думала. Я только очень страдала. Я боялась спросить…
– Но если бы я был связан, мог ли бы я допустить то, что было между нами… в последнее время?
– А что, собственно, было? – вспоминала она. – Ровно ничего не было!
– Я не настолько низок, чтобы хоть ненадолго играть двойную роль…
«Ну и слава богу! – думала она. – А мне еще предстоит довольно грустное объяснение с М., который давно уже подозревает неладное…»
Фридерик осторожно взял у нее из рук маленький кружевной платочек, слишком маленький для ее глаз. Платочек был весь мокрый. Фридерик отбросил его. Она сомкнула ресницы, чтобы ему было легче их осушить.
– Поверьте мне, – сказал он, – что все это давно кончено! Я знал это еще в прошлом году!
Значит, она могла быть счастлива без угрызений. Никто не страдал.
Но она была немного… не то чтобы разочарована, но озадачена. Значит, ее торжество не было полным! Давно кончено! А если бы продолжалось, ТО все усилия были бы совершенно напрасны? Забавно! Так страдать, писать компрометирующие письма, в то время как… Вот что значит иметь дело с пуританином!
Но она тотчас же отогнала эти мысли, чтобы никогда больше к ним не вернуться. Ее счастье было слишком полным.
– Как я понимаю людей, которые в такие минуты преклоняют колени! – воскликнула она. – Я сама готова пасть ниц. Ты мне позволишь?
Но он, разумеется, помешал этому.
– Нет! – повторяла она, смеясь и плача. – Если бы ты знал, как я боюсь упасть в твоем мнении! Боюсь за каждое свое слово, за каждый жест!
Она говорила правду. Даже отделывая свои сочинения, прежде чем нести их издателю, она не так заботилась об их форме, как сейчас о том, чтобы не оскорбить возлюбленного, не разочаровать его. Восхищаясь им, она с тоской чувствовала свое несовершенство. В нем все было прекрасно. В том, как он ласкал ее волосы перед отъездом в Ноган, как сейчас прикасался губами к ее влажным ресницам, было столько целомудренной сдержанности! Именно того, что ей недоставало! Но если содержание прекрасно, то недостатки формы простятся! Он поймет ее сердце и будет к ней снисходителен!
Глава восьмаяИз журнала Яна Матушиньского
осень 1838 года
… Я никуда не уезжал на лето. Было много работы в самой больнице, и, кроме того, пришлось ставить опыты у мосье Ланжере. Три недели каникул я провел в Париже, не в силах предпринять что-либо для путешествия или просто выезда на дачу. Я был болен, как собака, кашлял, задыхался, а по утрам слуга выкручивал мою рубашку, мокрую от пота. Все эти признаки известной болезни мне, как врачу, стали видны раньше, чем другим.
Я заметил, что многие мои пациенты, попавшие в такую же беду, склонны считать свое положение не очень серьезным и верят в лучшее будущее. Я же настроен мрачно. Случаи самоизлечения от этого недуга весьма редки, а средств против него медицина еще не изобрела. Умереть я умру не скоро, еще несколько лет протяну. Бывают целые периоды, когда я чувствую себя весьма сносно и работаю не хуже, чем здоровый.
Итак, я во время отпуска жил в Париже. Либо бродил по городу, либо лежал на кровати и размышлял о судьбах человечества… Если бы Фридерик захотел поехать со мной куда-нибудь, я живо собрался бы. Но он пропадал все лето, приезжал на полчаса, чтобы взять необходимые вещи, смотрел на меня отсутствующими глазами, рассеянно слушал мои сообщения и снова исчезал. Е е также не было видно. Один лишь раз я встретил ее у «Одеона». Бывший со мной Мицкевич спросил ее, как она провела лето. Она засмеялась и ответила: – У счастливых народов не бывает истории! – Удивительное бесстыдство!
Мы с ней переживаем худой мир. Я у нее не бываю, она у меня – тем более. Зачем ей бывать у врача? На свете нет мустанга здоровее ее!
Осенью она ни с того ни с сего потащила его в Испанию. Это второй вариант Венеции (Альфред де Мюссе!). Ее детям будто бы понадобилось лечение, хотя они так же несокрушимо здоровы, как и она. Вот уже четыре месяца, как я получаю письма с острова Майорка. Насколько мне известно, это самое неблагоприятное место для людей со слабой грудью, особенно в период зимних дождей. Скрипач Кароль Липиньский (который любит ее так же, как и я) сказал мне, что если Испания не доконает Шопена, то сама «Утренняя звезда» постарается приблизить его вечер. В этом я не сомневаюсь.
Как врач, я серьезно посоветовал бы моему Фридерику держаться подальше от женщин. При его нервно-впечатлительной, страстно увлекающейся натуре всякие такие встречи – сущий яд. Но женщины сами не оставляют его в покое. Чтобы сделать его счастливым, нужна женщина, подобная его матери. Те милые создания, которые ему попадались, только и умели, что ранить его душу. И как ужасно, что эта паучиха появилась именно тогда, когда он только что преодолел тяжкий приступ болезни!
Мне скажут, что во мне говорит ревность друга. Но если есть человек, которого ты безгранично любишь с самого детства и считаешь его единственным другом, то трудно примириться с женщиной, отнявшей его у тебя. Но это неизбежно. И, клянусь, я хорошо Относился к Констанции Гладковской, хоть и знал, что она недостойна его. Да и пани Дельфина, это дитя радости, не вызывала во мне вражды. Панну Водзиньскую я недолюбливал, как и все ее семейство (в этом и Тит был солидарен со мной), но, в конце концов, я ничего не имел бы против этого союза. Но ее власть кажется мне опасной для его души, для его жизни. Он любит повторять: «Есть любовь-гибель и любовь-спасение». То, что он нашел, – это гибель!
И зачем она выбрала его? Он совсем не в ее вкусе. Один из ее любовников, Альфред де Мюссе, был развратным, наглым, опустошенным человеком, вместилищем всех пороков. Уже в двадцать два года он страдал бешеными приступами белой горячки. Это, по-видимому, нравилось ей, если судить по ее мемуарам. Что же она нашла для себя в моем скромном, чистом друге!
Мне противна даже ее наружность. Она хороша собой и еще молода. Но я не выношу слишком черных волос и слишком темных, «бархатных» глаз, не люблю оливковой кожи и экзотического вида в женщинах, а в ней все это есть. Какие-то испано-мексиканские примеси сыграли свою роль в этом роду сплошных незаконных детей. Одевается она также не как все люди, а по-своему: свободно и причудливо, но совсем не к лицу. В довершение всего – курит. И при этом смотрит на вас с ужасающей серьезностью. Меня все это раздражает, но ведь не обо мне речь!
Удивительно, как все беспорядочно в ее генеалогии! По отцу она самая что ни на есть «голубая» аристократка. Но женщины в этом роду более чем сомнительны: одна из них – княгиня Кёнигсмарк, другая – Адриенна Лекуврер 30, третья – мать «Утренней звезды» – простая модистка и обыкновенная… содержайка какого-то генерала, усладительница генеральской свиты и тем не менее законнейшая жена Мориса Дюпена, потомка королей. Аврора Дюпен – законнейшая дочь этой фантастической четы. Любопытно, что в этом роду всегда легко смотрели на всевозможные беспутства. У Мориса Дюпена был добрачный сын, у его жены – дочь от неизвестного отца, и у каждого Дюпена обязательно по две, а то и по три семьи.
Но какое мне дело до всех этих возмутительных нравов? Увы! Она сама унаследовала эти черты! Забросив чепец за мельницу, пустившись во все тяжкие, а также пройдя огонь и воду и медные трубы (все это означает одно и то же, но мне кажется, что перечисление этих действий усилит и подчеркнет значение того, что я хочу сказать), – одним словом, начихав на многие общественные установления, эта женщина ведет себя в высшей степени свободно. Я еще понимаю ошибки, заблуждения. Но она гордится своими «ошибками», она проповедует их другим!
Но будь справедлив, Ясь, будь справедлив: она очень умна. Это не графиня д'Агу, – не во гнев Листу будь сказано, – которая играет роль «доброго малого»! Жорж Санд – смелая, независимая женщина, она сильна, вот что надо признать, даже будучи ее врагом.
И какое мне дело до ее похождений? Ведь не мне с ней жить! Если его не коробит ее прошлое, которое она не только не скрывала, но даже воспела на тысячу ладов, как средневековые короли-трубадуры сами воспевали свои разбойничьи набеги, если его, воспитанного в такой чистой, строгой, патриархальной семье и обожавшего эту семью, не отталкивает то, что он знает, так о чем же я сокрушаюсь? Но это ужасно! Мне кажется, я уже не могу любить его, как прежде. Я не узнаю моего Фридерика; хоть он и не изменился, но я чувствую губительную власть этой женщины, тысячью нитей привязавшей его к себе. Это, конечно, наваждение, но я готов винить его, все кажется мне изменой дружбе, чистоте, изменой Польше. Я готов плакать от злости, когда он пишет об этой чертовке: «Мой ангел сегодня болен». Хорош ангел! Разве только падший, с опаленными крыльями!
2 декабря 1838 года
Юльуш Фонтана показал мне письма, которые он получает оттуда. Я тоже имею сведения. Шопен находится в Пальме, «среди кактусов, алоэ, апельсиновых, лимонных, фиговых и гранатных деревьев». Одним словом – царство Помоны. – Небо, как бирюза, – пишет он, – море, как ляпис-лазурь, а горы точно изумруды. Днем все ходят по-летнему. По ночам целыми часами слышится звон гитары и песни. Громадные балконы с ниспадающими с них виноградными лозами, стены из арабских времен… – Словом, прелестная жизнь…
Они устроились не в отеле (странно!), а в каком-то картезианском монастыре. Ему хорошо. Он пишет: – Я близок к тому, что только есть лучшего на свете, я стал лучшим человеком!
Очень хорошо. Я могу успокоиться.
20 декабря
Работаю много. Устаю. Иногда выпадают хорошие дни, когда удается вырвать кого-нибудь из лап смерти. Убежден, что человек может иногда остановить течение собственной болезни, и люблю повторять слова Гёте: «Он наконец умер, но лишь потому, что согласился умереть».
Когда при мне бранят врачей и говорят, что они ничего не стоят, я не обижаюсь, я только жалею тех, кто говорит это. Действительно, наша наука еще в младенческом состоянии, но многие ли из тех, кто берется судить нас, могут похвастать совершенством своей профессии? И когда я вижу армию своих товарищей, добросовестных тружеников, отдающих свои силы и жертвующих здоровьем и даже жизнью ради ближних, мне хочется крикнуть нашим «судьям»: – Да когда же вы поймете, господа, что именно при слабости нашей науки, при этих потемках, в которых мы пока еще бродим, самоотверженная деятельность врачей особенно благородна! Тем более, что им удается многих спасти! Люди проявляют удивительную осведомленность… в той области, которая им чужда! Попробуйте, господа, наладить порядок в собственном хозяйстве!
Один из моих больных, умница и большой скептик, вчера прощался со мной.
– Благодарю вас за старание, – сказал он, – теперь я выздоровел и снова погружусь в житейские неприятности, которые вызовут новую болезнь!
– Что ж! Постараюсь снова поставить вас на ноги! Он невесело засмеялся.
– Я часто думаю, доктор, что в будущем, когда медицина научится безошибочно распознавать болезни и лечить их, люди придумают какие-нибудь новые способы истреблять себя и других!
– Тогда найдутся смельчаки, которые и против этого зла изобретут свои средства!
– Ну, если в это верить, – сказал мой больной, – тогда еще можно жить!
Устал я ужасно. От работы, от разных мыслей, от одиночества.
24 января 1839 года
Получил письмо от Титуся Войцеховского. Он – степной помещик, увлечен по-прежнему своей свеклой, много занимается агрономией, женат. К жене привязан. У него сын шести лет, второй должен скоро родиться. Они собираются назвать его Фридериком.
Бедная Констанция! Она живет в богатстве, имеет все, что хочет, но ее зрение слабеет с каждым годом, и врачи предсказывают совершенную и скорую слепоту. Она, конечно, не знает об этом…
Она пишет мне редко, но в каждом письме спрашивает о Фридерике.
Оттуда я получаю мало писем. Это значит, что ему там хорошо.
24 марта
Наконец-то я понимаю, в чем дело. Как я и предполагал, эта проклятая Майорка чуть не погубила его! Он серьезно заболел там, был при смерти, а так как на острове начались непрерывные дожди, то они не смогли выехать оттуда. Она, говорят, самоотверженно за ним ухаживала. В это я верю. Ведь он ей еще нужен!
Я представляю себе всю эту массу противоречий, которая обрушилась на него и могла бы свести с ума. Небо, солнце, горы, море, красота, разлитая повсюду, – это с одной стороны, а с другой – полное отсутствие комфорта, дикое существование, к которому он не мог привыкнуть, хотя оно длилось довольно долго. Не было там даже простых предметов обихода, даже стола. Какая-то нелепая печка, обмазанная изнутри коровьим пометом, запах которого не заглушался росным ладаном, доставленным из аптеки. Есть нечего, кроме плодов; все другие продукты там недоброкачественны. Фридерик мог умереть не от болезни, а от одного отвращения. Дикие жители Майорки, глазеющие на путешественников и не желающие им помочь, в довершение всего приняли болезнь Фридерика за проказу или еще что-нибудь похуже и требовали его скорейшего изгнания. Вот почему злополучные путешественники поселились в этом монастыре. Фонтана уверяет меня, что все это было не так тяжело для Фридерика, как для нее: ведь е й приходилось бороться со всеми этими неудобствами и лишениями, брать все на себя, улаживать отношения с «туземцами», чуть ли не стряпать самой, так как ни одна служанка не хотела у них оставаться, и ухаживать за нашим больным по ночам, не отходя от его постели. – Все это, конечно, трогательно, – сказал я Фонтане, – но ведь при ее здоровье ей это ничего не значит, с нее как с гуся вода! – Единственное, за что я очень благодарен ей и готов простить многое, так это за то, что она прогнала врачей, упорно желавших пустить кровь Шопену. Молодец баба! Прямо-таки засучила рукава и не допустила к нему! Господи! Я ведь ничего не говорю. Разве я сомневаюсь, что она любит его? И горячо, и страстно. Бывает, что безумно любишь того, кого собираешься проглотить!
28 марта
Может быть, я несправедлив. Даже наверное. Но как можно было поместить его в этом картезианском монастыре, окруженном кладбищем? При его беспокойном воображении! Ведь она могла заранее знать, как там плохо! Говорят, он там много сочинял. Скоро они вернутся. Я бесконечно упрекаю себя за несправедливость и пристрастность, но я думаю – и втайне надеюсь на это! – что зима на Майорке была в какой-то степени концом этого бреда. Или, по крайней мере, началом конца. Я высказал это предположение Фонтане. Он сказал мне: – Ты хочешь ее поражения. Этого многие хотят! Но ты ее плохо знаешь. Она восторжествует над всеми своими врагами! И потом – она не заслуживает такого недружелюбия. Право же, она хороший человек!







