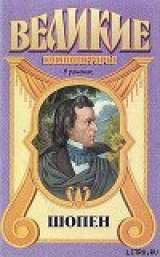
Текст книги "Шопен"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
В Шафарню он прибыл ночью. Доминик встретил его вместе с Титом Войцеховским, который приехал к Домеку на несколько дней. Оба были веселы, Фридерик не то что угрюм, но рассеян. В ночном сумраке спящая Шафарня показалась ему убогой. На сеновале, где он с таким удовольствием ночевал в прошлом году, ему было холодно и неудобно. Даже полная луна светила здесь не так романтично, как в Служеве: ее свет казался назойливым и мешал спать.
Напрасно друзья будили его поутру, до восхода солнца, – в замке Водзиньских привыкли вставать поздно. Когда он проснулся, ни Титуся, ни Домека уже не было на сеновале. Придя в дом, он наскоро позавтракал и отправился их искать. Они сидели на берегу речки и удили рыбу. Фридерик не мог скрыть разочарования при виде скромного пейзажа, расстилающегося перед ним. Все, что пленяло его прежде, таинственность и поэзия – все исчезло. Он подумал, что вряд ли выдержит здесь до конца месяца; придется принудить себя, чтобы не обидеть Домека.
Он стал рассказывать о своем пребывании в Служеве, и по мере того, как он подробно описывал свою жизнь у Водзиньских, она представлялась ему все заманчивей и прекрасней.
Домек слушал с большим любопытством, но Тит не разделял его чувства, хотя именно он относился к успехам Фрицка необыкновенно горячо.
– Что же тебе там особенно понравилось? – спросил он, переменив удочку. – Насколько я мог понять, вкусная еда и выдвижные шкафчики в спальне?
– А про дамские туалеты забыл? – вставил Домек. – Он их так красочно описывал!
Фридерик вспыхнул.
– Я люблю красоту, в чем бы она ни проявлялась! Что ж в этом преступного?
– Красота не в этом! – сказал Тит.
– А в чем же?
Тит не ответил. Он рассматривал пойманную серебристую рыбку.
– Вот где красота! – сказал Домек и указал на противоположный берег реки.
– Я ничего не вижу, кроме косогора и неровного ряда избушек, отражающихся в воде!
– У тебя что-то произошло со зрением! – заметил Тит.
Фридерик пожал плечами.
– Не знаю! Кажется, человек волен в своих вкусах! И его можно оставить в покое!
– А мы тебя не трогаем! – Тит снова закинул удочку и больше не сказал ни слова.
Фридерику стало горько. Он любил Тита больше, чем всех других своих товарищей, ценил его преданность и гордился ею. Он замолчал. Говорил один Домек, встревоженный этой размолвкой друзей, может быть первой в их жизни.
Вскоре, однако, неловкое чувство сгладилось, и все вошло в свою колею. Друзья бродили вместе по деревне, ездили верхом, ночевали по-прежнему под отрытым небом и вели нескончаемые разговоры, возможные только в юности.
Через неделю весело, по-деревенски, отпраздновали именины матери Домека, а еще через день уезжал Титусь в свой Потуржин. Титу нравились сельские работы, и он уже помогал отцу в хозяйстве.
Фридерик один провожал его: у Домека были гости.
– Прости меня, Титусь, я причинил тебе маленькое огорчение, помнишь? Я хотел помолчать об этом, но лучше вынуть занозу. Право, мне легче было бы целый год не играть, чем хоть на минуту огорчить тебя!
– Ты причинил мне большое огорчение, Фрицек, – сказал Тит, покачав головой, – потому что я испугался за тебя! Эти графы, князья, вся их жизнь – это как омут! Сам не заметишь, как втянешься. Они всегда лгут. Ах, пан, вы гений! Ваша музыка бесподобна! – Ведь они не скупятся на слова! Но… на языке – мед, а под языком – лед!
– Почему ты так думаешь?
– Да потому, что панская милость – до порога! Прихоть! Они тобой тешатся, как игрушкой, а потом, как игрушку, и выбросят!
– Вот смешной! Да ведь ты сам пан!
– Не знаю, о чем ты говоришь, – холодно ответил Тит. – Отец твердил мне: паны разные бывают! Да разве в этом дело? Только те, среди которых ты был… и мне и тебе они чужие!
– Однако Антек и Феликс – наши приятели!
– Приятели, но не друзья!
– Я, ей-богу, не замечал никакой разницы в обхождении!
– Не замечал – тем хуже! Когда-нибудь заметишь!
– Ты только не лишай меня своей дружбы, Титусь!
– Что выдумал! Наша дружба с тобой… – он хотел сказать: «до гроба», но устыдился, – на долгие годы. А то, что я тебя побранил, так это и есть моя дружба к тебе!
Некоторое время они шли молча. Тит уже раскаивался, что говорил так резко, а главное – так много. Он не любил говорить, и слово «красноречивый» было в его устах осуждением.
Бричка стояла готовая у корчмы.
– Напиши мне поскорее, жизнь моя, чтобы я знал, что ты уже не сердишься!
Друзья обнялись. Тит сказал, насупясь:
– Почта у нас ходит неаккуратно. Так я буду писать коротко, но часто.
И, уже садясь в бричку, прибавил:
– Каждый день…
Возвращаясь, Фридерик с наслаждением вдыхал запах земли. Наступал вечер. Темнеющее поле, первая звезда, различимая в небе, багровый, но уже тускнеющий горизонт – во всем была прежняя, недавняя таинственность и поэтичность. Водзиньские уже становились воспоминанием, к которому не хотелось возвращаться. Какая-то горечь была на дне этой сладкой, полной чаши, что-то неуловимое, чуть обидное, чего он не замечал прежде.
…Земля успокоилась после захода солнца. Еще несколько минут тишины – и начнется новая, вечерняя, а там и ночная жизнь. Неожиданная модуляция пришла ему в голову, не совсем обычная, но естественная, как вздох. Вот так день постепенно переходит в вечер. И в самом вечере, как и в медленном течении дня, есть свои почти незаметные переходы. Уловить их – значит в каком-то смысле остановить время. Может быть, в этом и заключается смысл искусства?
Глава девятая– Хочешь послушать гусляра? – спросил однажды Домек, зайдя после обеда в комнату Фридерика.
– Какого?
– Здесь есть один такой бродячий гусляр. Он у нас бывает не часто. Историк.
– Как – историк? Доминик засмеялся.
– Разумеется, не профессор истории, которому есть нечего. Нет, настоящий гусляр, из народа.
– Слепой?
Фридерик видал гусляров в Желязовой Воле, и все они были слепые. Они шли вместе, цепочкой, держась за руки и подняв головы кверху. И в книжках писалось, что все гусляры – слепцы.
– Нет, не слепой, я сказал бы скорее – зоркий. Старый, но глаза у него острые. Я уже слыхал его здесь. Очень хорошо играет.
– А почему историк?
– А это его конек – разные исторические песни, про королей, рыцарей, про всякие походы. Вот услышишь, как у него сохранился голос! А гусли – прямо оркестр! Он в гостях сегодня у кузнеца Ловейки, за Малым Бродом.
Вечером мальчики отправились к кузнецу Ловейке, жившему на самом краю деревни. Двор был полон народу. На лавках и прямо на земле сидели гости, соседи кузнеца. Его жена накрывала на стол, чтобы угостить гусляра как следует. И для гостей все было готово.
Сам гусляр, смуглый, крепкий – лишь Домеку в его возрасте он мог показаться старым, – сидел на широком пне, с гуслями в руках, опустив на грудь косматую голову. Освещенный заходящим солнцем, он казался суровым и величественным.
Но вот он обвел всех сумрачным взглядом, ударил, именно ударил по струнам, потом положил на них руку, словно успокаивая, и они отозвались приглушенным рокотом. Песня началась. То была дума про короля Казимежа Великого. За то, что он жалел крестьян и не любил панов, его в народе прозвали «Хлопский круль», что значит «Король мужиков»[2]2
«Песня о Казимире Великом»-народное польское сказание. Оно легло в основу баллады поэта Я. П. Полонского, отрывки из которой приводятся здесь.
[Закрыть] …
Возвращался Казимеж под вечер с охоты в свой Краков вместе с молодой женой. Был он сердит и мрачен. Ни ласковые речи королевы, ни удачная охота, ни веселый пир в замке, куда вскоре прибыла королевская чета, не могли развеять его печаль и гнев.
…Тогда гости велели позвать гусляра: они знали, что король любит звон гуслей и простые напевы. Явился гусляр. На нем рваная свитка, волосы спутаны, ноги босы. Но славится он голосом, западающим в душу, и песнями, каких никто больше не знает в том краю… Запел он про старинные походы польских королей, про далекую славу польских рыцарей – и все гости кричали: – Виват! Да живет славная Польша!
…Но король еще сильней нахмурился. – Не надо мне этой песни! Сто раз я слыхал ее! Пой другую!
…Потупился гусляр и стал восхвалять королеву, ее молодость, красоту и щедрость
И гость кузнеца запел ту мелодию, которую Фридерик слышал в детстве от матери, – «Зося в садочке». И теперь она казалась ему неотразимо трогательной. Он сам готов был закричать «виват», как те шляхтичи на пиру. Он ждал, что скажет Казимеж. Уж наверное любовная песня смягчит его! Но нет!
…Закричали гости: – Виват! Виват королеве! – Но еще мрачнее насупился король; нетерпеливо оборвал он восторги панов, крикнув смущенному гусляру:
– И эту песню слыхал я! Тысячу раз слыхал! Не убаюкаешь меня ею! А вот лучше спой ту, что пел ты сегодня в хате лесника, во время грозы! Та будет поновее!
…Побледнел гусляр: не знал он, что король, возвращаясь из лесу, заблудился и, привлеченный, пением, подошел к хате лесника. Но не вошел, а дослушал песню, стоя у двери под дождем. Иначе не узнал бы правды. – Вот и спой эту песню здесь! – приказал Казимеж. – Да не бойся! Пусть и паны послушают!
…Еще больше побледнел певец, задрожал весь, точно присужденный к казни, и, дико озираясь вокруг, запел…
…До этой минуты речь гусляра была протяжной, почти однообразной; он скорее рассказывал под аккомпанемент гуслей, чем пел. То был мелодический речитатив, широкое, торжественное вступление. Теперь же он рванул струны, точно хотел порвать их, и Фридерик не узнал его голоса. – столько муки, боли и в то же время силы, могучего призыва было в этой новой песне. Вступление кончилось, теперь гусляр стонал от горя и бросал свой зов в потемневшую даль на весь край:
Ой вы, хлопы, ой вы, божьи люди!
Не враги трубят в победный рог:
По пустым полям шагает голод
И кого ни встретит, валит с ног!
Чей-то вздох раздался в ответ. А гусляр продолжал все тем же громким, стонущим голосом:
Продает за пуд муки корову,
Продает последнего конька!
Ой, не плачь, родная, по ребенку;
Грудь твоя давно без молока!
Ой, не плачь ты, хлопец, по дивчине:
По весне авось помрешь и ты!
Уж растут, должно быть, к урожаю,
На могилах новые кресты…
– Ох, растут! – послышался женский голос, и вокруг раздались всхлипывания. А гусляр гремел:
Уж на хлеб, должно быть, к урожаю,
Цены, что ни день, растут, растут…
Только паны потирают руки:
Выгодно свой хлебец продают!
…Должно быть, гусляр забыл, где он. Перенесся в пятнадцатый век, в Казимировы времена, и чувствовал себя тем певцом, который открывал королю страшную правду. А может быть, все было наоборот? Может быть, никогда он не ощущал сильнее, г д е и когда он живет? Да, это было так: перед своими односельчанами выступал он глашатаем народной правды. Он знал, как живет народ, видел многочисленные кресты на могилах… Когда он заговорил о панах, разбогатевших на крестьянском горе, глаза его сверкнули ненавистью из-под нависших бровей.
Женщины вздыхали и плакали, а мужчины слушали сурово…
…Онемели гости, поднялись со своих мест. – Что ж это, правда? – вскричал король. – Й я должен был узнать об этом ненароком, притаясь у дверей крестьянской хаты?
…И тогда он приблизился к гусляру, положил могучую руку на плечо его и закричал голосом, от которого задрожали стены…
Почетный гость кузнеца Ловейки встал, выпрямился во весь рост, придерживая гусли левой рукой, протянул вперед правую и воззвал к невидимой когорте панов:
Что же вы не славите певца?
Божья правда шла с ним из народа
И дошла до нашего, лица!
Завтра же, в подрыв корысти вашей,
Я свои амбары отопру!
Вы – лжецы! Глядите: я, король ваш,
Кланяюсь за правду гусляру!
И, отвесив поклон певцу, поникшему в печали, Казимеж Великий покинул пир. Паны не осмеливались громко выражать свой гнев. «Хлопский круль!». – бормотали они в спину уходящему Казимежу. «Хлопский круль!» – лепетали их испуганные жены. Но Казимежу пришлось по нраву такое прозвище. И с тех пор в усладу ему, а после его кончины во славу его величают в народе польского короля Казимежа «Хлопским королем»!
…Мальчики поздно возвращались домой.
– Как хотелось бы правильно жить! – сказал Домек.
Фридерик кивнул.
– Мне даже стыдно теперь вспоминать про мои успехи в Служеве… Как верно Тит говорил!
– О чем же?
– О правде… О многом… Я сейчас слушал и его вспоминал.
Глава десятаяНедалеко от дома кузнеца, у пруда, за яворами, открывалось заброшенное местечко, отрадное своей полной уединенностью. Трава росла здесь высоко, плуг пахаря не касался ее. Алые маки цвели густо вперемежку с васильками. Жители Шафарни ходили на реку другой дорогой, а здесь было дико и темно из-за неправильно разросшихся деревьев: одни сплелись сучьями и ветвями и образовали лиственный шатер, у других сильно покривились стволы, а то из одного корня росло целое семейство ясеней. Домек рассказывал, как однажды забрел сюда ксендз. Посмотрев на причудливые деревья, он сказал, что это место проклятое: деревья такие же скрюченные, как и грешники в аду! Откуда он знал, как выглядит ад и его обитатели?
Большой пруд ярко зеленел на солнце. По вечерам здесь что-то ухало, перелетало с места на место, падало в пруд, шумела осока, и вообще было гораздо беспокойнее, чем днем. После полудня обычно наступала тишина.
Фридерик нашел это место в отсутствие Домека, уехавшего на несколько дней в соседнюю деревню к заболевшему двоюродному брату. Окончив утренний урок, Фридерик принимался бродить по деревне или вдоль реки. Без Домека было непривычно, но скуки он не знал. Таинственное место у пруда будило неясные воспоминания; ему казалось, что он был здесь давно, еще до знакомства с Домеком, и пережил какое-то приключение: не то дикий зверь перебежал дорогу, не то человечек, похожий на гнома, вышел из-за ствола и заговорил на каком-то странном наречии, не то просто так, почудилось что-то и не вспоминается…
Он лежал в траве, закинув голову вверх. Было тихо, то есть не было никаких непрошеных посторонних звуков – ни лая собак, ни скрипа колодезного журавля. Но что-то звенело, журчало и пело, и это не нарушало тишину, а было под стать ей. Звенели цикады в траве, и мерно журчал невидимый ручеек.
Фридерик уже засыпал, истомленный зноем и убаюканный легкими звуками природы, когда сквозь горячую мглу уловил новые звуки. Они не нарушали гармонию и покой деревенского полдня. Природа как будто ждала их и не то что притихла, а приглушила свои голоса, чтобы они только вторили этому ровному и красивому человеческому голосу.
Дремоты как не бывало. Но Фридерик не шевелился и не открывал глаз. Пение доносилось сверху, но где-то очень близко:
Если бы я пташкой
В небе летела,
То лишь для Яся
Песни бы пела…
И внезапно, с печалью:
А – не для леса,
А… не для речки
Песни бы пела…
…Что же ты вдруг замолчала? Или грустно стало, что не для кого петь?
Задумчиво протянула последние слова и потом, как бы вознаграждая себя за медлительность, словно вспорхнула, легко завершив куплет.
…Что же ты опять умолкла? Неужели только эта песенка и есть у тебя? Тогда повтори ее!
Он приподнялся и посмотрел вверх. Недалеко от него на невысоком заборе сидела босоногая девчонка и плела лапоть. Теперь она молчала. Он встал и подошел к ней.
Она была невысока ростом, но уже не ребенок; на вид ей можно было дать лет четырнадцать-пятнадцать. Ее босые ноги были грязны, волосы заплетены кое-как и явно не расчесаны. Холщовая белая рубашка и синяя домотканая юбка уродовали ее фигуру. И все-таки на нее было приятно смотреть.
– Отчего же ты, замолчала?
– Так.
Ее загорелое лицо было кругло, детство еще не покинуло ее. Вероятно, эта дивчинка хорошо улыбалась. Но теперь она глядела неприветливо, сумеречно серыми глазами, в которых сквозила едва заметная голубинка.
– Что значит «так»?
Молчание.
– Для кого ты здесь пела? Для леса? Для речки?
– Для себя.
– Ну, так опой еще!
– Не буду.
– Отчего?
– Так. – Это было, очевидно, ее любимое присловие.
– Что тебе стоит повторить про пташку!
– Это не про пташку.
– А про кого? Опять молчит.
– Ну, спой же! Я тебя прошу!
– Нет!
Он стал шарить в карманах.
– Тогда вот тебе три гроша. Извини, у меня больше нет с собой.
Она быстро подвинулась на самый край забора и схватилась за сук дерева.
– Знаете что, паныч. Уходите-ка отсюда! А то я сама убегу!
Она готова была спрыгнуть. Но он не сдавался.
– Ты не должна обижаться! Я знаю, что за песню и золота мало! Но – артисты всегда получают за свой труд. Ведь это труд!
«Она не понимает, что такое артист! – подумал с досадой. – Как ей растолковать?»
Но она взяла три гроша и сжала их в правой руке. В левой она держала свой лапоть и крючок.
– Так споешь?
– Теперь уж спою. Песня куплена.
– Как тебе не стыдно говорить так! – воскликнул он с горячностью. – Не хочешь петь – так и не надо! А деньги оставь у себя!
– У меня татусь больной, – сказала она, – мне пригодится. А петь я люблю. Только отойдите чуть подальше!
Он отошел и даже отвернулся. Дивчина начала первый куплет, который он не слыхал. Это был мазур с припевом:
Если б я солнышком
В небе сияла,
То лишь для Яся
Утром бы вставала…
Теперь ее голос чуть дрожал: она не привыкла петь при посторонних.
…Под твоим окошком,
На твоем крылечке,
А – не для леса,
А… не для речки…
– Как тебя зовут? – спросил он, когда песня кончилась.
– Ганна Думашева, – ответила она чуть слышно, – каретника Думаша дочь… Хотите, еще спою?
Она опять подвинулась и прислонилась к стволу явора, лапоть с крючком упал на землю.
– Не надо, – сказала она, видя что он наклонился, – я сама подниму.
Песня, которую она пела, была заунывна и однообразна. Но она тронула Фридерика еще сильнее, чем первая. То была думка про весну, невыразимо грустная. Но чем дольше пела девочка, тем лучше он понимал эту грусть. Он и сам испытывал ее ранней весной. Смутное, сладкое чувство, которое поляки называют Zal – тоска, смешанная с надеждой. Стремление вдаль – и любовь к родному краю, не позволяющая покинуть его…
Небо синее ласково,
Ручьи говорливы,
Цветы пестры, красивы,
А на сердце пасмурно…
Ганка остановилась. Но не оттого, что у нее прервался голос. Так подсказывала сама песня: жаль хаты, речки, косматого дуба, любимого сокола, – и не знаешь, чего больше жаль, на чем остановить прощальный взгляд…
– Ты часто здесь гуляешь? («Боже мой, какой глупый вопрос!»)
Она улыбнулась с видом превосходства.
– Где уж мне гулять! Работы много. Так только, сегодня…
Она соскочила с забора.
И опять ему показалось, что он уже давно бывал в этих местах. И песни эти слышал.
Глава одиннадцатаяСемейство Думашей было несчастливое. Мать умерла вскоре после рождения Ганки, а через год после того средняя сестра, двенадцатилетняя девочка, утонула в проруби, провалившись с ведрами под лед. С тех пор пронесся по деревне смутный слух, что Думаши – люди отмеченные, сам бог на них сердит, а с того дня, как отец, каретник Думаш, простудился и надолго слег в постель, это общее мнение утвердилось: должно быть, в его роду были великие грешники. К старшей сестре Ганки не сватались женихи. И Ганке, вероятно, предстояла та же участь молчаливой, работящей вековухи.
Но Ганка не принадлежала к числу смиренных и покорных детей божьих. Со своей обреченностью она не мирилась и ждала счастья. Но затаила обиду (сама не знала, на кого: на бога или людей) и начала сторониться своих подруг и сверстников.
В семье Ганки по целым дням молчали, и ей самой иногда казалось, что она разучилась говорить. На сердце залегла тяжесть и не проходила, только рождала скупые, злые слезы.
Облегчение наступило неожиданно.
Отцу было совсем плохо. Начиналась зима. Сестра велела Ганке набрать в лесу хвороста. Ганка с тоской поглядывала на свинцовое небо. Рассеянно собирала она хворост, то спешила, то останавливалась. Вдруг увидела на небе ясный голубой просвет и, словно повинуясь какому-то приятному воспоминанию, тихо запела. Не с ума ли сошла? Но песня успокоила ее, и она вернулась домой почти веселая.
У Ганки был тонкий слух и хорошая память. Но прежде она редко пела: ей казалось, что люди поют лишь тогда, когда у них легко на душе. Теперь же, когда песня помогла ей справиться с тоской, она постигла ее новое значение – как утешительницы и единственного друга.
При посторонних Ганка не решалась петь. У нее возникло и укрепилось суеверие, что если кто-нибудь услышит ее, она будет наказана богом. Снилось ли ей или действительно было такое предание о подруге-песне, которая утешала сиротку: «Я буду прилетать к тебе, но смотри, никто не должен знать об этом!» А сиротка предала песню, запела при других и была за это наказана.
…Должно быть, снилось…
И только для одного-единственного человека, которого видела всего пять минут, она решилась нарушить молчание. Он, наверное, подумал, что из-за трех грошей! Да пропади они пропадом! Но преступив обет один раз, сделаешь это и во второй…
Домек задержался у своего родственника и попросил Фридерика приехать. Фридерик написал, что ему нездоровится. Это была правда: он простудился. Но когда ему стало лучше, он решил, что не стоит отлучаться, раз Домек должен вот-вот вернуться. И остался.
Каждый день он приходил к заросшему пруду с книжкой или альбомом для рисования. Ганки не было. Он читал, рисовал или просто лежал в траве, радуясь теплому дню. Погода по-прежнему была превосходная.
Однажды, под вечер, запыхавшись, прибежала Ганка, будто знала, что застанет его здесь. Фридерик очень обрадовался и сказал ей об этом. Кажется, впервые в жизни она обрадовала кого-то своим приходом.
Как и в прошлый раз, она уселась на заборе. Это была ее «сцена». Вначале ее голос немного дрожал, потом окреп.
Что же она пела в тот раз? Много песенок, коротких и забавных. Слова у них были простые, а порой и затейливые, полные веселого лукавства. И под стать этим словам и напевы были причудливые, с неожиданными переходами.
– Мой портняжка, мой портняжка!
Приходи скорей:
Из коровьего мычанья
Платьице мне сшей!
Портняжка не смутился, недаром он был мастер. Но и ответил он достойно:
– Из коровьего мычанья
Платье сшить могу:
Напряди лишь из росинок
Нитей на лугу!
– Постой, постой! Я хочу запомнить. Или, вернее, записать! Повтори-ка!
Она повторила – еще лукавее, чем в первый раз.
– Оказывается, ты умеешь и смешить, Ганка! Вот не подумал бы! В прошлый раз ты была такая грустная…
– Нет, смешить я не умею. Только сегодня мне весело, сама не знаю, почему.
Потом она сказала, что знает множество прибауток. Ей действительно было весело, раз она вспомнила о них.
Она спрыгнула с забора и уселась на траву.
– Ощенился топор, – начала она с важностью, – снес яичко бурав…
– Кто? Кто? – переспросил Фридерик.
И посыпались небылицы, одна другой потешнее: о том, как овин травил зайца, мышка торговала мукой, а кот охранял ее и зазывал покупателей… Все это Ганка произносила быстрее и быстрее, не переводя дыхания… Под конец этой скороговорки совсем задохнулась.
Фридерик смеялся от души.
– Ты непременно должна научить меня этому! Непременно!
Но Ганка не привыкла к веселью. Она задумалась. Он ждал.
– Есть еще одна. Только я не знаю…
Ганка поглядела вдаль, подождала немного и запела тихо и протяжно:
– Уж раз уезжаешь, скажи откровенно:
Надеяться ль мне иль забыть совершенно?
Это опрашивает девушка. А ее милый обещает вернуться, как только на голом тополе вырастут листья.
Фридерик открыл новую страницу в своем альбоме и начертил пять нотных линеек.
– Минор и мажор – рядом! Вот чудесно!
А Ганка с чувством продолжала, по-прежнему глядя вдаль:
Уже распускается тополь мой пышно,
А хлопца все нету, не видно, не слышно…
Нарушил он слово, забыл он о сроке…
И зря поливала я тополь высокий…
Она умолкла.
– Но ведь это еще не конец, Ганка!
– Как?
– Я не знаю этой песни. Но слышу – это не все. Наверное, еще что-то есть? Сама мелодия подсказывает!
Но она молчала. И когда он уже примирился с мыслью, что у песни нет конца, снова раздался Ганкин голос и первоначальная измененная мелодия:
– Ты видишь, дивчина, тот камень тяжелый?
Когда поплывет он, возьму тебя в жены!
На этот раз напев был почти вдвое медленнее и как-то тяжелее.
… Все дело в том, что камень не плывет, а идет ко дну.







