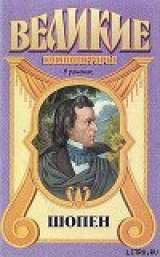
Текст книги "Шопен"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
Шопен действительно уехал в Лондон, но пробыл там недолго. О своей поездке он рассказывал неохотно, даже Матушиньскому; упомянул вскользь, что это город не для него, хотя многое там интересно и поучительно. В Париже он выступил в одном полублаготворительном концерте и потом надолго заперся у себя. В салонах его не было видно, и так как Матушиньский сказал Листу, что Шопен серьезно нездоров и нуждается в полном покое, то «набеги» почитателей прекратились.
Собственно, он был не то что очень болен, но чувствовал какую-то апатию и равнодушие ко всему. Это было с ним в первый раз. Та скука, на которую жаловалась Дельфина Потоцкая, теперь подкрадывалась к нему. Это было хуже болезни, это было благоприятной почвой для развития болезни. Он мало писал в эти дни, и Матушиньский тревожился за Фридерика, который уже не задыхался и не кашлял, но был постоянно печален и молчалив.
Однажды, сидя у себя в комнате и стараясь разобраться в истории сложной болезни, которую ему приходилось лечить, Я и услыхал за стеной звуки музыки. Шопен играл, прерывал игру и снова начинал ее. Нетрудно было догадаться, что это вальс. Значит, он вернулся к работе.
Новый минорный вальс был невыразимо грустен. И он был тихий. Если даже сыграть его фортиссимо, он все равно оставался бы тихим, – так казалось Яну. Это было признание, не предназначенное для любопытных.
Таковы были начальные фразы… А потом медленно, очень медленно начиналась другая печальная мелодия; повторяясь все быстрее и тише, она уходила, убегала, таяла и исчезала. Только вырисовывался прекрасный образ – и вот уже стирались его черты, словно ветер улетал и уносил его с собой вместе с легкими осенними листьями.
Это было похоже на воспоминание, которое хочешь удержать в памяти и в то же время гонишь его от себя, потому что оно болезненно и горько. В этом постепенном, неизбежном ускорении было что-то безнадежное, почти механическое. И это особенно чувствовал Матушиньский… Как будто, рассказывая о чем-то дорогом и навсегда потерянном, человек завершал свой рассказ: – А не все ли равно? Пусть так. Пусть конец.
Вот и другой эпизод – более живой и ровный… Только дымка скорби заволокла его при повторении. Это и было воспоминанием. А затем снова кружение листьев, любование ускользающим образом, прощание с ним и тихий вздох: – Не все ли равно? Пусть так. Пусть конец!
– Я слышал то, что ты играл сегодня, – сказал Ян, когда они с Фридериком сошлись за вечерним чаем. – Это вальс, не так ли?
– Да, вальс.
– Мне очень, очень понравилось.
– Да? – отозвался Фридерик. И ничего больше не прибавил.
В этот вечер он нарушил свое затворничество и ушел к Листу.
– Если тебя не затруднит, – сказал он Ясю, – прибери немного у меня на столе. – Он всегда это делал сам. – Можешь разобрать мой вальсик, если хочешь. Он нетрудный.
После ухода Шопена Матушиньский стал складывать исписанные нотные листы. Он не пытался разобрать «вальсик»: в его ушах еще раздавались эти звуки, он помнил, как это играл Шопен. Пробежав глазами ноты, он открыл большой средний ящик письменного стола. Там было все забито бумагами. Зато в левом не было ничего, кроме пакета, обернутого папиросной бумагой и перевязанного ровной шелковой ленточкой. Ясь взял пакет в руки. Письма? Ленточка была обыкновенная, узенькая, какими обычно перевязывают коробки с конфетами. На пакете рукой Фридерика было написано: «Мое горе».
Матушиньский машинально отодвинул пакет в глубину ящика. И уже не машинально, а с ясным ощущением связи между пачкой писем и нотным листом, который он держал в руке, положил туда этот новый, лишь сегодня записанный вальс Шопена.
«Нетрудный»! Легкий! Пакет тоже был легкий! Как бедны наши слова! Как мало порой они могут выразить!
Глава четвертая– Так ты и не соберешься к мадам Санд? – спросил Лист. – Ведь она тебя не раз приглашала!
– Может быть, соберусь, – ответил Фридерик.
Он действительно навестил ее поздней осенью, когда она вернулась из Ногана. Она уже уладила свои семейные дела и теперь больше не опасалась преследований господина Дюдевана. Так как его домогательства были главным образом денежные, то удовлетворить их было не так уж трудно.
У нее не было никого из гостей. Она позаботилась об этом, так же как и о платье и прическе.
– Вы как будто избегаете меня, – сказала она после того, как разговор некоторое время касался незначительных предметов, – не отрицайте. Я это заметила.
– Н… нет, – отвечал он с запинкой, – просто я в последнее время мало бываю в обществе.
Он хорошо говорил по-французски, но с легким польским акцентом, и это нравилось Авроре. Впрочем, ей все в нем нравилось.
– Воображаю, что вам наговорили! Меня изображают таким чудищем! Грубый от курения голос, растрепанные волосы, брюки!
Она вдруг звонко рассмеялась.
– Ах, эти бедные, злосчастные брюки! От них все беды, все неудовольствия! Как будто мы носим их всегда! Ведь любая из писательниц так охотно облачается в модное, красивое платье, как только есть повод к этому! Но ведь брюки – это настоятельная необходимость!
– В каком же смысле? Она сделалась серьезной.
– Когда я приехала в Париж, чтобы начать трудовую жизнь, мне приходилось часто бывать в таких местах, где не должно быть и женского духа: в кабачках, в грязных кварталах, в рабочих предместьях, всюду… Я наблюдала жизнь не только из любопытства, это был мой хлеб. Я должна была присутствовать при пожарах, знать, где происходило ограбление и даже убийство, прийти туда по свежему следу, вообще появляться в самой гуще событий и видеть все сама, не доверяя слухам. Как вы думаете, могла бы я наблюдать все эти происшествия, появляясь там в женском платье в мои двадцать семь лет? В классических пьесах и романах смелые девушки, отправляясь на поиски любимых, всегда надевают мужскую одежду, чтобы в пути не подвергнуться оскорблениям и оградить свою жизнь и честь. И никому не придет в голову осуждать их или смеяться над ними!
– Там – необходимость! Но что заставляет современную женщину бывать среди воров и убийц, если она может обойтись без этого?
– Откуда же тогда берутся повести и романы? Или вы полагаете, что в тиши будуара придумываются сюжеты и образы? Можно ли писать о том, чего никогда не видал? Конечно, вы так не подумаете ни о Бальзаке, ни о Стендале! Мужчины-писатели должны знать жизнь! А вот дамы сочиняют, что им в голову придет, балуются литературой!
Он молчал, – стало быть, так и думал.
– А мне и моим подругам по профессии приходилось очень трудно! Мы были совершенно одни, без защиты. Никого за спиной, никакой поддержки, а преследований, злобных выходок сколько угодно! Знаете ли вы Жанну Лагранж? Ее повести очень интересны! Ей, бедняжке, еще приходилось заботиться о старой матери и о больном ребенке! Да! Чтобы написать правдивую повесть, надо хлебнуть горя! И не только своего! Насмотреться на бедность, нищету, даже преступления! Конечно, я не собиралась весь век писать хронику, но это лучшая школа для писателя, и я очень довольна, что покипела некоторое время – почти два года! – в этом котле!
Она задумалась на минуту, ее лицо как будто постарело.
– И сколько тяжелого, мрачного приходилось видеть! Как мы уставали, особенно в последнее время! Жанна Лагранж даже лишилась чувств! Такая изящная и хрупкая – где она только не бывала! И, конечно, нельзя было обособляться от других, от тех, кого мы описывали. Приходилось и трубку выкурить, и рюмку абсента пропустить, и выслушать брань, а иногда и исповедь, которая тяжелее брани.
Она говорила: «мы уставали», «нам приходилось трудно», а не «мне». Это понравилось Шопену. Вообще то, что она говорила, было интересно, а ее доверчивый, искренний тон при полной независимости суждений был так не похож на кокетливые недомолвки, ужимки и искусные «ходы» в разговорах светских дам, которые тоже любили «серьезные материи»! Жорж Санд невольно внушала уважение. И все же он был чем-то раздосадован.
– Оттого-то мне и тяжело думать о женщинах-писательницах, – сказал он тихо, – что подобная жизнь неизбежно лишает их мягкости, кротости, женской доброты, которая так много значит в жизни семьи.
– Я понимаю: вам не нравится, что женщина выбирает «постороннюю» профессию, в то время как единственное ее призвание-это быть женой и матерью.
– Кто здесь может ее заменить?
– Я заметила странную вещь в людях, – сказала Аврора: – они любят и уважают только счастливых.
– Как так?
– Ведь нет никакого сомнения, что женщина, одинокая и самостоятельная, вынужденная сама зарабатывать свой хлеб, в глазах общества гораздо менее счастлива, чем замужняя, имеющая защиту и прочное положение. А первую меньше уважают, чем вторую. Не говоря уж о подлинно несчастных женщинах, которых готовы сжить со света. Отчего это?
– Оттого, что они пренебрегают семьей.
– Совсем не пренебрегают. Напротив!
– Не может быть иначе! Общественный труд, профессия отнимает слишком много времени.
– Но не больше, чем светский образ жизни! – воскликнула Жорж Санд. – Посмотрите на наших дам. Разве у них есть свободное время? Разве они заняты своими детьми? С первых дней они поручают их кормилице. А сами спят до полудня, остальное время посвящают портнихам, балам, приемам. Детей отдают в чужие руки и даже редко видят их!
Он ничего не смог возразить.
– С одним, впрочем, я согласна, – продолжала Аврора более мягко: – женщине-писательнице или женщине-ученому лучше совсем не иметь семьи. Но я-увы! – обзавелась ею слишком рано! Я была уже связана, когда начала писать. И если пришлось бы начать жизнь сначала, я ни за что не вышла бы замуж! Ни за что! И не имела бы детей… – прибавила она менее уверенно. – Любовь к слову была для меня самой сильной любовью. С малых лет. С тех пор, как себя помню. Моя мать, отлучаясь куда-нибудь, ставила вокруг меня загородку из стульев, а я в этом замкнутом, но чудесном для меня мире жила такой полной жизнью, о которой можно только мечтать! Сколько сказок и даже романов сочинила я в то время! Какие диалоги придумывала! Позднее я стала читать их моим ровесникам, и их внимание было для меня величайшей наградой. Но зачем я говорю вам все это? Разве вы не испытывали то же самое?
– Да, конечно.
– Мы не прощаем другим того, что в нас самих кажется естественным, – сказала она, улыбаясь, – но, конечно, привычка к самостоятельности, обыкновение всегда находиться среди мужчин, не чувствуя себя женщиной, а главное – необходимость постоянно бороться за свою свободу, наложили на меня и на моих подруг, особенно на меня, я не скрываю этого, странный и неприятный отпечаток. Да, он должен отталкивать людей утонченных… И когда вспоминаешь, что ты все-таки женщина, невольно клянешь опыт, который и обогатил и обездолил тебя.
Его предубеждение постепенно рассеивалось. А досада все-таки оставалась.
И он сказал неожиданно для себя:
– Но мы часто видим, что, отказываясь от семейных обязанностей, самостоятельные женщины не отказываются ни от чего другого!
Ага! Вот что его беспокоило! Сначала она хотела пропустить эту фразу мимо ушей, так как заметила, что он смутился. Но это было ее больное место.
– Договаривайте, пожалуйста! – сказала она, вспыхнув. – Отказываясь от семейных обязанностей, свободные женщины не отказываются от… радостей жизни! Иначе говоря, заводят любовные связи! Ведь именно это хотели вы сказать?
– Я не говорил про всех, – пробормотал Шопен, – но…
«Сейчас я ему все выскажу! – думала она в лихорадочном нетерпении. – Я спрошу его: «А вы, господа просвещенные мужчины, вы, художники и артисты, отказываетесь от «всего другого»? У вас не бывает любовниц? Какое же право имеете вы судить?»
Но инстинкт, всегда выручавший ее в трудные минуты жизни, и на этот раз удержал ее от ложного шага. Она сказала себе: «Погоди! Сейчас не время!»
И храбрая Жорж Санд, всегда с гордостью отстаивающая свои крайние взгляды, на этот раз сдержалась. Она проговорила с равнодушным видом:
– Впрочем, это зависит от натуры. И поспешила переменить разговор:
– Мне сейчас стыдно вспомнить мою «фантазию», которую я читала у вас тогда! Лист ужасно подвел меня! Впрочем, он желал мне добра. Но я пришла к одному заключению: может быть, я и неплохо знаю свое дело – я верю в себя, – но есть одна область, где слово мне не повинуется. Эта область – музыка. Я не умею говорить о ней. Я умею только страстно любить ее.
– Может быть, и не следует говорить о ней?
– О нет! Вы, музыканты, не нуждаетесь в этом. Но людям, которые еще не умеют слушать музыку, необходимо разъяснять ее смысл. Но какой для этого нужен талант! Он есть у Листа, да ведь Лист и сам музыкант! Поэтому я буду лишь просить вас поиграть мне, но предупреждаю, что буду нема, как рыба. Это вас не оттолкнет?
– Напротив, – отвечал он.
Ему было совестно, и он хотел загладить неприятное впечатление, вызванное его опрометчивой догадкой.
Глава пятаяТеперь, когда лед был, по ее мнению, сломан и предубеждение Шопена против писательниц в какой-то степени развеяно, Жорж Санд стала чаще напоминать ему о себе. Раза два она приходила к нему вместе с Листом и графиней д'Агу, а в сочельник принимала его у себя. Она показала ему своих детей – мальчика и девочку, очень хорошеньких и нарядных. Они танцевали вокруг убранной елки со своими сверстниками. Мальчик, уже подросток лет четырнадцати, был похож на мать, белокурая девочка, видимо, на отца. Но она напоминала Аврору большими черными глазами и еще чем-то неуловимым. В десятом часу пришла гувернантка и увела маленькую Соланж. Морис остался. По просьбе мадам Санд он показал Шопену свои рисунки. Потом простился, поцеловав, как взрослый, у матери руку.
– Вот, – сказала она после ухода мальчика, – вот моя отрада! Сын меня больше любит, а дочку надо еще приручить – ведь они лишь с недавнего времени принадлежат мне!
– Они очень милы, – сказал Шопен.
– …И как странно, – продолжала она, – у такой крошки-ведь ей девятый год – уже заметна сословная спесь! Она случайно узнала, что ее дедушка был потомок короля, и вздумала разыгрывать из себя знатную даму! Что с ней будет, бедняжкой, когда она узнает, что одна из ее бабушек была простой модисткой? Она непременно узнает об этом в свое время. Ничто так не отталкивает меня, как это чванство происхождением! И чем гордиться! Сколько ничтожных людей, сколько мелких душ встречала я в этом сословии!
– Не только в этом, – сказал Шопен.
– Конечно, разбогатевшие выскочки, может быть, еще хуже. Я сама питаю отвращение к дельцам, банкирам и подобным им. Кстати, я с удовольствием наблюдала, как вы разговаривали с Ротшильдом. Вы-то держали себя безукоризненно! Но он! Как он пытался доказать свою причастность к искусству! И каких усилий это стоило!
Она засмеялась. Она была в духе.
– Все-таки эти люди работают – за одно это их стоит уважать. А потомки знатных фамилий с их великолепным бездельем бывают иногда просто смешны! Особенно после какого-нибудь общественного бедствия, когда они лишаются состояния, сразу же обнаруживается их ничтожность! Ведь одного громкого имени мало! Нужны еще и деньги! И как они изворачиваются, чтобы только не работать! Я видела этих молодых людей, фланирующих по Парижу! Долги, игра в рулетку, дружба с темными личностями, авантюры, шантаж – ничем они не брезгуют, чтобы раздобыть средства! И при этом, конечно, от души презирают тех, кто имеет глупость трудиться!
Это был довольно точный портрет Антуана Водзиньского.
– Когда же средства иссякают, они дарят свою дружбу тем, на кого привыкли смотреть свысока. При этом они их еще и обирают. Не беда! Придут лучшие времена– и дистанция будет восстановлена. У вас, поляков, есть хорошая пословица: «Панская милость до порога».
Она заметила, что Шопен побледнел. Тогда она заговорила о польском восстании и о своей горячей симпатии к восставшим.
– Клянусь вам, в те дни, когда восстание разгоралось, я готова была простить панам то, что они аристократы. Но когда они бросили народ на произвол судьбы и он остался один «а один с царскими войсками…
Каждое ее слово отзывалось в нем болью. Она не хотела слишком натягивать струну и переменила разговор.
Полушутя она пожаловалась на героиню своей последней повести. Девушке полагалось отвергнуть страстно любящего ее человека, но при этом остаться его другом. Автор направлял ее по этому пути, но героиня вышла из повиновения, она стала обращаться со своим честным и ни в чем не повинным поклонником холодно и жестоко и наконец прогнала его с глаз долой.
– И вообразите! Я так рассердилась на нее, что теперь уж не могу сделать ее такой, как задумала, то есть привлекательной! Вам смешно, не правда ли?
– Совсем не смешно. Я ее понимаю. Когда не любишь человека, так и видеть его не хочется!
– Чем же он виноват?
– Тем, что его любовь не разделяют.
– Вот как? А я не понимаю этой грубости и жестокости! – воскликнула она с жаром. – Как можно плохо относиться к человеку, который любит тебя? Ведь это значит – не ценить себя самого! Какая глупость! Все равно, если бы я стала презирать своих читателей и сердиться на них за то, что они ценят мои способности! Чужая любовь! Пусть ты и не разделяешь ее, но все равно она – дар, она – чудо! Надо ценить ее независимо от того, что ты сам чувствуешь!
Ее щеки пылали. Все ее чувства стремились к одной цели. Но она колебалась в выборе оружия: пробовала одно, находила другое… И все же она добилась того, что разговор перешел в приятную для нее фазу: паузы уже не были пустыми, беседа продолжалась мысленно.
– Но разве не в вашей власти изменить поведение героини? – спросил он, улыбаясь. – Или она очень упорная девица?
– Чрезвычайно упорная. Упорная, как сама логика. И это подсказывает мне, что права не я, а она.
Один штрих где-то в начале повести предопределил все ее поведение в дальнейшем.
Тут она решила, что хватит разговоров. Как и в прошлый раз, она попросила его поиграть. И, как в прошлый раз, слушала молча и благоговейно.
Было уже очень поздно, когда она отпустила его.
– Вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня бранила ваших соотечественников? – спросила она на прощание.
– Напротив, я благодарен вам за участие к Польше.
– А я благодарна вам за то, что вы существуете на свете! – произнесла она тихо.
Шопен удивленно поднял брови, но она выдержала его взгляд. Она не раскаивалась в своей смелости, не спохватилась, что неосторожные слова были ею произнесены, и смотрела на него сияющими глазами. Он мог принять это как признание: ведь она высказала свое убеждение – чужая любовь должна быть священна для того, к кому она обращена, даже если он и не разделяет ее. Чего же ей стыдиться? Но эти слова могли быть и данью его таланту, не более. Она действительно страстно любила музыку. И Шопен охотно играл для нее, рискнул даже сыграть свой последний вальс до-диэз-минор, тайну которого разгадал Матушиньский. Аврора сказала, что ой больно слушать этот вальс, хотя он написан божественно.
Глава шестаяВсю зиму Аврора искала встреч с Шопеном, оказывала ему услуги, которые были очень ценны, если принять во внимание ее занятость. Перед рождением Людвики, которое Шопен справлял у себя, так же как и другие памятные семейные события, он написал для сестры маленький вальс и показал его Авроре. Она тоже выбрала подарок – миниатюрную брошку работы голландского мастера в виде рубинового тюльпана с золотой каемкой.
Это подношение тронуло Шопена. Правда, иногда знаки внимания Авроры приходились ему не по душе, но он не считал себя вправе отклонить горячее поклонение женщины, достойной всяческого уважения. Ее внимание могло только польстить. В конце концов, она ничего не требовала. То, что в другой было бы нескромным и навязчивым, у нее выходило трогательно. Она не делала никаких признаний, и лишь однажды (это могло быть и признанием дружбы) он. нашел у себя на столе нежную записочку, оставленную в его отсутствие. Аврора писала ему: «Вас обожают!» Она была у него со своей приятельницей Марлиани, женой испанского посла. Госпожа Марлиани приписала к приветствию Жорж Санд: «И я тоже!»
В первый раз за минувшие два года Шопен весело рассмеялся. Особенно забавна была эта приписка флегматичной красавицы. Аврора умела заражать друзей своим артистическим энтузиазмом.
Но все же ей не скоро удалось покорить его. Все его привычки, внушенные воспитанием, восставали против нее. Признав ее ум, силу и даже во многом правильность ее суждений, он на первых порах испытывал неприязнь к ней, и чем больше он склонен был уважать ее, тем сильнее его охватывало раздражение против нее… и против себя – за то, что он думал о ней слишком много. Иногда целыми часами он мысленно спорил с ней, заранеее торжествуя, если удавалось найти какое-нибудь неопровержимое доказательство против ее парадоксальных утверждений. Он был остроумнее Авроры и, пожалуй, умнее ее, но как только они сходились, она умела обезоруживать его – не меткостью ответа, а твердой логикой и собственной убежденностью, ибо сам он уже во многом поколебался и его юношеские идеалы, дорогие ему по воспоминаниям, не могли поддерживать его теперь.
Конечно, он мог любить только незаурядную женщину. Те, которые нравились ему, были талантливы, обаятельны. Но Жорж Санд превосходила своих соперниц: она не растрачивала, а совершенствовала свой дар. Как истинный художник, Шопен не любил дилетантов, и трудовая серьезность Жорж Санд, ее профессиональная добросовестность внушали ему уважение.
Его собственная рана еще дымилась. Душевное страдание усилило болезнь. Но он превозмогал ее. Равнодушие к жизни, которое так пугало Матушиньского, тоже постепенно проходило. Молодость брала свое, и интересы «Малой Богемии», раздражая и возмущая Шопена, все же начинали сильно его занимать.
Пожалуй, это и было началом увлечения, хотя и не вполне осознанного. Он с улыбкой вспоминал медицинские объяснения Яна. – Сильный жар в начале заболевания, – говорил Матушиньский, – означает не самую болезнь, а твою борьбу с болезнью! – Что ж! Это можно применить и к чувствам! Раздражение против Авроры и антипатия к ней и были своеобразным «повышением температуры» – признаком борьбы против ее возрастающего влияния!
Встречая ее всюду, он не уклонялся от разговоров, которые его сердили. Дав себе слово прекратить их, он почти всегда начинал их сам.
Он презрительно отмечал упадок нравов в парижском обществе и осуждал женщин, которым, по-видимому, недоступно понятие о долге и верности.
– Верность чему? Кому? – спросила однажды Аврора. – Если женщина любит, то и будет верна, если не любит, то верность бессмысленна.
– Да умеет ли она любить?
– Вряд ли, – с деланным спокойствием отозвалась Аврора. – Брачные узы уже убили в ней эту способность, как, впрочем, и многие другие способности. Но иногда каким-то чудом в ней просыпается чувство…
– При чем тут брачные узы, не понимаю…
– Ах, не думайте, что я вообще противница брака, но в нашем обществе это приняло слишком уродливые формы!
И она снова принималась доказывать то, что было для нее непреложной истиной:
– У кого нет выбора, тот не в состоянии любить, ибо он не свободен. Ни один муж не может быть уверен в полном, безграничном чувстве жены, хотя бы потому, что замужество является для нее необходимостью. Раз ей непременно надо выйти замуж, а без этого она будет несчастлива, то ей не остается возможности свободно выбирать и она выйдет за любого, кто будет для нее подходящим хозяином. Ведь рабочий тоже как будто нанимается добровольно! Но он может переменить место своей работы, а женщина – нет, ее нельзя сравнивать с рабочим, она скорее раба. В лучшем случае она будет питать к своему властелину признательность за то, что он спас ее от унижения, дал положение в обществе. А если он при этом станет хорошо относиться к ней, то она по-своему и привяжется к нему – женщины умеют привязываться! Но это не любовь, а только ее замена. Тысячи и десятки тысяч женщин живут так со своими мужьями. И если нет грубости и оскорблений со стороны мужа и хозяин жалеет рабу, то подобный брак считается счастливым. Если же, как в большинстве случаев, тайно или явно происходит надругательство над рабой, она либо примиряется, либо начинает восставать. А если любовь к жизни не совсем убита в ней, ее сердце может откликнуться на чувство другого, не ее мужа. И тогда общество… постарается ускорить ее гибель…
– Стало быть, по-вашему, не бывает браков по любви?
– Бывает, но гораздо реже, чем принято думать. Это счастливые совпадения. Благодарность, долг, привязанность со стороны женщины, некоторая доля внимания и уважения со стороны мужа – и мы уже отмечаем редкий удачный союз. А потом ведь люди умеют скрывать свои несчастья. Если женщина выглядит веселой, то это еще не значит, что ей весело!
– Благодарность, долг, привязанность – это не так мало! – сказал Шопен.
– Ну и довольствуйтесь этим! – ответила она небрежно. – Впрочем, вы, мужчины, и не нуждаетесь в большем. Женской любовью вы пренебрегаете, унижаете ее. В нашем обществе женщина, которая осмелилась полюбить и не скрывает этого, всегда так или иначе бывает наказана за свою смелость. Да и к чему вам любовь? Вы предпочитаете тех, кто продает себя– все равно, в браке или без него!
Ее голос уже дрожал. Сколько раз она писала об этом, всколыхнув умы своими жгучими разоблачениями, и все же не могла говорить об этом спокойно…
Подобные разговоры были тяжелы для Фридерика еще и потому, что теперь он невольно думал о матери и сестрах и – страшно сказать! – начинал сомневаться в их счастье. В доме он часто слышал поговорку: «Стерпится – слюбится!» Теперь он думал о замужестве самой пани Юстыны и о том, что ее положение в доме графов Скарбков было нелегким и могло стать невыносимым, не явись пан Миколай, подобно сказочному избавителю. Не это ли руководило мамочкой в те дни? А Людвика? Ведь она любила не Каласанти, а другого! Правда, он оказался недостойным, но Людвике минуло уже двадцать пять лет, а Каласанти был рядом. Как смеялась Жорж Санд над этим «уже»! – Ну, не глупость ли, – возмущалась она, – не убийственная ли жестокость в этом насильственном состаривании женщины, которой навязывают убеждение, что в двадцать пять лет, в этом чудесном, цветущем возрасте, она должна видеть начало своего заката– только потому, что не связала себя семейными узами! Когда вся жизнь впереди! Когда многие женщины, удостоившиеся привилегии замужества, вполне уверены в себе и в сорок лет! Бедные женщины, – говорила Аврора, – как низко вы ценитесь, если стойте на этом рынке и ждете, чтобы кто-нибудь вас «осчастливил»! Допустим, не ждете, завлекаете, хитрите, делаете все возможное, чтобы вас избрали!..Прямо сердце кровью обливается, когда видишь молодую, чистую, умную девушку, которая уже не может быть вполне счастлива, пока не перейден рубикон, пока не выдержан самый трудный экзамен. А мужчины, эти невольные насильники и рабовладельцы в душе, делают вид, что поклоняются женщине!
… И Людвика, бедная, могла поддаться этому предрассудку и выйти замуж из одной благодарности! Не свободны они – вот в чем дело! И благословенный семейный рай оказывается просторной клеткой!
Но нет, этой мысли Фридерик не допускал! Его мать и сестра – вне этого страшного закона! Но исключения только подтверждают жестокое правило! И он стал думать о женщинах лучше, чем прежде: может быть, не столько обожествляя их, но с большим участием и уважением.
Госпожа Марлиани твердила Авроре, что ей следует быть осторожнее в своем увлечении, во-первых, принимая во внимание разницу в годах, во-вторых, помня, что весь свет говорите помолвке Шопена с мадемуазель Водзиньской и об его скорой женитьбе как о чем-то решенном. Лучше уйти раньше, чем обречь себя на невыносимые страдания…
Первое соображение, то есть разница в годах, не устрашало Аврору. При ее теперешнем состоянии и двадцать лет разницы не остановили бы ее. Но она была еще молода, старше Шопена всего на шесть лет, они были люди одного поколения. Кроме того, говорила она Марлиани, осторожность не в ее характере, и не ей прибегать к доводам рассудка, когда ее захватила страсть… Что же касается версии о предстоящей женитьбе Шопена, то тут она умолкала и бледнела. Именно это причиняло Авроре невыносимые страдания, от которых предостерегала ее подруга.
Действительно, весь Париж уже говорил об этом. Распространился слух, что папаша Водзиньский вначале сильно заупрямился, оттого дело и затянулось. Но, видя постоянство влюбленных, тронутый их верностью и печалью, он победил свою спесь и дал согласие. Теперь Водзиньским остается только приехать в Париж и сыграть свадьбу – так пожелала Мари. Передавались даже такие подробности, как планы юной четы: сначала выехать в Служево, провести там медовый месяц, побыть затем в Варшаве до осени, а там вернуться в Париж, где прелестная Мари займет подходящее место в свете.
Аврора верила этим слухам только наполовину, но они мучили ее. В том, что Шопену приятно ее общество, она не сомневалась. Она была слишком опытна, чтобы не замечать, что… она играет в его жизни некоторую роль. В последнее время это становилось заметнее. Но это не значило, что он свободен. Он мог любить свою невесту и интересоваться другой женщиной или даже другими женщинами. Все ее знакомые именно так и поступали. Раньше она оправдывала их, теперь находила это ужасным.
В одно из воскресений ей пришлось выехать в Ноган на несколько дней. Дилижанс уходил вечером. Она попросила Шопена проводить ее. Дул сильный мартовский ветер. Они пришли слишком рано. Разговор почему-то не клеился. Сильный порыв ветра едва не сорвал с нее шляпу. Она засмеялась, поддерживая ее, и в конце концов отпустила: пусть болтается на ленточке! Но тут мантилья сползла с ее плеч. Фридерик помог ей надеть мантилью и сам завязал у горла концы шелковой тесьмы. Не различая его лица и только слыша, как ветер свистит в ушах, Аврора всем телом прильнула к Шопену, закрыв глаза и не думая о том, что их могут видеть прибывшие на станцию пассажиры. В эту минуту она сознавала, что взгляд, пожатие руки, одно лишь сознание близости может дать самое полное счастье.
Не дав ему опомниться, она поцеловала его руку. В это время подъехал дилижанс. Она и сама не помнила, как взяла саквояж и ступила на подножку, сознавала только одно: Фридерик принял ее безмолвную ласку и ответил на нее, стало быть, начался новый период в ее жизни, не похожий ни на что прежнее. Она уселась, закрыв лицо руками, и не заметила, как дилижанс тронулся.
Весенние месяцы бежали быстро, и казалось, ветер все время шумит и завивает воронкой светлые, бурные дни. Аврора жила в постоянном напряжении и, может быть, первый раз в жизни неспособна была осмыслить свое положение. Когда ей стало ясно, что она достигла цели и то, что представлялось ей чудом, действительно произошло или было совсем близко, она, эта поистине отважная женщина, почувствовала настоящий страх. Она никогда ничего не боялась, но теперь вдруг ужаснулась той ответственности, которую взяла на себя. Никаких объяснений у нее с Шопеном еще не было, но выпадали дни, когда ей невозможно было сомневаться в нем. Они виделись ежедневно, проводили вместе по нескольку часов в день, и им уже трудно было расставаться, а между тем слухи об его помолвке не утихали, и опять ревность, боязнь унижения, терзания совести не давали ей покоя. Она уже почти раскаивалась, что не послушалась мадам Марлиани и не заставила себя расстаться с Шопеном, пока не запутался узел. Упрекала себя и в том, что слишком обнаружила свое чувство. Впрочем, это нелепое лицемерие: потеряла сердце – все потеряла! Но нельзя было не считаться с тем, что где-то в Польше живет молодая девушка, которая имеет на него права.







