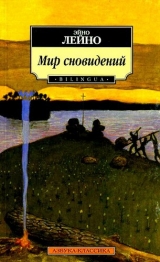
Текст книги "Мир сновидений"
Автор книги: Эйно Лейно
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Эта история оказалась длинной, врач приходил и уходил, забинтовывал его в какой-то борный компресс, который нужно было постоянно смачивать и снова прибинтовывать. Боли не прекращались ни на минуту. Прошли недели, прежде чем раны покрылись сухой коркой, и месяцы, прежде чем он готов был опять приступить к школьным занятиям. И все же Пекке удалось сохранить за собой место первого ученика.
Но что удивительно – после такого удара злой судьбы ни следа не осталось на коже этого во всех отношениях изящного, яснолицего, с прекрасными манерами светского человека, который ныне уже пятидесятилетним приветствует вас на пороге Северного Эстерботтена.
14. Назад в Оулу
Совершенно независимым от меня решением семейного совета судьба забросила меня на год в Оулу – обновить прежние воспоминания.
Город был все тот же. Все, что там было нового, являлось результатом душевного роста весьма уверенного в себе третьеклассника. В это входили, в числе прочего, магазин филателистики, мальчишечьи драки, катания с гор, лыжные забеги, каток и проваливания на слишком тонком льду. В школе царила война всех против всех: учеников между собой и против учителей, учителей против учеников – и так же, вероятно, между собой. Языковые распри и выпирающее отовсюду националистическое фенноманство[35]35
Феиноманы – сторонники финского национального развития и придания национального статуса финскому языку. До середины 1860-х административным и литературным языком в стране был шведский, на финском печатались только религиозные книги. Родились так называемые «языковые партии», лидером Финской партии был Г. 3. Юрьё-Коскинен. Языковые распри продолжались вплоть до середины 1930-х годов, их отголоски до сих пор ощущаются в отношении большинства финноязычного населения к шведскому языку, являющемуся ныне вторым государственным языком в Финляндии.
[Закрыть] в печатных органах исчерпывающе представленное газетой К. Ф. Кивекаса[36]36
К. Ф. Кивекас – журналист, активный просветитель, создатель рабочего союза в Оулу.
[Закрыть] «Эхо», вполне могли давать для этого поводы.
Нам, ученикам только что образованного финского государственного лицея, это давало повод прежде всего к постоянным дракам с учащимися шведоязычного государственного лицея, каковые схватки обострялись на те пару часов в неделю, когда нам приходилось заниматься в последнем физкультурой и завоевывать его превосходный гимнастический зал в рукопашной битве или снежной войне у столь же упорного и зловредного неприятеля. Неизбежным местом штурмового прорыва и обороны был, естественно, школьный коридор, где пощады не просили и не давали, но где совершалось так много безымянных и бесславных геройских подвигов.
Вообще же местные школьные условия были достаточно убогими. Финноязычному лицею, в котором количество учащихся было, естественно, во много раз больше, чем в шведоязычном, приходилось ютиться в тесных съемных комнатах, где не хватало даже воздуха для дыхания и где из-за этого внезапные обмороки во время молитвы были совсем не редкостью. В то время как большой шведоязычный лицей со своим постоянно редеющим содержимым красовался на краю лучшей городской площади. С этим упущением покончено было только благодаря энергичной деятельности Г. 3. Юрьё-Коскинена[37]37
Георг Захариас Юрьё-Коскинт (1830–1903) – ученый-исто-рик и общественно-политический деятель, боровшийся за признание финского языка как государственного наравне со шведским.
[Закрыть], заставившего упомянутые школы поменяться зданиями.
Обучение в школе было формальным и устаревшим. Единственной значительной индивидуальностью там был учитель религии Магнус Розен-даль, уроки и весь облик которого напоминали нам отлитого в бронзе римлянина. Знакомство с Рид-бергом, Понтусом Викнером, Снойльски[38]38
Виктор Ридберг (1828–1895), Понтус Викнср (1837–1888), Карл Снойлъски (1841–1903) – шведские поэты.
[Закрыть] и прочей скандинавской литературой, внезапно проскальзывавшее в каком-то слове или словесном обороте, заставляло интересующегося поэзией слушателя тут же навострить уши.
Для примера – его урок из первой Моисеевой Книги бытия. Никакого опроса домашнего задания, даже ни одного вопроса, но все – как бы лекция для развитых мыслителей.
Главным содержанием речи было примерно вот что: «В этой книге сперва говорится: «в начале». Где – в начале, в начале чего? В начале времени. Ибо человек живет в настоящем времени, а не в вечности. Затем там сказано: «и стал свет». Как мог свет настать прежде луны, солнца и всех светил небесных? Не один современный знаток естественных наук останавливался перед этим в недоумении, более же крупные исследователи пошли дальше и глубже, раскрыв перед нами и по сию пору таинственный мир электричества. Так слово в слово подтверждается рассказ о сотворении мира, точно совпадая также и с научным естествознанием, хотя и проповедуя отдельные его истины своими великими символами».
И т. д. и т. п. В той классной комнате ты бы услышал, как падает иголка. Так с нами никто еще не разговаривал. Еще никто не обращался с нами как с развитыми индивидуумами и людьми, ищущими истину.
И по-видимому, позднее ни для кого из его бывших учеников не явился неожиданностью его роман «Огонь Господень».
Но в общем школьная жизнь не оставила никаких достойных упоминания следов, по крайней мере в авторе этих строк, если не считать таковыми то маленькое товарищество, членами которого были, в числе прочих, теперешний доцент К. С.Лаурила и министр Ю. Э. Сунила[39]39
К. С. Лаурила – литератор, переводчик и журналист. Ю. Э. Сунила (1875–1936) – политик, премьер-министр в двух правительствах.
[Закрыть].
15. Литературные занятия
Глубже повлияли, естественно, усердные посещения городского читального зала и страстное абонирование романов из его библиотеки, когда Вальтеры Скотты, Куперы, Дюма, Авг. Бланше и Маури Йокаи проглатывались со всем безграничным аппетитом возраста.
Ну а собственные литературные занятия? Они по большей части отошли на второй план. Слишком переполняли впечатления новой, более многообразной жизни.
Как важнейшее литературное событие того года запомнилась лишь одна встреча с покойным отцом, который, из последних сил замеряя тракты своей губернии, случайно заехал в Оулу.
Я жил, разумеется, как и он, у старой тетушки Ольги Кирениус. Однажды, когда мы были наедине, он заговорил о моих первых литературных опытах.
Я залился краской, мне хотелось провалиться сквозь землю, и меня бросало то в жар, то в холод.
Вероятно, он заметил, что я остолбенел от смущения, но, к моему удивлению, он и не думал сердиться по поводу невыполненных домашних заданий.
– Тебе не нужно стыдиться их, – ободрил он меня с подчеркнутой, необычной мягкостью. – Когда-нибудь они могут принести тебе славу, как Оксанену.[40]40
А. Оксамен – псевдоним журналиста и литературного критика Августа Алквиста (1826–1889).
[Закрыть] И отнюдь не зазорно, что сын пастора из Иисалми Юхани Ахо[41]41
Юхани Ахо (настоящее имя Иоханнес Брофельд, 1861–1921) – писатель, классик финской литературы.
[Закрыть] или мой собственный сын Казимир Лейно который, кроме того, магистр философии – пишут. Но если Хейк-ки Мериляйнен, мой помощник, не получивший никакого образования, примется писать, так это он будет дурака валять.
И он дал мне добрый совет – стать образованным человеком, как и другие по-настоящему значительные писатели, чтобы я мог учить литературе и других. И даже теперь весьма похвально, что я, помимо школьных занятий, упражнялся в таком во всех отношениях прекрасном и просвещающем искусстве, которое может стать большой радостью и для окружающих. Поэтому мне совершенно не надо стыдиться и теперешних стихотворных проб и прятать свои тетради в синей обложке в мусор за конюшней или в кучи стружек, где их все равно найдут служанки и батраки. Будущей осенью я должен привезти их ему, для хранения в его собственном комоде.
Эта будущая осень не настала никогда. Он умер вскоре, той же зимой, в последний раз я видел его в рождественские дни. Когда он умер, я уже вернулся в город, где учился, и не могу сказать, что я очень сильно горевал об этом событии. Трагичность его, как и связанную с ним трудность собственной судьбы, я успел уже задолго до этого гораздо достовернее и серьезнее пережить в своем воображении.
Одну деталь о его смерти мне все-таки рассказали, и я думаю, что это правда. Отец, уже много лет принимавший таблетки, порошки и всякие микстуры, которые прописывал ему окружной врач Инберг, однажды по-братски спросил у того:
– Есть от них еще хоть какой-то прок?
– Нет, – сказал этот на редкость честный окружной врач после минуты тягостного раздумья.
– Хорошо, – ответил на это отец. – Спасибо за старую дружбу.
Один ушел со слезами на глазах, а другой повернулся к стене, пролежал так еще три дня, ни на что не реагируя, ни с кем не разговаривая, и умер, как лесной зверь в своей берлоге.
Но я же собирался говорить о своих литературных устремлениях. Черед их пришел только на следующее лето, причем в такой знаменательной форме, что это в одночасье решило мою будущую писательскую деятельность.
16. Пегас
Именно в то лето мой старший брат Казимир Лейно прибыл домой из Парижа, он вернулся совершенно французским господином, целиком изменившим свой прежний провинциальный облик. Тем же летом приехал и самый старший брат, О. А. Ф.Лёнбом (Мустонен), освободившийся на несколько недель от тяжелой учительской и журналистской работы, – он был самым веселым из всех и хотел дать нам, двоим младшим братьям, возможность продолжать школьное образование в его доме «цыгана от науки» в Хямеенлинна.
В тот раз дома собралось одновременно больше братьев и сестер, чем когда-либо на моей памяти. А именно: три сестры, старшая из которых сошла с ума раньше, чем я себя помню; вторая, окончившая курсы усовершенствования учительница, вынужденная из-за ослабевшего слуха оставить работу в школе, и третья – только что закончившая курсы курносая школьница, не способная ни на мгновение перестать смеяться и вообще воспринимать мир с серьезной стороны. И вдобавок к ним пятеро братьев: один – теперь уже давно покойный техник-строитель, умерший помешанным, второй – жизнерадостный и помолвленный молодой землемер по имени Карл, и поныне все такой же веселый, живущий пенсионером в Каяни; третий – тоже помолвленный, во втором классе бросивший лицей земледелец и продолживший затем свой жизненный путь далеко от родных мест рыбаком на побережье Руйя[42]42
Руйя – живописная область на северном побережье Норвегии.
[Закрыть], и четвертый – так же как н я, пятый, – лицеист и будущий бездельник.
Можно догадаться, что в те дни в старом доме на берегу тихого залива горе и печаль не гостили, несмотря на смерть хозяина прошедшей зимой.
Напротив – и озеро, и берега залива звенели радостью настоящего, надеждами будущего и всем неизмеримым восторгом бытия. И даже за их пределы докатывалась оттуда золотая волна жизни, перекликаясь с «Перекрестными волнами» Казимира Лейно, которые он как раз готовил к изданию, а «Просторные воды»[43]43
«В перекрестных волнах» (Ristiaallukossa, 1890), «На просторные воды» (Valjemmille vesille, 1893) – сборники поэм Казимира Лейно.
[Закрыть] плескались нежной и чуткой, как народная песня, зыбью в благодушном мурлыканье О. А. Ф. Мустонена, когда он в длинных своих рыболовных рейсах вдоль колышущихся плесов сидел на корме лодки бородатым богатырем, а я на передней банке работал веслами, вслушиваясь попеременно в кантеле[44]44
Кантале – финский народный инструмент типа гуслей.
[Закрыть] природы и певца.
Большинство его стихов, похоже, никогда не были собраны в книгу, рождаясь моментально и моментально же испаряясь. Одно из них, думаю, начиналось примерно таким образом:
Нет у меня земель и злата,
мирскою властью не силен,
а только мыслями богат я
и даром песни наделен.
Но всех идей моих дороже
Ты, дева, ангел чистоты,
ты так прекрасна – и, быть может,
прекрасней всех мечтаний ты.
Второе – которое, кажется, появилось в каком-то из рождественских журналов того времени – было, по-моему, очень красиво. Оно рассказывало о летнем вечере, вечернем облаке, вечернем ветре и снегире; все они растворялись в сумерках белой ночи. С рассветом же снова появлялись и ветер, и облако, и, возможно, какая-то еще присущая настроению деталь, не появлялся только снегирь. Поэт видит, что все остальное возвращается, и перед этим фактом разражается следующим двустишием-жалобой:
Нет снегиря, что улетел в места чужие,
а может, он попал в силки другие?
В третьем стихотворении, которого я, впрочем, в этих поездках на рыбалку не слышал, а только читал потом в посвященном памяти какого-то великого финна студенческом журнале, была простая история о юноше и девушке, стоявших летней ночью на вершине горы. И там вышел у них спор: вечерняя или утренняя заря тот красный отблеск, что виднеется по краям облака. Они спорили, спорили, и…
И в это время взошло солнце Севера.
Их были, наверное, сотни, а может, и тысячи. Опубликовано из них не много, но плохо же я знал бы своего брата, глубокоуважаемого патриарха музея в Куопио, если бы поверил, что он в какой-то момент писательского отчаяния предал их огню. Правда, все возможно.
Он тоже был тогда здорово влюблен.
Мне, со своей стороны, пожалуй, не требуется пояснять, что касательно любви и стихосложения я был отнюдь не самым вялым, хотя и самым малым среди великих царей Израилевых. И то и другое как бы относилось к профессии, как сказал персидский шах по поводу одной из попыток покушения на него в Париже. Поэзия, кажется, была в то лето все-таки на первом плане. По крайней мере, вспоминаю как самое значительное событие лета, что брат Казимир, которому наши сестры насплетничали про мои стихотворные опыты, в один прекрасный день попросил меня показать их.
Чтобы представить потрясающую напряженность момента, нужно принять во внимание, что он к тому времени уже опубликовал пару книг и отделывал третью, а в свободное время читал французских поэтов и романы в желтых обложках, к тому же он был старше меня на двенадцать лет и бесспорный «arbiter elegantiarum»[45]45
Арбитр вкуса (лат.).
[Закрыть] во всей округе. Я сразу же отдал в его руки мою набело переписанную рукопись.
Он добросовестно проштудировал ее, делая пометки легкой рукой там и сям, и я поражался, каким малым усилием он заставлял совершенно неожиданно звучать и рифмоваться строфу, с которой я бесплодно сражался дни и недели. В особенности совершенное изящество конечной рифмовки заставляло меня безмолвно трепетать от восхищенного уважения.
Но вдруг он остановился. «Вот это выглядит как годный к публикации текст», – сказал он и надвинул свои очки поглубже. Он внимательно перечел сравнительно длинное стихотворение, которое называлось «Крепость Каяни», и заметил: «Здесь нужна настоящая правка». И он принялся править: сохранял все, что только возможно было сохранить, и удалял то, что необходимо, заменяя это более удачными словесными оборотами. Закончив, он еще раз проверил свою работу, и смотри-ка – получилось весьма недурно. Он протянул мне руку и сказал по-товарищески: «Поздравляю, Эйно Лейно1 Отныне ты можешь пользоваться этим псевдонимом». Кажется, до того я подписывал свои стихи чем-то вроде «Тайнио», или «Виено», или «Норко»[46]46
Tainio – обморочное состояние; Vieno — нежный, легкий; Norkko – соцветие растения, сережка (фин.).
[Закрыть]. Затем он собрал всех домочадцев и прочитал это стихотворение вслух в своей тонкой, деликатной манере. Наверное, излишне добавлять, что все это родившееся под звездами Топелиуса поэтическое изделие приобрело таким образом совершенно иное, облагороженное эмоциональное содержание. Стихотворение вызвало всеобщий одобрительный гомон. «Это Эйно Лейно написал», – сказал он гордо. – «Ille faciet»[47]47
Это он сделал (лат.)
[Закрыть].
Выше я уже не мог подняться. Да и позднее не часто приходилось мне испытывать подобное писательское удовлетворение, как тогда, в двенадцатилетнем возрасте. Стихотворение имело честь появиться затем на страницах газеты «Хямеен Сано-мат», редактором которой был мой старший брат О. А. Ф. Лённбум. Как много значило это событие для тогдашнего пописывающего стишки школьника, ясно из того, что тот знаменательный день, 20 сентября 1890 года, нерушимо хранится в кладовых моей памяти.
III. ХЯМЕЕНЛИННА3. Школьные версты
Естественно, ни учеба, ни даже товарищеская жизнь, к которой я с самого начала относился с энтузиазмом, не могли в этих условиях стать главным моим делом, принимая во внимание мое все более усердное стихотворчество и все более безграничную влюбчивость. Одно дополняло другое, взращивая разные стороны одного и того же явления. С помощью первого я уже в старших классах школы натренировался до весьма порядочного уровня владения языком, будучи в этом отношении практически готовым ко времени студенчества и опубликования своего первого стихотворного сборника. Второй я обязан обостренностью чувств, порой граничащей с болезненностью из-за порожденных ею бесчисленных смен ощущений и настроений.
Учение превратилось для меня просто в игру, за исключением математики, в отношении которой я был заблудшей овцой уже с первого класса. История стала для меня великой книгой сказок, языки – восприятием на слух. Все остальное получалось благодаря общей благосклонности и помощи учителей.
Единственным, кого не так легко удавалось провести, был Большой (Бруммер), преподаватель финского языка и латыни, который частенько говорил мне, когда я в доказательство своих знаний поднимал руку:
– Лённбум то знает, а то нет. Лённбум то подымает руку, а то нет. Не буду тебя спрашивать, когда ты вызываешься.
Я пробовал подкупить его, вытягивая руку как можно дальше. Все так же безуспешно.
– Я вижу твое невежество Насквозь, – говорил Большой. – Уж лучше и не тянись.
Редко он спрашивал у меня что-нибудь. Но иногда и я все-таки годился, чтобы продекламировать перед классом «Прапорщика Столя».
– Не умеешь ты читать, – говорил он, послушав немного. – Иди на место и слушай, как я декламирую.
Он брал в руки книгу, выдерживал маленькую художественную паузу, озирался выпученными глазами поверх очков и начинал читать выразительно и с правильной интонацией, увлекался своим чтением, увлекался самим текстом, забывал об окружающем мире и терял представление о месте и времени.
Мальчишки в это время веселились. Не было страха за невыученный урок. Можно было даже втихаря пошалить.
И никто не замечал, что книга в его руке опять опустилась и его глаза поверх оправы этих пугающих очков пронзают класс.
– Напрасно метать бисер перед свиньями, – говорил он с глубочайшей обидой и презрением.
Урок заканчивался. Он вставал и уходил, оставляя ужасное впечатление человека, не питающего к нам ничего, кроме самого жгучего пренебрежения.
* * *
Учителем математики был Скрепа (Хорд) – старый, разукрашенный и жеманный кавалер, которого Юпитер поместил на этом неблагодарном поприще. Напрасно он старался вбивать в головы своих учеников арифметику, алгебру и, прежде всего, основные истины геометрии.
– Ну, следовательно… ну, следовательно… – пытался он ноющим, раздраженным голосом подвести стоящих у доски к напрашивающемуся решению геометрических проблем.
– Ай-ай-ай-ай-ай, нет-нет-нет, ай-ай-ай-ай! раздавалось его жалобное хныканье по поводу каждой новой ошибки, сделанной в таких, по его мнению, простых, а по нашему, сложных выводах.
Он был так же не способен возбудить в нас подлинный страх, как и подлинное ощущение авторитета. Во-первых, он был слишком изысканным и элегантно одетым и ходил слишком изящной походкой, кроме того, его преследовали ужасные слухи, что он носит парик.
Ну каких еще нужно было нам доказательств? Я не верил этому, и многие другие серьезные ученики не верили, но брошенное однажды подозрение делало свою тайную, подспудную работу и ослабляло почву под его ногами. И хотя он своей требовательностью заставлял мальчишек довольно много заниматься математикой, навряд ли он пробудил в ком-либо особенный интерес к ней.
* * *
Иначе обстояло дело с учителем истории Папой Римским (Фавеном). Умный, широкий, низкорослый, рыжебородый, он в самом начале урока ставил свое кресло в конец среднего прохода между партами, откуда управлял и обучением, и дисциплиной зорко, оживленно, требовательно – то с саркастической насмешкой, то'с добродушной шутливостью. Ему никогда не приходилось прибегать ни к каким наказаниям. Его боялись и любили, а историю знали назубок. И это еще не все. Он придавал значение манере и способности излагать прочитанное и запомнившееся.
– Не входит в задание! – была наша часто повторявшаяся жалоба.
– Нет, входит! – отвечал он. – Если не в теперешнее, то в прежние, а если не в прежние, то в будущие.
Подобная аргументация, вдобавок приправленная каким-нибудь историческим анекдотом, была неотразима. Разумеется, он привлекал насмешников на свою сторону, и не только как учитель.
* * *
Учителем русского языка был Ясси[48]48
Прозвище Ясси с финского переводится как Паренек.
[Закрыть] (Палан-дер-Суолахти). Маленький, тощий, скрюченный, с огненно-красными скулами, похожий на русского телеграфиста, он скрывал под непритязательным своим обликом недюжинный запас воли и работоспособности и совершенно взрывное количество той сдержанной электроэнергии, которую называют бешеным темпераментом, а также холерическим характером. Обучая в течение всего школьного курса предмету, в те времена более или менее отталкивающему, он сумел провести нас стальной своей хваткой через все проблемы формообразования и синтаксиса к источникам высокой русской поэзии – до пушкинской «Капитанской дочки» и «Бориса Годунова», запечатлев в памяти даже самого непокорного восьмиклассника приятное воспоминание о пережитых трудностях и открывавшихся за ними чарующих перспективах. И так же, все школьные годы вникая в духовную жизнь каждого отдельного ученика, он вел – впрочем, более или менее пристрастно – каждого из нас соответственно своему разумению, минуя все временные подводные отмели и приходя в этом отношении чаще всего к удовлетворительным результатам.
Он отмечал «своих людей» уже в младших классах. Тот, кто тогда был слаб в морфологии или вообще относился к ней нерадиво, страдал из-за этого до конца школы.
Двое из нашего класса, Йон Зибек и Эдв. аф Энейельм, говорили по-русски, как казаки. Все же по какой-то причине они уже с самого начала стали козлами отпущения. Когда часы показывали пять минут до конца урока, Ясси клал книгу под мышку и спокойно произносил; «А теперь немного морфологии. Энейельм, как будет по-русски «ленивый дворянин»»? Весь класс ухмылялся, хорошо зная, что предстоит.
Энейельм вставал, отвечал и пытался сесть. «Просклоняем», – говорил Ясси. Энейельм склонял слова во всех шести падежах с безнадежной яростью. Теперь он считал себя вправе сесть. «Множественное число! – изрекал Ясси с эпическим спокойствием. – Как это будет во множественном числе?» Теперь уж весь класс хохотал. Энейельм принимал кислый вид, делал протестующий жест и склонял во множественном. «Садись», – командовал Ясси. Для Зидбека у него была какая-нибудь другая морфологическая задача.
Так продолжалось все время обучения, до самого восьмого класса, – с той все-таки разницей, что он с шестого класса прекратил тыкать, обращаясь к нам с тех пор только в третьем лице.
По отношению же к тем, кто в младших классах показывал знания и интерес, он оставался все школьные годы добрым и весьма мягким. У него, как ни у кого другого, следовательно, были любимчики и нелюбимцы. Последним он всегда грозил исключением из школы. «Уходи, уходи! – кричал он, – Иди учиться на сапожника! На портного! Что ты здесь другим мешаешь и учителя мучишь?»
Его голос, на редкость богатый оттенками, мог вырасти с нежнейшего и улыбчивого шепота до громового раската. Гром раздавался, когда кто-ни-будь давал повод для замечаний его постоянному, неусыпному вниманию, обращавшемуся не на одни лишь проступки учеников или мальчишеское озорство, но в гораздо большей степени нй общие свойства характера, особенно на себялюбие и самодовольство.
Однажды, например, Херрайс[49]49
Кличка Херрайс скорее всего переводится как Господинчик. (Барчук) (от швед. herr).
[Закрыть] (Херргорд) каким-то неосторожным и самодовольным выражением лица вызвал рев этого урагана.
Это был ужасный момент. Ясси спустился к нему с кафедры, подпрыгивая, как поплавок, обеими руками придерживая брюки на животе, и вопил, и гремел, и плевался, и отфыркивался, и так расписывал всю никчемность и ничтожество объекта своей ярости, что даже наделенного большим чувством собственного достоинства гомо сапиенса хватил бы сердечный приступ. Это продолжалось долгие минуты и завершилось решающими словами: «Подай дневник!» – что означало два часа сидения после школы; он никогда не давал меньше. Подобный припадок приключался редко, очень редко, но проходил по одним и тем же фонетическим законам, завершаясь всегда тем же роковым образом. Ясси преследовал нелюбимцев с неослабным упорством и среди коллектива учителей, где он был самой значительной персоной, причем особенно на полугодовых собраниях, где взвешивались знания, способности и хорошее поведение каждого учащегося.
Совершенно противоположной была судьба его любимчиков. Ставя им высшие баллы, он влиял и на оценки других учителей и, как уже упоминалось, не гнушался также устной рекомендацией. Его обращение с любимчиками год от года становилось все мягче, и в старших классах он опрашивал их только изредка, когда речь шла об исправлении чьего-нибудь неправильного ответа. Я, тоже ходивший в любимчиках, поскольку сразу после поступления написал контрольную без единой ошибки, многим обязан ему на том сравнительно гладком пути, который прошел в лицее Хямеенлинна.
Однажды все-таки меня обуял демон гордыни. Это случилось в старшем классе, в первые ученики коего возвели меня милость и благосклонность Ясси и Пектора (Линдеквиста).
По общим школьным правилам в обязанности примуса[50]50
Примус – первый ученик.
[Закрыть] входило, кроме содержания в чистоте классной доски, докладывать перед началом каждого урока, кто отсутствует. Для этого ему приходилось нести чернильницу и ручку к учительской кафедре и отмечать их имена, как и свое собственное, в большом дневнике. По завершении сего примусу полагалось вновь с чернильницей и ручкой в руках брести на свое место.
Этот старый обычай уже некоторое время раздражал меня своей формальностью. Я купил для учительской кафедры чернильницу и ручку и поднимался только для того, чтобы со своего места объявить имена отсутствующих. Это сошло на первой паре уроков. Учителя, похоже, были несколько поражены таким новшеством, но позволили ему произойти.
Ясси новшеств не любил. Я встал и перечислил ему имена отсутствующих. Он смотрел на меня вопросительно и с ласковой улыбкой. Я перечислил еще раз. Он улыбнулся еще ласковее. «Я не очень хорошо слышу этим ухом, – сказал он, – Не подойдет ли Лённбум немножко поближе?» Мне ничего не оставалось, как под безмолвную насмешку одноклассников прошествовать на свое обычное место справа от учителя и оттуда доложить об отсутствующих. «Ага, – сказал Ясси, – теперь я слышу лучше». Он протянул мне чернильницу и ручку, и мне теперь пришлось промаршировать обратно на место счастливым обладателем двух ручек и двух чернильниц.
Как и каждый из нас, я был хорошо знаком с его особого рода глухотой. Временами он слышал хоть куда, а иной раз не желал слышать вовсе. Особенно когда вопрос был в том, отвечает ему любимчик или нелюбимчик. В последнем случае он частенько не слышал правильных ответов, а только неправильные, в предыдущем же – дело обстояло как раз наоборот. Он сам на всякий случай произносил верный ответ, как если бы это отвечал любимчик, и благожелательно кивал, переходя к следующей теме.
4. К. О. Линдеквист
Затем, в старших классах, на моем горизонте появились и другие важные для меня учительские личности.
Одним из них был ректор школы К. О. Линдеквист, прозванный Пектором[51]51
Pehtori – управляющий имением (кличка дана, видимо, ни созвучию со словом «ректор»).
[Закрыть], доктор истории и учитель финского языка, впоследствии лектор хельсинкских курсов усовершенствования, писатель-историк и почетный профессор. Ставя мне на протяжении всех лицейских лет высшую оценку по всем трем важным предметам – третий был сочинение, – он во многом облегчил мое обучение, поддерживая меня своим пониманием и прямодушием во многие решающие периоды. Все любили его. Справедливость его была настолько же известна, насколько его преподавание свободно от всяческого педантизма.
Какой-то шкет в стенах школы попался с поличным на месте преступления: он распевал некую популярную песенку, в которой доставалось каждому учителю. Пектор повел его в свою канцелярию, куда тот следовал за ним с бьющимся сердцем. Бедный мальчуган, конечно, ожидал примерного наказания. «Пой!» – сказал Пектор. Мальчишка смотрел на него с изумлением. «Пой! – повторил Пектор, помахивая своей указкой. – Ты ведь знаешь эту песню, я сам слышал». Мальчишка попытался было зареветь, но все же, всхлипывая и прикрывая локтем глаза, запел:
Сделал Скрепа из счетов тележку,
из счетов тележку, из счетов тележку,
сделал Скрепа из счетов тележку,
Папа Римский с Пектором ободья ковал!
Пектор отбивал такт своей указкой. Когда мальчик замолкал, вновь звучало соломоново решение: «Пой! Ты эту песню знаешь! Какой там следующий куплет?» И мальчишке пришлось во всю глотку проорать песню с начала до конца, не пропуская ни одной строчки или куплета. Только после этого он был отпущен восвояси.
И у него не осталось даже обычной возможности взывать к сочувствию своих друзей или к общественному мнению по поводу учительской несправедливости, что, как правило, следует по пятам за преступлением и наказанием. Все сочли суд вполне правильным.
Случались проступки и похуже. То школьная уборная была так полна табачного дыма, что хоть топор вешай, то школьник или выпускник, напившись водки и в этаком виде появившись вне школы, умудрялся привлечь внимание сурового и почтенного школьного совета.
Тогда было уже не до шуток. Пектор ходил со своей указкой из класса в класс, стучал ею по столу и бранился: «Как здесь живут, в самом деле? Живут как на постоялом дворе! Дебоширят и гадят так, что у всех честных людей волосы дыбом встают! Я скорей возьмусь очистить авгиевы конюшни, чем это учебное заведение!» Затем следовал ряд довольно-таки драконовских наказаний, исключений из школы, карцеров и сидений после школы. Он больше не был каким-то ненавистным Юпитеру учителем-автоматом – он был самим Юпитером, чьи нахмуренные брови означали крушение миров.
По счастью, это случалось редко, весьма редко – только раз или два за все те пять лет, что я имел счастье и честь состоять учеником классического лицея.
* * *
Мои личные впечатления о нем были целиком иного свойства.
Первое же мое сочинение «Лыжный поход», которое я написал и прозой, и зронкими дантевскими терцинами, он отметил оценкой «10+». Это произошло, кажется, уже в пятом классе.
С тех пор десятки неизменно следовали за каждым моим сочинением, длинным или коротким. Эта неизменность относилась не только к сочинению, но и к финскому языку и к истории. С помощью этих трех десяток и столь же твердых девяток, выставляемых мне Ясси, я легко миновал самые опасные мели остальных предметов, среди которых естественные науки и математика в других условиях могли бы в любой момент погубить меня за бездарность.
В финском языке я был отчасти авторитетом для всего класса, и даже не в последнюю очередь для самого учителя, особенно в отношении сложных для слуха западных финнов прямых дополнений. Конечно, все они были перечислены в грамматике Сетяля, которую, разумеется, никто не читал, да и требовали их знания только для проформы. Я же, со своей стороны, знал их досконально. Сейчас помню только общее впечатление от них: я никогда и не догадывался, на каком трудном языке говорю с самого раннего детства.
Вообще же читали только «Калевалу». Я уже раньше самостоятельно углублялся в нее, хотя ее поэтическая форма и была для меня теоретически чужой, да и по сию пору еще не совсем ясна. Но ее красоту я осознавал, ее объемлющая миры фантазия ошеломляла меня, и я понимал, что здесь в мировую литературу привнесено что-то новое.
Сила Лектора была все-таки в истории – как отечественной, так и общей. Его уроки с каждым годом все больше превращались в лекции, на которых речь шла не столько о войнах, династиях монархов и датах, сколько о ведущих мировоззрениях и идейных течениях, направляющих общее развитие человечества.







