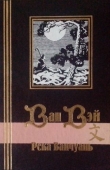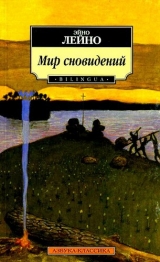
Текст книги "Мир сновидений"
Автор книги: Эйно Лейно
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
– Ну, что получил, ась? – фамильярно спросил он у Матти.
Он видел Матти во дворе ратуши, но еще ничего не знал о приговоре.
Матти не хотелось рассказывать ему о своей беде. Сказал только, что его дело отложено на завтра. Посмотрели они вместе на медведя, и цыган сразу же начал приторговываться.
– Продай мне зверушку! – сказал цыган, как бы невзначай позвякивая монетами в кошельке. – Получишь полтинник, забирай пятьдесят финских марок!
– Не болтай! – рявкнул Матти. – Одна его шкура и то больше стоит!
Но душа его странно дрогнула. Цена, предложенная цыганом, на удивление совпадает с только что заплаченным штрафом. Как знать, может, из этого еще выйдет выгодная сделка, подумал он. И опять же была бы потеха – хоть раз обмануть цыгана.
Тому очень хочется медведя. Он и сам понимает, что предложил смехотворную цену. Он прибавляет и прибавляет. А Матти хоть бы что.
– Я цыгану не продам! – кричит он наконец.
– Глянь, деньги, они и у цыгана деньги. Даю сто пятьдесят!
– Постыдился бы хоть! Вот заплатишь пятьсот – тогда забирай! Ишь ты!
Цыган, подвижный носатый мужчина с серьгой в ухе, притворно ужасается, хотя прекрасно знает, что на просторе заработает на этом медведе тысячи. Торгуются еще некоторое время.
Но Матти непоколебим. Он уже заметил, как тот жаждет покупки, и не думает уступать ни пенни.
Цыгану приходится со вздохами достать свой потрепанный кошелек, спрятанный глубоко под рубахой, и отсчитать Матти в ладонь чистоганом пять сторублевых купюр.
– Ушлый мужик, хитрый мужик! – хвалит цыган противника. – Взял цену доброго жеребца!
– Да они хоть настоящие-то? – спрашивает Матти с поддевкой.
Цыган клянется и божится. Да и Матти понимает толк в купюрах, – он просто так, без причины тянет, подшучивает. Наконец он сует деньги в карман и говорит, еще раз погладив Мишутку по голове:
– Ну, прощай, Мишутка, бедолага1 Уж как буду скучать по тебе. Да что поделаешь! Да и матушка состарилась уж, надо ей подмогнуть.
Мишутка грустно мычит в ответ, точно теленок сквозь щель в заборе.
И цыган тоже собирается погладить его. Но Мишутка так злобно мотает головой, что тот сразу отдергивает руку.
– Да навряд ли он к чужим привыкнет – ухмыляется Матти.
Цыган щелкает кнутом в воздухе и показывает белые зубы.
– Привыкнет, еще как привыкнет – уж будь уверен, братец! – бросает он весело.
– Запомни, обращайся с ним по-хорошему, еще раз предостерегает Матти.
– Как золото на ладони буду держать! – заверяет цыган. – Хороший медведь, умный медведь, только пьющий. Трезвым не будет артачиться.
Так и закончилась сделка, и Мишуткину судьбу решили опять, ничуть не поинтересовавшись его желанием.
Матти еще раз предупредил цыгана, чтобы тот постарался увести Мишутку из города как можно незаметнее. Цыган ответил, что это уж он соображает.
– Небось украл его где-нибудь? – усмехается цыган, лукаво подмигивая.
– Помолчи, мошенник! Пойди укради петуха с церковного флюгера!
Матти поспешил уйти со двора ратмана, как будто за ним гнались укоры совести и он чувствовал груз греховных денег.
«Там он и остался, Мишутка, – все думал он, шагая уже далеко от города. – Хорошо хоть, живой! Но и под кнутом цыгана по миру бродить – тоже не сахар…»
Ему казалось, будто продал он родного брата. И ни одной шутки не принес он в свое село, воротясь с той ярмарки.
РОЗЫ И ТЕРНИИ
На том и кончились честолюбивые надежды Матти Проделкина. С ним случилось то же, что и со многими другими финскими артистами. Он блеснул на мгновение и вновь погрузился в избяную тьму Финляндии.
Он сдался сразу, при первом же невезении.
Артистическая звезда Мишутки, напротив, только восходила. Он стал знаменитостью. Он достиг той мировой славы, которая порой маячила золотым миражем перед внутренним взором Матти, пока он сидел на банной лавке.
Но все это, естественно, произошло не без больших мучений и жестоких испытаний. Кочуя с цыганами по деревням и селам, Мишутка как-то более или менее существовал. Правда, время от времени он получал взбучку, а еды ровно столько, чтобы только душа держалась. Но в общем цыгане были добродушные и веселые люди и не слишком-то строго придерживались сухого закона.
Мишутку они показывали за деньги в шатре, который сооружали на краю какого-нибудь села или города.
Он теперь не мог выступать свободно, как раньше. Ему на шею надели толстый железный ошейник и цепью привязали к массивному, вбитому в землю столбу, у подножия которого было и его постоянное спальное место.
Правда, он был таким же спокойным, как и прежде, и совершенно не мог взять в толк этих напрасных предосторожностей. Но они, по мнению цыган, были делом самим собой разумеющимся, и публика тоже никоим образом не считала это противоестественным.
Это были первые тернии на Мишуткиной артистической тропе. Его личная свобода сократилась до самой крохотной малости.
Вторым жестоким ударом было то, что ему совсем не разрешали танцевать. Цыгане из страха перед начальством не решались давать ему плясать перед публикой, а заставляли его делать всякие другие штуки, которые у Мишутки получались гораздо хуже, но к которым он все-таки понемногу привык при помощи кнута и сахара.
Он научился стоять на одной ноге и держать на кончике носа стакан, наполненный водой.
Он научился подбрасывать мячи и поочередно ловить их один за другим.
Он научился делать разные гимнастические упражнения – например, подтягиваться на турнике и крутить «солнце», а также держать пирамиду, которую цыганские мальчишки строили друг на дружке до самой крыши шатра.
После каждого удачного номера публика как бешеная била в ладоши, цыганские девочки бросались его обнимать и целовать и со всех сторон ему совали кучу пшеничного хлеба, шоколада, мармелада и сладостей.
Это, конечно, было Мишутке приятно. Толь ему не всегда хотелось выступать. Но приход лось, поскольку он знал, что иначе получит зна ную порку от главаря табора.
Кнут всегда висел на столбе над его головой
И все-таки самые большие мучения доставлз ла Мишутке игра цыган, хотя он все еще страсти любил музыку.
Когда глава табора, тот самый носатый челова с серьгой в ухе, который его купил, брал свои скрипку и извлекал первые печальные звуки, трепет охватывал все его существо. Ему хотелось закрыть уши, провалиться под землю. Так велики были в нем мучительный восторг и упоение.
Да, это было совсем другое, чем игра Матти Проделкина!
И Мишутка тоже был другим и более развитым, ибо повидал мир. Он был теперь почти законченным косолапым. Но в той же мере, в какой возрастали его сила, разум, артистический талант и зрелость, росла в его сердце и тайная грусть.
О чем он грустил? О чем тосковал? Только ветер, который свободным бродит в сосняке, мог это объяснить.
Скрипка пела ему уже не о детских радостях и горестях, а о его молодой мужественной, силе, тоске и о плененной, подавленной жажде приключений. Она рассказывала ему о далеких странах, где шумели гигантские темные леса, в которые не ступала нога человека, где благоухали неведомые плоды и где каждый проходящий миг был на вес золота…
И еще она рассказывала ему о весне – там, далеко в глубине просторов Финляндии, где так нежно зеленели веточки, ночь была светлой, как день, а у подножия гор сверкали одинокие лесные озера
Но прежде всего она рассказывала ему о больших, больше его самого, хищных зверях, с которыми он когда-нибудь хотел бы сразиться, встретить наконец-то равного себе, повергнуть его наземь и уничтожить…
Бедный Мишутка! Он не знал еще, что судьба царей – вечное одиночество.
Часто вставал он тогда с царственным рыком во весь рост. Но люди кругом только смеялись над ним и торопились еще туже затянуть его цепи.
Почему он не порвал их? Почему не выдернул из земли столб и не швырнул его в эту галдящую, оскаленную толпу карликов? Почему не разрушил шатер и не ринулся в эту бескрайнюю, безбрежную свободу?
Он не решался. Он боялся, что кнут последует за ним и туда, и, потом, он не знал, способен ли теперь выжить один в холодном, пустынном мире.
Его детская вера исчезла. Он теперь недостаточно верил в себя и потому был рабом других.
Он уже слишком привык к людям и человеческому присутствию.
И потом, он слишком уж привык к водке, музыке и сладостям. И гораздо больше, чем кнутом и цепями на шее, ими поработило его человеческое племя.
В тоске оседал он опять к подножию своего столба. И в его глазах вновь появлялся тот тусклый, грустный блеск, который бывает на гаснущих, обугливающихся головнях… грусть о том, что минуты утекают напрасно, и уныние оттого, что обугливаешься и гаснешь, хотя внутри еще цельная, несгоревшая древесина.
Но все-таки скрипка не всегда приводила ел на память только мучительное и печальное. Ино! да она звучала и для Мишутки очень приятнс радостно и весело.
Особенно когда цыганские девушки с искрящи мися глазами, в своих медных поясах, звенящих се ребряных и золотых украшениях, хватали трескучие кастаньеты и выплясывали на ковре какой-то странный южный танец, горячий, как песок степей, – тогда звуки лились в его сердце, как темное вино.
Тогда и его лапы начинали сами собой подергиваться в такт музыке. Мишутке тоже хотелось танцевать, но он не мог. Ему не позволяли цепи.
Мишутка совершенно не мог взять в толк этого запрета. Правда, его неуклюжие ноги, наверное, не смогли бы ступать так быстро, а его тяжелая финская кровь – так огненно-горячо кипеть и бурлить. Но почему он не мог хотя бы попытаться?
Ведь знал же Мишутка, чувствовал же Мишутка, что именно этим он смог бы принести людям наибольшую радость.
То, что ему не давали даже попробовать себя в деле, которое он считал своим лучшим и основным, казалось Мишутке величайшей, кровной несправедливостью, которую ему довелось испытать в цыганском шатре. И поэтому он недовольно скулил, хотя, даже лежа на земле, не мог запретить своим лапам присоединиться к веселью остальных.
Но свистеть ему позволялось! И частенько во время музыки он садился на задние лапы и насвистывал в такт.
Это было невинное развлечение. И нравилось как публике, так и цыганам. Хозяин дружески кивал ему из-за головки своей скрипки, а девушки-цыганки просто визжали от восторга.
Из публики же на него в эти минуты дождем сыпались сладости.
И Мишутке нравилось, что он таким образом вновь становился объектом всеобщего внимания. Через минуту он уже не помнил своих давешних горьких размышлений, а наслаждался настоящим и теми сносными сторонами, которые оно, несмотря ни на что, давало ему.
Так текло его время. Так пробегали его недели среди цыган.
Но бывали минуты, когда и Мишутка мог наплясаться вдоволь. Это случалось, когда цыгане удалялись от сел и городов и разбивали свой шатер где-нибудь на пустынной поляне под сенью мрачной лесной чащи, чтобы там на свободе подсчитать свою добычу и порадоваться ей.
Тогда хватало и веселья, и шума. Тогда и Мишутка мог выпить водки и посидеть в компании других мужчин. Тогда заводили музыку и пляс, взмывало ввысь праздничное пламя жизни, багрово пылали ненависть, любовь и ревность…
Но на следующее утро начиналось серое, утомительное кочевье.
ДИРЕКТОР КАРУСЕЛЛИ
Так Мишутка с цыганами добрался наконец-то до столицы Финляндии.
Цыгане водрузили свой шатер на улице Тёлё, и здесь им сопутствовал такой же успех, как и везде. Деньги просто текли в карманы главы табора. Успех этот был на самом-то деле Мищут-кин, но вечной артистической судьбой его было – обогащать других, а самому оставаться бедным как церковная крыса.
Зашел туда и директор временно расположившегося в городе цирка, посмотреть на трюки своих конкурентов.
Цыгане его ничуть не заинтересовали. Но он сразу пришел в восторг от Мишутки, пригласил главаря на следующий день побеседовать и спросил. сколько тот хочет за своего воспитанника.
– Десять тысяч, – ответил цыган не моргнув глазом.
Директор тут же выложил ему деньги на стол. И хотя цыган вначале подумал было, что заставил этого надменного господина порядком раскоше-литься, уходил он с буравящим душу чувством, что в этой игре умудрился все же вытянуть короткую спичку.
Мишутка в тот же день перешел к новому владельцу.
Цирк уезжал из города, и, кроме того, Мишут-ку вообще не стоило там показывать, потому что многие любители цирка уже заглянули из любопытства мимоходом в цыганский шатер.
И поэтому его вначале только посадили в клетку, а через несколько дней погрузили вместе с другими хищниками и остальной хурдой-бурдой на пароход, который должен был перевезти все заведение в Стокгольм.
Но уже оттуда началось Мишуткино победное шествие по Европе.
Он сразу же стал любимцем публики, как бывало повсюду. Никогда еще не видывали такого забавного, такого умного и понятливого медведя; и чем больше он усваивал и умел, тем больше от него требовали.
– Он гений, настоящий гений! – обычно говорил директор господину дрессировщику, потирая руки, довольный своей удачной покупкой. Он научится чему угодно. Попробуйте опять придумать что-нибудь новенькое к следующему разу.
И господин дрессировщик старался как мог. Он понимал, что речь идет о его месте и заработке.
Только теперь Мишутка узнал, какое огромное влияние в мире имеют искусство, публика и критики.
– Мое искусство, мое искусство! – вечно повторяли друг другу артисты цирка. И чем они были хуже и бесталанней, тем чаще и громче звучало это слово в их устах. «Мое искусство» требовало гак, и «мое искусство» требовало сяк. Но и у публики были свои требования, и перед ними приходилось отступать даже самому искусству.
– Плевал я на ваше искусство! – вопил директор. – Я вас спрашиваю: кто вам платит жалованье? Я! И откуда мне капают деньги? От публики! Стало быть, действуйте в соответствии с ее требованиями.
Это была ясная речь, которую даже цирковые артисты хорошо понимали. Ворча и брюзжа, подчинялись они воле директора и там, где их артистическая совесть резко возражала. Но на следующий день снова начиналось шуршание той же склоки.
Между искусством и публикой находились газеты со своими критиками. К ним относились с великим почтением. Они выступали полномочными представителями публики.
Гласом народа они, конечно, не были, потому что тот свободно и властно звучит с длинных рядов зрительских скамей от потолка и до пола. Но они были волей народа, вроде избираемых народом палат представителей и парламентов, и даже часто исполнителями этой воли – вроде правительств и министерств. Таким образом, как законодательная, так и исполнительная власть была в их руках.
Но ведь и над ними всегда находилась публика? Они тоже были зависимы от нее, и их место и заработок подвергались опасности, если они рисковали пренебрегать общепринятым мнением. Их воля была волей народа лишь постольку, поскольку она действовала в соответствии с волей народа.
Но они были жалкими простыми смертными, как и всё прочие, и никто из них большего и не желал. Потому что как личности они редко бывали значительнее остальных.
Мишутке, впрочем, не приходилось напрямую иметь с ними дело, поскольку он находился в счастливом положении: он не читал, и ему не нужно было читать газет. Но у него тоже был свой критик, и очень даже влиятельный в тех кругах, от которых зависели его собственное место и заработок.
Это был господин дрессировщик, его репетитор, никогда не выпускавший из рук плетку.
Его звали профессором.
Мишутка вскоре научился отличать его от всех остальных, ибо число им было легион, и он мог сквозь щели своей клетки наблюдать их всех.
Там были лошадиные профессора и львиные профессора, собачьи профессора и обезьяньи профессора. У каждого из них в руке была длинная плетка, и все они одинаково гордились своей профессией.
Это было подобие какого-то университета или академии искусств для зверей.
Их задачей было обучение своих воспитанников требованиям искусства. А уж директор заботился о требованиях публики.
Здесь Мишутка постиг азы искусства и вообще получил то скромное теоретическое образование, о котором он впоследствии столько же жалел и которое столь же ненавидел, сколько вначале был им счастлив и горд. Трудно было овладеть цм, и еще труднее – от него освободиться.
Искусство прежде всего требовало полного забвения собственной изначальной природы.
Мишутка, правда, был слишком тупоголовым, чтобы понять, сколько всего имелось под этим в виду, но все же уразумел, что ему отнюдь не годится быть таким, как есть, а надо стать гораздо изысканнее и выше.
Это было Мишутке ясно как день – в особенности по отношению к обезьянам и мартышкам. Сам же он, по собственному мнению, был уже достаточно изыскан и высок. И требовал для себя исключительного положения, которого его профессор никак не желал ему предоставить.
– Он ленив, ему неохота, – часто жаловался профессор директору на свои страдания. – Конечно, способности у него есть, но характер на редкость своенравный.
– Но он любимец публики! – накинулся на него директор. – Поэтому он и Мой любимец, и вы должны это принять к сведению.
– Но он ничему не учится, ничему не учится как следует! – причитал профессор. – Поэтому он никогда и ничего не будет как следует ни знать, ни уметь.
– Он счастливчик, – произнес директор, чтобы его утихомирить. – Ему и не нужно ничего знать или уметь. Он может делать, что пожелает, а публика все равно довольна.
– Он пропадет! – воскликнул профессор в отчаянии. – Лозу гнут смолоду! Если он в самом начале не исправит своих привычек, то будет до конца дней жалеть.
– У гения – права гения, – заметил директор, обращая мечтательный взор к высотам. – Он дар дающего все доброе. Его нужно принимать со смирением и благодарностью, а не с мелочным, ограниченным критиканством!
И директор, со своей стороны, заявил, что он счастлив, что в его заведении наконец-то появился кто-то, в ком есть искра. Поскольку искра – это все! Для такого игра то, что для других – труд, и поэтому не следует умничать из-за ерунды.
Тот, в ком была искра, никогда не мог ее потерять.
Он считал, что и в нем самом была когда-то искра, и до сих пор есть, хотя теперь она тлела, потрескивая, в глубине под крахмальной фрачной рубашкой и бриллиантовыми пуговицами. Но она все-таки там была, и это поднимало его в собственных глазах над повседневностью.
В свое время он был всего лишь заурядным гимнастом и наездником. Но потом вдруг осознал свое внутреннее призвание и стал клоуном.
Он был хорошим клоуном.
Он тоже был любимцем публики и потому до сих пор считал это первым признаком настоящего артиста.
– Публика всегда права, – говаривал он. – Критики еще могут ошибаться, но не публика. Она пальцем попробует… вот так – и сразу почувствует, где искра.
Он был весьма изящным юношей в те времена. Теперь это было толстопузое, лысое существо с двойным подбородком, навощенными усами, гвоздикой в петлице, на лице – озабоченное выражение пунктуального делового человека, который всегда спешит и всегда решает какие-то необычные, жизненно важные вопросы.
– Суровая необходимость, тяжелые материальные условия, – было у него обыкновение говорить подчиненным со вздохом. – Они вынудили меня стать директором. Мне пришлось принести себя в жертву. Но, слава богу, несмотря на теперешнее мое положение, я никогда не отдавался в рабство материальному и не мог забыть своего истинного призвания.
Выступал он теперь лишь изредка, да и в этом случае только как наездник, на спине какого-ни-будь очень породистого скакуна, который уже сам по себе был зрелищем. Делал он это как бы для забавы и чтобы показать своим старым поклонникам, что он еще существует и в нем еще жив прежний артист.
Тогда в цирке наступал торжественный момент. Тогда весь его персонал – от клоунов и воздушных гимнастов до последней танцовщицы и мальчишки-посыльного – собирался перед дверью, из которой он должен был выехать, и рослые герольды с маршальскими жезлами объявляли высокими голосами:
– Выступает директор Каруселли!
И директор Каруселли выезжал улыбающийся, счастливый и элегантный в своем сверкающем цилиндре, приветствуя зал направо и налево, обнажая свою лысую макушку, готовый уже заранее принять бурные аплодисменты публики.
В них у него никогда не было недостатка. Для старых поклонников он был все еще прежним, все тем же самым блистательным, непобедимым Каруселли, каким был сорок лет назад. Господа аплодировали ему оттого, что помнили времена его клоунады, а молодые женщины – оттого, что их матери и бабушки вот так же ему аплодировали.
Но больше всех им восхищались сами артисты цирка. Переполняющий их восторг и упоение были тем искреннее, чем более находились под вопросом их место и заработок.
За спиной же Каруселли они плевались и перешептывались:
– Старое пугало! Если бы он не был нашим директором, я наверняка его сейчас освистал бы.
А другие прибавляли:
– И он еще смеет рисоваться! Он, который разбирается в требованиях искусства не больше, чем свинья в серебряных ложках!
В последние годы публика стала-таки выказывать заметное охлаждение. Старый Каруселли это, конечно, заметил, хотя виду не показывал. Газеты больше не упоминали каждый раз в отдельности о его выступлениях, а если и упоминали, то холодно и равнодушно.
Приходилось нанимать клакеров в последние ряды публики, и особенно на галерку, которая никогда не умела следовать приличиям, да и зрители первых рядов не желали сделать больше одного-другого вялого хлопка, несмотря на его многочисленные поклоны.
Все это наполняло горечью душу Каруселли и могло бы, наверное, свести его в могилу, если бы он не утешал себя в одинокие минуты тем, что вкус публики явно ухудшился.
Мишутка появился, чтобы помочь ему.
Он сразу приметил орлиным своим оком, каким кладом будет для него Мишутка. Но, только познакомившись с Мишуткой поближе, он совершенно уверился в том, что именно Мишутка создан стать спасителем его заходящей звезды, светом его старости и зеницей ока.
Ему пришла в голову гениальная задумка научить Мишутку скакать разными аллюрами и носить на себе седло и наездника.
У него самого, естественно, не было на это времени. Грубую предварительную работу поручили профессору.
В профессоре не было искры.
Вообще-то он был очень честным человеком и добросовестным профессионалом. Но не признавал иного метода обучения, кроме хлыста, и всегда был готов урезать Мишуткин рацион, если тот в какой-либо форме обнаруживал свой упрямый характер.
А Мишутка, со своей стороны, совершенно не желал подчиняться такому методу обучения. И еще он так и не смог привыкнуть к пронзительному голосу своего костлявого, длинношеего дылды-учителя, которым тот отдавал короткие, точные приказы.
Раньше он успешно работал укротителем львов. Но тут наткнулся на такой кремень, что все его прежние испытанные приемы оказались несостоятельными.
– Скорее я укрощу сто африканских львов, чем эту одну тупую финскую голову! – пыхтел он частенько, обливаясь потом. – И я вижу все-таки, что он понимает мои намерения. Просто он чертовски упрямый!
Директор каждый день заходил проверить его достижения. И каждый раз бранил маэстро укротителя.
– У вас нет искры, – недовольно выговаривал он. – Вы не понимаете животных. Вы не умеете встать на их место. Вы не проникаете молниеносно в самую глубину их сердца. В то время как гений.-
Профессор, очень часто слышавший от директора, что он отнюдь не гений, нетерпеливо протянул ему свой хлыст.
– Не будет ли господин директор так любезен попробовать сам? – сказал он. – В моих ничтожных способностях здесь явно не нуждаются.
– Этого я не говорю, – попытался успокоить его директор. – Но ведь Мишутка драгоценный камень, подлинно драгоценный – конечно, пока еще не отшлифованный, но все-таки бриллиант, который когда-нибудь засверкает на весь мир. Такое не пристало крошить дубиной.
– В его башку науку и дубиной не вколотишь, – вздохнул профессор.
– Знаний там уже и так достаточно, – возразил директор. – Нужно лишь разбудить в нем интерес и честолюбие… Мишутка! Вот посмотрите, меня он сразу слушается.
И директор дал небольшой показательный урок.
Мишутка охотно подчинялся ему, потому что директор никогда не применял хлыст, и вдобавок Мишутке нравился его глубокий бас, в какой-то ме-, ре напоминавший ему собственный голос. И будто назло профессору, он тогда сумел проделать много такого, чему его никто и никогда не учил.
– Вот то-то! – удовлетворенно произнес директор, окончив свой показательный урок. – Только гении могут понять гениев. Гений – как маяк в море. Куда бы он ни направил свой прожектор, он сияет ярче, чем тысячи масляных коптилок.
– Под масляной коптилкой господин Каруселли подразумевает, по-видимому, меня? – спросил профессор, и жилы на его тонкой шее вздулись от гнева.
– Этого я не говорил, – возразил директор, добродушно похлопывая его по плечу. – Я сказал только, что в вас отсутствует одно да другое, видите ли… и прежде всего кое-что совершенно необходимое в вашей профессии.
И с этими словами он совершенно недвусмысленно указал пальцем па профессорскую голову.
– Господин директор утверждает, что я не понимаю своего дела! – завопил профессор. – Я… я… я, который…
– Вы не понимаете ни людей, ни животных! – в свою очередь, разъяряясь, закричал директор. Вы не понимаете, что это вы должны их понимать, а не они вас! Вы не понимаете, что вы ничего не понимаете, ослиная голова! Вот что! Да кто вы такой? Чего вы желаете? Кто вам жалованье платит? А? Ха! Ну что, довольны теперь?
Эти ежедневные ссоры зашли так далеко, что профессор однажды на полном серьезе поставил директора перед выбором, кого тот предпочитает держать на службе – его или Мишутку.
Директор без колебаний выбрал Мишутку.
– Идите, идите, идите! – приказал оц, гневно указывая на дверь своей конторы. – Эдаких голо-дранцев-маэстро я найду когда угодно и где угодно. А вот такого Мишутку мне и за деньги не сыскать.
Директор взял его теперь на свое попечение. И Мишутка за несколько дней научился большему, чем прежде за неделю. У директора были все причины гордиться как учеником, так и своим педагогическим талантом.
Каким Мишутка был, таким и остался. По-хорошему от него можно было добиться чего угодно, а по-плохому – он и лапой не пошевелит.
НА ХОЛМАХ СЛАВЫ
Великим праздником для всего цирка стал тот день, когда Мишутка выступал в первый раз и когда во всех газетах Стокгольма можно было прочитать написанное крупным шрифтом:
«Мишутка, финский медведь. Дрессировщик – сам господин директор Каруселли. Потрясающее, невиданное зрелищеh
Старик Каруселли уже загодя хорошо подготовил свою публику искусной рекламой и маленькими новостями, возбуждавшими любопытство. Знали, что предстоит нечто необыкновенное, но не знали, что именно. Цирк в тот вечер заполнился весь, вплоть до добавочных мест.
Одни предполагали, что в директоре победил бывший клоун и он на старости лет опять начал паясничать. Другие только усмехались с умным видом, будто им что-то известно, хотя ничегошеньки не знали, а третьи готовы были побиться об заклад, что старый Каруселли подался на музыкальное попр!пце.
– Вот увидите, что это так, – горячо доказывали они, – вот увидите! Он бьет в барабан, а медведь пляшет. Вот будет умора!
Остальные номера программы не вызывали особенного интереса. Все лишь нетерпеливо и лл-ли последней, ударной части всего вечера.
Наконец прозвучали фанфары, а затем му. и ка заиграла марш, под который обычно выступ пн наездники.
Волнение зрителей достигло предела.
И тут выехал сам директор Каруселли – шкоп же улыбающийся, ослепительный и элегантный,
как и прежде, приподнимая свой блестящий цилиндр, обнажая свою лысую макушку и приветствуя направо и налево знакомых и незнакомых.
С той только разницей, что на этот раз он гарцевал на спине медведя.
Он гарцевал! Он и в самом деле гарцевал на медведе! И медведь в самом деле его слушался, брал все аллюры – рысью, галопом и шагом, все в совершенно верном темпе и не сбившись ни разу!
Тут уж не требовалось никаких клакеров. Восторг зрителей был безграничным!
Все повскакивали с мест, кричали и махали носовыми платками, да еще и цветы бросали – из первых рядов, из лож и с галерки.
Вообще-то цветочный дождь старик Каруселли заранее организовал сам, для верности.
Сам король выглянул из своей ложи и присоединился к овациям.
Мишутка остановился и поклонился ему. И вновь все здание цирка загремело от неистовых, бешеных аплодисментов.
Позднее, вечером, он имел честь быть представленным королю и его семье, которые не переставая нахваливали директора Каруселли и его нового воспитанника.
Королевская дочка собственными руками угостила Мишутку сладостями из шелкового мешочка, расшитого золотом и жемчугом.
– Отныне у вас есть право называть ваше заведение Королевским цирком, – милостиво объявил король, протягивая свою серебряную табакерку низко кланяющемуся директору. – Я вижу, вы гений среди цирковых артистов.
– Ваше величество, ваше величество… – лепетал растроганный старик директор. – Что я всегда говорил? Я говорил, что только гении могут понять гениев.
Тот вечер был самым счастливым в жизни директора Каруселли.
Вот теперь оно было, вот теперь оно было опять так, как должно быть! Вот так оно прежде и бывало, вот так он и прежде с сильными мира сего беседовал, вот так гремел вокруг него гром оваций, вот так и прежде понимала его большая публика.
В тот вечер старик Каруселли плакал. Он обнимал Мишутку за шею и бормотал между всхлипываниями несвязные слова.
– Сыночек, сыночек дорогой! – восклицал он на родном итальянском наречий. – Caro mio, саго mio! Ты свет моей старости! Ты моя опора и защита!.. Что бы мне сделать для тебя? Как наградить? Отдам тебе мою душу, отдам мою жизнь и кровь!.. Я вновь живу в тебе, вижу в тебе своего гения… Ты идешь к блестящему будущему… Что я пред тобой? Сено, которое бросают в огонь! Презирай меня, кусай меня, тончи меня, но никогда не разлучайся со мной!..
Так хныкал старый Каруселли, а все артисты цнрка преданно толпились вокруг. И на сей раз их преданность была совершенно искренней, поскольку одновременно с тем, как их директора посетило такое великое и нежданное счастье, возрастала также их собственная ценность, и они могли отныне именовать себя «его величества собственными королевскими шведскими цирковыми артистами»!
На следующий день газеты содержали длинные репортажи о том знаменательном представлении, а имя директора Каруселли было у всех на уста Но и Мишутка не остался без внимания в это разливе популярности. Общественное мнение н; рекло его национальным медведем Финляндии, под этим именем его затем узнали в Старом, позднее и в Новом Свете.
Самому Мишутке было все равно – называ1 они его хоть как угодно. Он ощущал только, чт< механически исполняет некое высшее назначение которого он не выбирал и по отношению к кото рому у него никогда и не было никакой возможности выбора: оно родилось вместе с ним и вместе с ним когда-нибудь умрет.