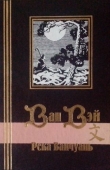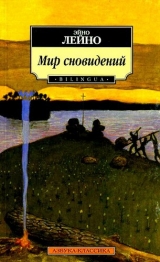
Текст книги "Мир сновидений"
Автор книги: Эйно Лейно
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Из сборника «Зимняя ночь» / Talviyö
(1905)
НОКТЮРН
Козодоя голос МОНОТОННЫЙ,
полная луна в колосьях сонных,
дым подсеки занавесил нивы…
Летней ночью быть легко счастливым.
И не радость, не печаль, не вздохи,
только ряби светлые сполохи
на воде и леса сумрак вечный,
синь холмов и теплый ветер млечный,
запах жимолости, свет и тени
в облаках, где засыпает день, и
шепот листьев ночи на краю
я запомню и тебе спою,
чудо мое летнее, лесное,
красота– венок дубовый, юный.
Сердце ждет, сливаясь с тишиною
и луной, из них слагая руны.
За блуждающими огоньками
больше не бегу – здесь, под руками,
счастье. Жизнь круженье усмиряет,
флюгер спит, и время замирает.
Предо мною сумеречный путь
в неизвестное, куда-нибудь.
NOCTURNE
Ruislinnun laulu korvissani,
tähkäpäiden päällä täysi kuu,
kesä-yön on onni omanani,
kaskisavuun laaksot verhouu.
En ma iloitee, en sure, huokaa;
mutta metsän tummuus mulle tuokaa,
puunto pilven, johon päivä hukkuu,
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu,
tuoksut vanamon ja vaijot veen;
niistä sydämeni laulun teen.
Sülle laulan, neiti kesäheinä,
sydämeni suuri hiljaisuus,
uskontoni, soipa säveleinä,
tammenlehväseppel vehryt, uus.
En ma enää aja virvatulta,
onpa omanani vuoren kulta;
pienentyy mun ympär’ elon piiri,
aika seisoo, nukkuu tuliviiri,
edessäni hämäräinen tie
tuntemattomahan tupaan vie.
Из сборника «Книга стихов» / Runokirja
(1905)
MORITURI(RUS)
Мы – племя судьбою на смерть обреченных;
мы днями – бессильны, ночами – бессонны.
Мы – род пламенеющий и беспокойный;
нам чуждо смирение благопристойных.
Там молимся свету последней звезды мы,
где штормы гремят берегами пустыми.
Мы не пощадим – и не ждем снисхожденья,
мы молча шагаем по смертным ступеням.
Мы в стужу – смеемся. Осеннею ночью
мы гибнем, сражаясь поодиночке.
Мы знать не желаем, что смерть несомненна.
Мы – стража, почетная стража Вселенной.
Нам пенье – что небу закатное пламя:
пусть вера угасла – пылаем мы сами!
MORITURI
Me olemme kuolemaan tuomittu suku;
me päivin emme valvo, öin emme nuku.
Me olemme rauhaton, roihuava rotu;
me emme muiden seuraan ja tupatöihin totu.
Me viihdymme, missä tähti viimeinen tuikkaa,
ralkuu ranta autio ja meripedot luikkaa.
Me emme säästä itseämme emmekä muita,
me kuljemme joka hetki kuolon porraspuita.
Me taistelemme jäässä ja hymyilemme hyyssä,
me sorrumme ypö-yksin sydän-yön syyssä.
Me tahdomme nähdä, mikä on Manan mahti.
Me lienemme luomakunnan kunniavahti.
On laulanta meille kuin illalle rusko:
me suitsuamme yössä, vaikka sammui jo usko.
Из сборника «Заморозки» / Halla
(1908)
ЭЛЕГИЯ
Вот и умчалась
молодость буйной рекою.
Нити седые
тянет иглой золотою
жизнь. И напрасно
былую оплакивать резвость —
уж ни вино мне
больше не в радость, ни трезвость.
Все позади.
Гордых замыслов, очарований
время прошло..
После долгих бесплодных скитаний
я воротился.
Что ж – снова искать свою долю?
Нужно так мало
миг без тоски и без боли.
Знаю – в могиле
отдых дозволен поэту:
странникам вечным
места покойного нету.
Северик дышит,
солнце – за тучей густою.
Отблеск закатный
напрасной томит красотою.
Горе, как море,
снов острова затопило.
Нищим проснулся:
видно, с лихвой уплатил я
выкуп за песни.
За золото грез и мечтаний
долг отдавал я
звонкой монетой страданий.
Как я устал!
Ах, до сердца глубин сокровенных!
Утлому судну
груз не по силам, наверно…
Или не силы
даны мне, а только желанья?
Бой без победы,
моления – без упованья?
Значит, напрасно
злую сносил я обузу?
Зря корабли сожжены,
дорогие разорваны узы?
Я ли раскаюсь
в исканьях своих неустанных,
боль ощущая
в давно затянувшихся ранах?
Перед всевластной
судьбою склоняюсь в бессильи.
Кантеле смолкло,
у звуков оборваны крылья.
Холодом веет…
Песням я больше не верю.
В уединенье
ползу умирающим зверем.
ELEGIA
Haihtuvi nuoruus niinkuin vierivä virta.
Langat jo harmaat lyö elon kultainen pirta.
Turhaan, oi turhaan tartun ma hetkehen kiini;
riemua ei suo rattoisa seura, ei viini.
Häipyvät taakse tahtoni ylpeät päivät.
Henkeni hurmat ammoin jo jälkehen jäivät.
Notkosta nousin. Taasko on painua tieni?
Toivoni ainoo: tuskaton tuokio pieni.
Tiedän ma: rauha mulle on mullassa suotu.
Etsijän tielle ei lepo lempeä luotu,
pohjoinen puhuu, myrskyhyn aurinko vaipuu,
jäa punajuova: kauneuden voimaton kaipuu.
Upposi mereen unteni kukkivat kunnaat.
Mies olen köyhä: kalliit on laulujen lunnaat.
Kaikkeni annoin, hetken ma heilua jaksoin,
haavehen kullat mieleni murheella maksoin.
Uupunut olen, ah, sydänjuurihin saakka!
Liikako lienee pantukin paatinen taakka?
Tai olen niitä, joilla on tahto, ei voima?
Voittoni tyhjä, tyon tulos tuntoni soima.
Siis oli suotta kestetyt, vaikeat vaivat,
katkotut kahleet, poltetut, rakkahat laivat?
Nytkö ma kaadúin, kun oli kaikkeni tarpeen?
Jähmetyn jääksi, kun meni haavani arpeen?
Toivoton taisto taivaan valtoja vastaanl
Kaikuvi kannel; lohduta laulu ei lastaan.
Hallatar haastaa, soi sävel sortuvin siivin.
Rotkoni rauhaan kuin peto kuoleva hiivin.
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
Скользка, словно лыжа на повороте,
крепка, словно смертные ворота,
горька, словно пламя костра лесного,
сладка, словно вкус молока парного,
игрива, словно листок осины,
мрачна, словно холм посреди трясины,
сурова, словно волна седая, —
вот так любит женщина молодая.
NUORI NAINEN
Liukas niinkuin lumella suksi,
kova niinkuin kuolon uksi,
kitkerä niinkuin kiukaan lieska,
makea niinkuin maito ja rieska,
leikkivä niinkuin lehti haavan,
ankara niinkuin aalto aavan,
synkkä niinkuin suossa vuori:
niin on lemmessä nainen nuori.
ТА – ЭТА
Эта себя мне навек отдала,
та – ничего не дала мне.
И все же себя навек отдаю
той, что ничего не дала мне.
Эту я мучил, терзал до смерти,
а та – меня истерзала.
И все же любить я буду до смерти
ту, что меня истерзала.
Та – раздувает огонь жестокий,
эта – молча сгорает.
И все же брошусь в огонь жестокий —
молча любовь сгорает.
TOINEN – TOINEN
Toinen kaikkensa minulle antoi,
toinen ei antanut mitään.
Ja sentään kaikkeni hälle ma annoin,
joka ei antanut mitaan.
Toista ma kiusasin kuolohon saakka,
toinen kiusasi mua.
Ja sentaän lemmin ma kuolohon saakka
häntä, ken kiusasi mua.
Lietsovi toinen liekkiä julmaa,
toinen vaieten palaa.
Ja sentään seuraan ma liekkiä julmaa —
rakkaus vaieten palaa.
ВЛАСТЬ ВЫБОРА
Выбирать другие властны,
мне же это не дано;
по путям бродил я разным —
был собою все равно:
делал то, к чему назначен,
не исполнил, что не смог…
Вот и сходит вечер мрачен —
наступил затишья срок.
Над моим могильным кровом
я прошу вас написать,
что душе моей суровой
и судьба была под стать:
«Сам кремень, я высек пламя,
тем огнем пылал я весь,
догорел дотла стихами
только черный пепел здесь».
VAALIN VALTA
Muilla olkoon vaalin valta,
muir ei ollut milloinkaan;
kuljin yltä taikka alta,
itseäni täytin vaan;
minkä tein, mun tehdä täytyi,
mit’ en tehnyt, voinut en;
vihdoin ilta hämärtaytyi,
lankes hetki hiljainen.
Pankaa patsas haudalleni,
kivpen tama kirjoitus:
«Synkkä niinkuin sydämeni
oli mulle sallimus.
Itse iskin piista tulta,
sytyin, hehkuin tuokion,
paloi paras laulu multa,
tässä tuhka tumma on.»
Из сборника «Звездный сад» / Tähtitarha
(1912)
МЫШЬИ я в Аркадии родился…
HURI
Сперва он был крохотной мышкой театральной,
потом пошустрил по путям провинциальным.
В его исполнении Мефисто и Христы
имели похожие мышиные хвосты.
Но его прельщала Мольерова лира
(хоть сам был Создателя лучшая сатира).
Он бабьими сплетнями занялся и политикой
и по ним взобрался до роли критика.
«Коль гора зачала меня…» – вот мышиная логика, —
«Не родить ли мне гору?» – вот мышиная трагика.
Auch ich bin in Arkadia geboren
Hän ensin oli pikkuinen teatterihiiri,
sitten hän maaseudun maanteitä kiiri.
Näytti siellä Kristukset ja näytti Mefistot:
samat oli kummallakin hiiren takalistot.
Mut Molièreksi se pyrki pieni hiiri,
kun ilse oli Luojansa ihanin satiiri.
Siks alkoi hän akkojen juoruja juosla
ja kritikasteriksi jo kiipesi tuosta.
«Kun vuoret mun siitti» – se oli hiiren logiikka
«niin minä miks en vuorta?» – Se oli hiiren tragiikka.
КЮЛЬТЮРА
(на хельсинкском диалекте)
«Кюльтюра! Кюльтюра! Кюльтюра!»
Кудахчет здесь каждая юора.
Но что же такое – кюльтюра?
Смотря какова конъюнктюра…
Одному это – литератора,
А другому – круизы и тюры,
Айседоры Дункан фипора
Или Вагнера партитюра.
Разношерстная штука – юольтюра:
Это грекам – Акрополь, скульптора,
Только финская наша юольтюра —
На все это карикатюра.
KYLTYYRI
(Heisingin murteella)
«Kyltyyri! Kyltyyril Kyltyyri!»
Tuo huuto on Suomessa syyri.
Mut mikä se on se kyltyyri?
Kas, siinäpä pulma on jyyri.
Se on yhdelle ооррега-kyyri,
taas toiselle Tukholma-tyÿri,
Duncan, Forssellin figyyri
tai Parisin polityyri.
Tuhatkarvainen on kyltyyri —
se on Kiinassa Kiinaan myyri —
mut Suomessa Suomen kyltyyri
tuon kaiken on kamkatyyri.
Из сборника «Красота жизни» / Elämän koreus
(1915)
* * *
Летний вечер. Нежный ветер
На холме вздыхает,
Серебром тропу лесную
Месяц украшает.
Легкий сон стволы колышет,
Кукушечка кличет…
Спит печаль. Шагает странник
Тишиной привычной.
* * *
Suvi-illan vieno tuuli
huokaa vaaran alta,
hongikon polkua hopeoipi
kuuhut taivahalta.
Hiljaa huojuu korven honka,
kaukana käkö kukkuu,
vaieten astuvi vaeltaja,
mielen murhe nukkuu.
ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ
Той синице, резвой птице,
был мороз привычен,
но ей в дом мечталось, к печке,
в тепло человечье.
Та красавица канарейка
из уютной клетки
все мечтала прочь – на воле
распевать на ветке.
Были влюблены друг в друга,
в чуждый мир прекрасный.
Та синица, резвая птица,
за окном сидела
и в оконницу стучала:
в горницу попала…
Та красавица канарейка
зимний сад завидела
из окна – порхнула в щелку
и, на ветке сидя…
Нет, они не повстречались —
горько пострадали.
Той синице, резвой птице,
судьба – о стекло разбиться:
замертво упала.
Та красавица канарейка
примерзая к белой ветке,
с псалмом умирала.
Были влюблены друг в друга…
TALVINEN TARINA
Tuo tiainen, lieto lintu,
se hyvin vilussa viihtyi,
sentaän kaipasi sisälle,
ihmislieden lämpimähän.
Tuo kanarialintu kaunis
se hyvin sisällä hyötyi,
sentään kaipasi ulomma,
luonnon laajan laulupuille.
Toinen toistansa rakasti,
toinen toisen maailmoita.
Tuo tiainen, lieto lintu,
usein istui ikkunalle,
kovin ruutuhun koputti;
niin kerran sisälle pääsi.
Tuo kanarialintu kaunis
näki akkunan avoimen,
sen takana talvipuiston;
uskalsi ulos jo tuonne.
Tavannut ei toinen toista,
oli kuijat kumpainenki.
Tuo tiainen, lieto lintu,
iski päänsä ikkunahan,
maahan kuolleena putosi.
Tuo kanarialintu kaunis
kiinni jäätyi oksallensa,
kuolinvirtensä viritti.
Rakastivat toinen toista.
ЗАСТОЛЬНАЯ
Честь и хвала тебе, доброе брюхо!
Выпив глоток для поднятия духа,
мы благодарны Создателю очень
за дни нашей жизни, а также за ночи.
Урраа!
Славься, родная земля!
После Создателя – тост за природу:
хором восславим и землю и воду —
солнцу спасибо, спасибо луне
и за окнами отчего дома сосне.
Урраа!
Славься, родная земля!
И наконец, за цветок мирозданья
женщину, лучшее Бога созданье!
Верной любовью сразится с бедою —
будь она старою иль молодою.
Урраа!
Славься, родная земля!
Тост напоследок – за дружбу на диво,
будь перед нами вино или пиво,
вместе сильны мы и горячи,
как руки, сжимающие мечи.
Урраа!
Славься, родная земля!
PÖYTÄLAULU
Kiitos ja kunnia vatsamme hyvän,
aiomme ottaa naukun nyt syvän,
kiittäen Luojaa kaikista töistä,
niin elon päivistä kuin elon öistä.
Hurraa!
Eläköön rakas syntymämaa!
Luojanpa jälkeen nyt luonnon on vuoro,
siis sitä kohden nyt kurkkumme kuoro,
kiitämme päivää, kiitämme kuuta,
myös kodin armaban pihlajapuuta.
Hurraa!
Eläköön rakas syntymämaa!
Laulakaamme vihdoin nyt luomakunnan kukkaa,
naista, mi miestään ei heitä, ei hukkaa,
ruusuja kasvaa ne rakkauden vuoret,
olkohot vaimomme vanhat tai nuoret.
Hurraa!
Eläköön rakas syntymämaa!
Viimeinen vihdoin on veikkouden malja,
olkohon eessämme viini tai kalja,
yhdessä istuen oomme me vahvat
kuin kädet, joissa on kalpojen kahvat.
Hurraa!
Eläköön rakas syntymämaa!
Из сборника «Псалмы Святого четверга II» / Helkavirsiä II
(1916)
ПРИЗРАК МРАКА
Тролль, жестокий Призрак Мрака,
чуя солнца приближенье,
что идет с весною новой
на вершины гор лапландских,
дело черное замыслил:
«Я убью с рассветом солнце,
свет навеки уничтожу
ради вечной ночи темной,
в честь могучей силы мрака».
Тролли солнце ненавидят.
На вершине сопки встал он
рядом с северным сияньем,
усмехнулся, ухмыльнулся,
на небе пожар увидев:
«Больше, шире моя радость,
веселей мое веселье,
чем пиры богов при свете,
чем людей под солнцем песни».
А вокруг пустыня ночи.
Только льды во тьме сверкали,
как проклятья злого сердца,
да седое море стыло,
как душа в ожесточенье,
лес заснеженный вздымался
из земли смертельно твердой,
словно грозный льдяный витязь,
словно гнев холодной стали.
Засмеялся Призрак Мрака:
«Солнце, голову подымешь —
встретишь сто смертей жестоких,
многотысячную гибель!»
Слабый свет вдали забрезжил.
Вдруг почуял Призрак Мрака,
как трепещет, бьется сердце,
за голову он схватился:
«Ты куда исчез, мой разум?»
Рисовались все ясное
неба край, лесные-дали,
день все ярче отражался
в самых мрачных закоулках,
били огненные стрелы
из растущего светила,
и, встречая их. светлела
темная душа ночная:
там заря вставала и небе,
как заря у тролля в сердце,
кантеле весны звенело
музыкой в душе у тролля
вот они сплелись, сливаясь,
засверкали общим светом.
общим звуком зазвучали,
в выси горние вознесся,
сквозь небесный свод девятый
над десятым светлым небом,
будто в дом родной вернулся,
под крыло Отца Вселенной,
в тихий отдых вечной Жизни,
в океан Любви безбрежной.
Пела ночь могучим хором,
вторил день многоголосо:
«Доброе во зле родится,
красота живет в уродстве,
низкое – ступень к вершине!»
Только люди говорили:
«Тролль несчастный обезумел,
он в плену навек у света —
мрака сын, рожденный ночью,
солнцу гимны распевает!»
Небо людям улыбалось.
Больше к троллю не вернулся
ледяной холодный разум,
умер следом за зимою,
улетел с бураном вместе,
растворился в жарком солнце,
в теплой Божьей благодати.
PIMEÄN PETKKO
Tuo tuima Pimeän peikko
tunsi auringon tulevan
Lapin tunturin laelle
keralla kevähän uuden.
Mietti murha mielessänsä:
«Minä auringon tapankin,
sunnannen valonkin suuren
yön pyhän nimessä yhden,
sydän-yöni synkeinunän.»
Peikot päivyttä vihaavat.
Tuli tunturin laelle
revontulten roihutessa,
näki taivahan palavan,
hyrähti hymyhyn huuli:
«On iloni isommat, onpa
riemuni remahtavammat
kuin juhlat valon jumalten,
pidot, laulut päivän lasten.»
Yö oli aava ympärillä.
Kimmelsi kitehet yössä
kuin kirot sydämen synkän,
meri vankui valkeana
niinkuin paatunut ajatus,
kohosi luminen korpi
maasta kuolon-mahtavasta
kuin uhma urohon hyisen,
viha välkkyvän teräksen.
Tuo nauroi Pimeän peikko:
«Päivä, päätäsi kohota,
saät täältä sataisen surman,
tunnan tutkaimet tuhannet!»
Näkyi kaukainen kajastus.
Tuo tunsi Pimeän peikko
sydämensä sylkähtävän,
tarttui päähänsä rajusti:
«Minne mieleni pakenet?»
Seijastuivat selvemmiksi
taivon rannat, korven kannat,
heijastuivat heljemmiksi
synkeät sydänsopukat,
suihkuvat tuliset nuolet
päivän päästä nousevasta,
sattui vastahan vasamat
yöstä mielen vaJkenevan;
sini koitti päivän koitto
kuni peikon sielun koitto
sini soi kevähän kannel
kuni peikon hengen kannel,
yhtyi toinen toisiliinsa,
säihkyi yhtehen sätehet,
sointui yhtehen sävelet,
nousi kohti korkeutta
puhki taivahan yheksän,
yli kaaren kymmenennen,
kunnes saapuikin kotihin,
korkeimman Isan ilohon,
Elon lempeimmän lepohon,
Rakkauden rajattomimman.
Kuului kuoro yon povesta,
riemu päivän rintaluista:
«Pahin on parahan synty,
rumin kauneimman kajastus,
alin vain ylimmän aste.»
Mutta ihmiset sanoivat:
«Tuo on peikko mielipuoli,
vanki valkeuden iaisen,
itse poikia pimeyden,
päivän virttä vieritavi!»
Heille taivahat hymyili.
Eikä hän ikina saanut
enäa jäistä järkeänsä,
kuoli pois keralla talven,
syöksyi veljenä vihurin
sydämehen päivän pätsin,
leimuhun Jumalan lemmen.
Из сборника «Бивачные костры» / Leirivalkeat
(1917)
ВЕЧЕРНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
День уходит за чащи,
воду озолотив,
тростник позолотой блещет,
и остров, и тихий залив.
Ах, сердце тревожное, если
здесь найти бы покой —
не знать бы воспоминаний,
надежды не знать никакой!
А это закатное злато
в душевных скрыть тайниках
и стать самому себе чуждым,
как блеск воды в тростниках.
ILTATUNNELMA
Taa korpien päivä painuu,
vesi kultana kimmeltää,
mut kultaisempina kaislat
ja salmet ja saaren pää.
Ah, rinta rauhaton, jospa
levon täältä se löytää vois
ja muistoistaan jos pääsis
eik’ ollut toivoja ois!
Tuon auringon kullan kenpä
vois kätkeä sydämeen
ja itselleen olla outo
kuin kaislat ja välke veen!
Из сборника «Печаль Шемейки» / Shemeikan murhe
(1924)
ДИТЯ ИЮЛЯ
Я тоскую, я жить без любви не могу
моя мать такой нежной была.
И к любви я тянусь, как дитя к очагу,
я так жажду любви и тепла!
Я продрог на холодном чужом берегу,
куда буря меня занесла.
Только мрачные псалмы рождались в мозгу,
когда в горе душа замерла.
Я июля звонкого светлый сын,
мне лишь ясное нёбо – отрада.
Я не вынесу злобой сведенных личин,
ледяного недоброго взгляда.
Я люблю напевы зеленых долин,
а не горного ветра рулады.
HEINÄKUUN LAPSI
En ilman ma lempeä elää voi,
mun äitini oli niin hellä.
Minä halajan lempeä, lämpöä, oi,
ja lemmessä lämmitellä.
Minut vihurit vieraille rannoille toi.
Vilu täällä on väijötellä.
Vain virret kolkot mun korvaani soi,
suru kun on sydämellä.
Olen lapsi mä heleän heinäkuun,
minä kaipaan kaunista säätä.
En kestä ma ivaa ilkkuvan suun,
en karsahan katseen jäätä.
Minä rakastan laulua laakson puun,
en tunturin tuulispäätä.
Проза
КОСОЛАПЫЙ
Рождественская история для старых и малых
ЮНЫЙ МИШУТКА
Как-то раз на исходе зимы господа с железнодорожной станции отправились на медвежью охоту.
Охотники подобрались самые разные, и с рогатинами, и с ружьями, был даже некий господин в очках из Хельсинки – поскольку кроме добычи медведя предполагалось заснять серию кадров для «Живых картин»[11]11
«Живые картины* – так иа заре кинематографии называли в Финляндии кино.
[Закрыть].
Проводниками были местные лыжники, которые загодя берлогу топтыгина обложили и потом за много сотен марок господам продали. Но, хотя вознаграждение уже было им обеспечено, они в своем воодушевлении отнюдь не отставали от остальной компании.
Ехали на десяти упряжках, сперва широкими проселочными дорогами, потом все сужающимися лесными тропами. К концу пришлось остановить лошадей.
Проворно встали на лыжи и подошли к медвежьей берлоге.
Вон она, на склоне под выступом скалы, в самом что ни на есть густом буреломе.
Окладчики указывали на нее лыжными палками. Спустили собак, выстроились полукругом перед входом в берлогу.
Улюлюкают, рогатинами тычут – не выходит топтыгин.
Собираются уже костер под берлогой раскладывать. Но тут вдруг снег вздымается столбом в воздух – и вот он, царь леса, перед ними.
Глухо взревев, встает на задние лапы, бросается на лес рогатин и ружей. Падает. Киношник захлопывает свой аппарат, и дело сделано.
Но еще не совсем. Окладчики, по-прежнему воодушевленные больше всех, уверяют, что добыча на этом не закончилась.
– Там еще, там еще что-то есть! – твердят они, указывая на вход в берлогу.
Поскольку господа вроде бы не верят, один окладчик решительно скидывает тулуп на снег и ползет внутрь берлоги с ножом в одной руке и электрическим фонариком в другой.
Остальные напряженно ждут.
– «Хлююупиуп!» – слышится вдруг взвизг из берлоги.
– Ну что? Ну что? – вздрогнув от неожиданности, кричат охотники. – Есть там кто-нибудь?
– Медвежонок тут. Зыркает из угла, точно цаца какая.
– Живым возьмешь или подсобить?
– Да живьем возьмем.
Взяли его живым. Триумфальным шествием возвращались домой – старый медведь на носилках, маленький – в санях под пологом.
Вечером устроили торжественные поминки по старому лесному царю. И зашел у господ за столом разговор о судьбе юного Мишутки, который для поднятия праздничного настроения лежал в углу залы в большой корзине, посаженный на собачью цепь с ошейником.
– Мне там, в Хельсинки, с ним делать нечего, – объяснял очкастый. – Можете держать его здесь, в глуши, в свое удовольствие.
– Наверное, с ним хлопот не оберешься? – осторожно спросил начальник станции, высокий, худой, строгого вида господин.
Но младшие помощники, у которых Мишутка уже успел попасть в любимцы, уверяли, что от Мишутки не будет в доме никакой помехи и что они с удовольствием поселят его на своей половине.
– Ну тогда ладно! – решил начальник станции. – Пускай пока остается у нас. Ведь его можно и потом пристрелить, если он начнет… того… слишком буйствовать.
Мишутка остался в доме и понемногу привык к людям.
Вначале в его мозгу было не так уж много четких мыслей. Только смутные воспоминания о каком-то темном и мягком месте, откуда его внезапно выдернули в слепящую белизну.
Прежде всего ему хотелось есть и пить. Но еще много дней он есть не умел, хотя перед ним и клали разные лакомства. Молоко и мед он все-таки попробовал.
– Да он еще станет настоящим косолапым! – смеялся телеграфист, молодой веснушчатый студент, похлопывая медвежонка по спине. – Ему только сладенькое подавай!
– Из Мишутки вырастет мужчина, – подхватил бухгалтер, пухлый красноносый господин, посмеиваясь над ним. – Скоро он и выпивать начнет!
– А что, станет он водку пить?
Этот вопрос разрешили быстро. Залили Ми-шутке в глотку рюмку, и он сразу же после того, как, кривясь, проглотил, высунул язык и попросил еще.
– Гляди-ка, постреленок! – смеялись господа. – Ну, на этот раз хватит тебе.
Мишутка пробыл всю весну и лето у станционных господ.
Скоро для него не требовалось больше ни цепочек, ни ошейников. Он научился понимать свое имя и приходить на зов. Он научился забираться на колени и давать играть с собой. Знал, что за это всегда получит молока, меду или сахару.
Водки ему перепадало лишь изредка, когда у них бывали в гостях господа из деревни. Но тогда ему приходилось показывать свои лучшие штуки.
Тогда он танцевал1 Становился на задние лапы и уморительно кувыркался, а все гости просто помирали со смеху.
Отчасти он делал это нарочно, заметив, что веселит гостей, и зная, что этим заработает новые лакомства. Отчасти же крепкий напиток действовал на него таким образом, что он ощущал внезапный прилив радости, а лапы сами собой отрывались от земли.
Вскоре он стал любимцем всей станции и великой достопримечательностью.
Он научился самостоятельно рыскать по кухне, усадьбе и саду и отваживался даже выходить на перрон – смотреть, как принимают и отправляют поезда.
Вначале он так путался пронзительного свиста поезда, что стремглав карабкался на дерево и ни за что не хотел оттуда слезать. Но потом выучился сам свистеть и давать отмашку к прибытию и отправлению поездов, как заправский кондуктор.
Расписание поездов он тоже запомнил и всегда вовремя появлялся на перроне рядом с начальником станции.
– Придется вскорости выдать ему форменную фуражку, – смеялся начальник. – Потому что Ми-шутка – воистину пример точного исполнения служебных обязанностей.
Пассажиры разглядывали его из окон вагонов, улыбались и указывали пальцами. Через них Ми-шуткина слава распространялась все шире.
Однажды ему выпала честь быть представленным самому директору путей сообщения.
– Я слышал, что у вас тут есть ручной медведь? – спросил важный господин, перед которым начальник станции стоял, почтительно склонив голову. – Можно на него взглянуть?
– Господану директору достаточно лишь свистнуть!
Важный господин свистнул, и Мишутка тут же примчался во двор с берега, где он в это время играл с ребятишками.
– Ну, ты подлинный косолапый! – сказал важный господин, протягивая ему руку в перчатке. – А умеешь ли ты говорить «Здравствуйте»?
– Да, – ответил начальник станции, повелительно махнув Мишутке, который сразу же уселся на задние лапы, внимательно глядя своими маленькими круглыми глазками то на одного, то на другого.
– Здравствуй, здравствуй, кум! – засмеялся важный господин, здороваясь с ним обеими руками. – Мы будем добрыми знакомыми. Не отправишься ли со мной в Хельсинки?
Мишутка помотал головой, потому что некая упорная муха как раз забиралась к нему в ухо.
– Не поедет Мишутка в Хельсинки, – улыбнулся начальник станции. – Ему здесь, в глубинке, больше нравится.
В тот вечер Мишутка опять должен был продемонстрировать свои лучшие номера. Начальник путей сообщения уехал на следующее утро, и преданный Мишутка попрощался с ним на перроне.
Были от него в хозяйстве и развлечение, и польза. Яблочные воришки, которых он кусал за ноги, совсем перевелись, и деревенские мальчишки исчезли с репных грядок.
– Там медведь, – перешептывались они. – Какой сумасшедший станет с медведем тягаться?
Как-то Мишутка задержал на перроне подвыпившего мужика с ярмарки и вырвал у него баклагу с водкой. В тот раз все насмешники приняли его сторону.
Но прямо-таки героическую славу он снискал, когда спас маленькую хозяйскую дочку, которая свалилась с мостков в озеро и которую Мишутка бережно вытащил на твердую землю.
Тогда про него написали в местной газете. Оттуда новость перешла в хельсинкские газеты, откуда ее по получении почты с большим восторгом ему зачитали; при этом Мишутка отнюдь не казался смущенным таким вниманием. Все женщины в доме его просто боготворили. Мишутка же ходил за ними по пятам, потому что знал, разумеется, у кого находятся ключи от кладовых и амбаров.
Но когда бывали гости, он непременно стремился в компанию господ, делая это по старой привычке как нечто само собой разумеющееся, так что ни о каких возражениях и речи быть не могло. Да ему никогда и не запрещали туда ходить.
Мишутке нравились все обитатели дома, кроме веснушчатого телеграфиста, который однажды подбил его разворошить осиное гнездо.
– З-з-з, – сказал он и указал Мишутке на щель в коровнике между фундаментом и досками обшивки, откуда сыпались опилки. – Что это?
Мишутка приложил ухо к опилкам и услышал там, внутри, подозрительное жужжание.
– Мррр, – сказал он и принялся колотить по доскам и месить опилки передними лапами. Потом сунул туда свою мордочку.
Этого ему не следовало делать. Потому что осы вылетели, набросились на него и ужалили в самый кончик носа, так что Мишутка взвыл от боли и помчался по двору как помешанный.
Морда у него так распухла, что Мишутка и сам, увидев себя в зеркале, почувствовал, что выглядит совсем по-дурацки.
С того времени он затаил неприязнь к телеграфисту. И сладостной была его месть, когда однажды в лесу на пикнике ему удалось вывалить на голову ничего не подозревавшего бедолаги целый муравейник. И опять насмешники были на его стороне.
Но телеграфист, которому пришлось стремглав бежать домой и раздеваться у себя в комнате догола, пригрозил когда-нибудь его убить, и к этой угрозе начальник станции на полном серьезе присоединился:
– Его, пожалуй, надо-таки прикончить, до того как наступит зима. Сделается скоро слишком большим и буйным.
Много разных проказ устраивал Мишутка. Но прежние немалые заслуги до поры до времени засчитывались в его пользу.
Он снял тяжелую садовую калитку со столбиков, и поскольку петли не сразу поддались, он выдернул и сами столбики и отнес их в озеро, так что куры зашли и разворошили лучшие цветочные клумбы.
Он залез без спросу в буфет и слопал только что сваренный ягодный джем.
Он взобрался на рабочий стол в станционной конторе и опрокинул бутылку чернил на важные грузовые накладные.
Он стащил новую фуражку с головы железнодорожника, когда тот недостаточно быстро его поприветствовал, разорвал ее и забросил клочки на крышу станции.
Он погнул новую пенковую трубку бухгалтера, хотя тот только в шутку выдохнул дым ему в глаза.
Он убил хозяйскую кошку.
Он чуть было не спалил сауну, где дверь оставили открытой и куда он самовольно забрался повозиться с головешками.
Вообще-то он всякий раз получал взбучку, после чего ходил несколько дней насупившись. Но потом про наказание забывал и опять готов был на какую-нибудь новую проделку.
Одних и тех же безобразий Мишутка никогда не устраивал дважды.
Ему хватало одного раза, и после того он уже знал, в чем дело. Но он всегда придумывал что-нибудь новое, потому что в нем гнездились природное любопытство и живой интерес ко всему на свете, и они были неискоренимы.
Последнее безобразие, которое Мишутка учинил станционным господам, чуть было не стоило ему жизни. Во всяком случае, она приняла совершенно иной оборот.
В один прекрасный день он вскарабкался на крышу станции и принялся, к великой радости ожидавших поезда пассажиров, раскачивать дымовые трубы. Навалился, как настоящий борец, и отломил-таки большой кусок трубы.
– Мишутка! Слезай оттуда! – повелительно сказал железнодорожник снизу.
Мишутка счел £то заслуженной похвалой своему подвигу и с удвоенной силой налег на противника. Привет! Труба повалилась и с грохотом упала вниз; кирпичи разлетелись в разные стороны, и один угодил в спину начальнику станции, который как раз вышел из своей служебной комнаты встречать поезд. Хорошо хоть не по голове!
Но на крыше посреди кирпичной и глиняной пыли в победном упоении стоял Мишутка и ждал признания. И оно не замедлило явиться, хотя и в совсем иной форме, чем он предполагал.
– Убить его надо, этого зверя! – заорал начальник станции. – Он скоро весь дом разнесет!
Но тут прибыл поезд, и у него больше не осталось времени думать о Мишутке. Зато телеграфист сразу же отправился заряжать ружье.
Мишутка тем временем приступил к другой трубе.
– Сию же минуту его прикончить! – сказал начальник станции угрожающе.
Поезд отправился, а толпа пассажиров осталась на перроне подивиться на небывалое зрелище. В это время пришел и телеграфист со своим штуцером.
– Я ведь еще летом говорил, – заметил он, – что надо его пристрелить. Но тогда его все защищали, и дядя тоже…
– Я тогда еще не знал его повадок, – отвечал начальник станции, потирая лопатку, по которой шарахнул кирпич. – Но теперь говорю: давай стреляй!
Телеграфист стал прицеливаться. В окнах дома показались заплаканные физиономии детей и женщин, которых начальник станции безжалостно оттуда прогнал.
Бабах! – грохнул выстрел. Но он попал в трубу, над которой как раз трудился Мишутка. И привет! Она тоже с громыханием рухнула вниз.
В публике смеялись. Телеграфист побагровел от стыда и злости.
– Второй раз не подведешь! – прошипел он и прицелился снова. – Когда солнце прямо в глаза…
Но Мишутка уже целиком завоевал сочувствие публики. На голову бедного телеграфиста градом посыпались насмешки.
– Тоже нашелся охотничек, вроде как в белку стреляет! – сказал один.
– Хватило бы и солью пальнуть! – съязвил другой.
А третий, низкорослый, высоколобый, с набрякшими веками мужичок, подойдя с картузом в руке к начальнику станции, серьезно произнес:
– Не подарит ли инспектор его мне? Ведь жалко его убивать, коли он, как я слыхал, однажды даже дочку управляющего из озера спас.
– Ты кто такой? – рявкнул начальник станции.
– Да я тот самый Матги Проделкин, коли инспектору когда-нибудь доводилось видеть на свадьбах или крестинах. Я даже и шкуру оплатил бы…
– И трубы на место поставишь? – прикрикнул начальник станции.'
Но телеграфист, которому солнце опять било в глаза, совал Матти ружье, злобно тыча его тому под самый нос.