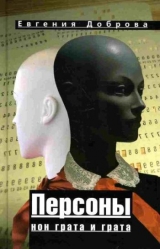
Текст книги "Персоны нон грата и грата"
Автор книги: Евгения Доброва
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
СЛЕДЫ НА МУКЕ
Телефон зазвонил в сумочке. Я долго нащупывала его среди дисконтных карт, расчесок, косметики и прочей дамской ерунды. Пока искала, думала, что не успею ответить. Но телефон все звонил, и звонил, и звонил…
– А помнишь, как мы с тобой куличики из песка пекли? – спросила бабушка.
Это была «мамина» бабушка, Валя, ее я любила.
– Пекли, дорогая, пекли.
– Ты маленькая была совсем, мы сидим во дворе перед домом… Любила ты эти куличики печь…
– Любила, дорогая, любила.
– Что случилось? – шепотом спросил Богдан; со стороны наш разговор, вернее, те реплики, что он слышал, и впрямь выглядели странно.
– Бабушка решила умереть, прощается.
– Твой Богдан, он мне нравится…
– Хорошо-хорошо, только не волнуйся…
Мы едем в маршрутке из Петергофа в город. Субботний вечер, садится солнце, шоссе почти пустое. Шофер включил музыкальную радиостанцию, опустил на глаза темные очки, гонит лихо, за сто километров в час. Женщина напротив слышит наш разговор, отводит глаза.
Никаких куличиков я не помню. Помню морячка. Это был штоф, фарфоровый, трофейный, о шести крючьях по рукам и ногам, на которых висели маленькие белые чарочки. В бескозырке у него была пробка, а в руках он держал бутылочку, наискось, как младенца, и из ее горлышка следовало наливать содержимое. Почему-то морячок не прижился в хозяйстве, и бабушка отдала его мне играть. Я помню, как сидела возле угольного сарая и пересыпала из чарочки в чарочку сырую землицу. Удивительно, но ни одна из них не кокнулась, морячок о шести крючьях по рукам и ногам до сих пор стоит в серванте при полном параде.
Бабушка умерла в жару, в конце августа. Она ничем не болела. Как всегда, ухаживала за грядками в огороде. Вдруг стало плохо с сердцем, приехала «скорая» и забрала ее в больницу. Тут-то она мне и позвонила – на мобильный, за тысячу километров.
Когда я вошла в калитку, застала райскую картину: по всему участку буйно цвели астры и хризантемы, поспели наливные яблоки, то был особый сорт, бабушка ими гордилась. Над городком разливался колокольный звон. В доме хозяйничали родственники, все окна, двери были нараспашку.
Она умирала десять дней, в больнице, находясь в полном рассудке. Умерла с третьего раза: дважды останавливалось сердце, она уходила, а потом опять приходила. С бабушкой все это время сидела мама. Я спрашивала:
– Ну что, что там?
А бабушке в это время – когда она, в общем-то, была мертва – виделось, что она в городе своего детства, причем тоже в больнице, и ей плохо. («Это она там рождалась», – предположил Богдан.) И никакой черной дыры, ангелов, Господа Бога и тому подобной мифологии. Профессор Моуди был бы разочарован.
Меня тогда поразило то, что она уходила два раза – и ничего не обнулилось в сознании. Ничего!
На окне в вазе стояли цветы, ее собственными руками выращенные астры, в палату их приносила мама: красные, желтые и фиолетовые. В тот день у нее в первый раз остановилось сердце. Прибежали реаниматологи, приложили электрошок, сердце опять завелось.
Бабушка открывает глаза, видит букет в квадрате окна:
– А, цветочки… Помню… а что у меня грудь так болит?
– Тебе делали массаж, – отвечала мама и совала в халаты врачам сторублевки.
По-настоящему она умерла, когда до больницы наконец-то доехал сын. Я не знаю, что она ему сказала, наверное, то же, что и маме: «Я вами довольна…»
Мы поехали на кладбище, стояла жара, кладбище оказалось душистой лесной поляной километрах в десяти от городка. Кортеж остановился на обочине, и тут подошли они. Землекопы. Два молодых парня, не старше двадцати – двадцати двух. Я впервые видела таких людей в таком месте и за такой работой. Поразительно, это были красавцы, отборные человеческие экземпляры, раздетые по пояс. Мама передала им деньги, и парни стали подгонять могилу под гроб. Я стояла у самого края и видела, как играют их мускулы, как блестят на солнце загорелые торсы… Коричневые, бронебойные. Лемуры из «Фауста». Но огулять их никак нельзя, можно только смотреть с близкого расстояния, возбуждаться и ужасаться.
Нашей стороной кладбище примыкало к еловому лесу, в чаще куковала кукушка. Долго уже, лет на сто накуковала точно, подумала я, а еще подумала, что хорошее кладбище, такое спокойное и лесное, что мне здесь нравится, я бы на такое согласилась.
Бабушку подхоранивали к деду. Он тоже умер в пору цветения и благоденствия – ровно три года назад. Тогда могильщики были самые обыкновенные, неудачливые пьющие мужики, местная протерь. Пока они копали, бабушка сидела на стульчике возле гроба и смотрела на деда. Мама подошла поправить складки на его костюме.
– Господи, какой холодный!
– Конечно, холодный, он же из холодильника, – сказала бабушка.
После погребения долго не расходились, сидели на могилке и поминали.
– А это твое местечко, – обратилась к бабушке тетя Нюра и указала на невскрытый участок земли внутри нашей ограды.
– Да-а, – с кокетливой интонацией, протянув это «а-а» на терцию вверх, ответила бабушка. В углах ее рта витала улыбка.
Парни дружно копали, работали словно под счет, как заводные. В общем-то, яма была давно готова, но этого требовал ритуал – еще немного подровнять при близких. Мы стояли и смотрели на влажную коричневую глину. Могила казалась маленькой и аккуратной.
– Норка, – сказала мама. – Ну вот, тебе будет уютно, как в норке.
Никто не ответил, родственники молчали. Тишину взрезала трель – у одного из могильщиков в кармане зазвонил мобильный. Он отложил лопату.
– Да, пап, – сказал он. – Зайдешь сегодня? Давай. Спасибо, пап. Я сейчас занят, я тебе перезвоню, пап.
И снова взялся за лопату. Совсем молодой и очень сильный. Наливное яблочко. «И эти плоды сгниют…» От таких мыслей мне стало не по себе. Встряхнула головой, чтобы отогнать дурман.
Норка тем временем углублялась и удлинялась.
– Готово, – сказал один из парней. – Все попрощались? Опускаем?
– Опускайте, – ответила мама.
В четыре руки парни быстро заколотили крышку. Покачиваясь, гроб плавно опустился на дно. «Как пианино, на ремнях…» – подумала я. Парни ловко выдернули стропы обратно. В разверстую могилу полетели комья земли. Однажды мне попалось сравнение: звук падающей на крышку гроба земли напоминает стук пересыпающейся картошки. Похоже.
Еще когда мы ждали на обочине и гроб стоял возле фургона на табуретках, дядя наклонился поцеловать бабушку в лоб, а потом долго тер платком губу, как будто испачкал ее чем-то несмывающимся. Теперь этот холод останется с ним на всю жизнь, а губа обретет особую чувствительность как точка соприкосновения. А я до сих пор жалею, что не решилась тогда потрогать ее. Не поцеловать, нет, – потрогать.
Поминки были в кафе «Лагманная», собрались все соседи. После первой перемены блюд мы с мамой пошли в уборную.
– Такие дела, – сказала мама, – такие дела…
– Еще неизвестно, как мы будем помирать.
– Да, – сказала она. – Да. У нее все было.
Она не дожила одного года до 60-летия Победы. Коробка с медалями и единственным орденом хранилась в серванте, нам, внукам, разрешалось с ними играть. Еще она очень любила шить платья. Каждую осень ездила на курорт в Кисловодск. В дни хорошего настроения пекла пироги с капустой и луком. Интересно, знает ли бабушка, что она умерла?
Пасха выдалась ранняя, седьмого апреля. Я стояла у окна и смотрела, как в церковь несут святить куличи.
У нас тоже был припасен большой, залитый глазурью изюмный кекс, только не освященный, а прямо с полки супермаркета.
Звонок раздался совершенно неожиданно. Поздравлять будут, – подумала я и сняла трубку.
– Здравствуйте, техническая служба телефонной станции вас беспокоит. – Судя по голосу, молодой совсем мальчик. – Это номер ххх – хх – хх?
– Да, совершенно верно.
– У вас с аппаратом все в порядке? Вам не может дозвониться абонент.
– Все в порядке. Трубка лежит на базе… А какой абонент? Скажите кто, а мы перезвоним.
– Сейчас… – на том конце провода зашелестели бумаги. – Вот. Валентина Ивановна.
Единственная Валентина Ивановна, которую я знала в жизни, была моя бабушка.
– Конечно, не может дозвониться, – сказала я, – она же уже умерла.
И, не дожидаясь ответа, повесила трубку.
– Что ты людей пугаешь!
Это Богдан услышал из своей комнаты разговор.
– Я не пугаю, я говорю как есть.
Такой вот пасхальный звонок. Бабушка, если хочешь, приходи ко мне ночью во сне, я всегда рада тебя видеть.
…Бабушка стояла у плиты и жарила макароны с докторской колбасой. Я сидела за столом, на своем любимом месте слева от окна. На подоконнике выстроились чайные стаканы с прорастающим луком, в блюдце лежал начатый лимон. У порога из миски ела рыбное варево кошка Фроська. Бабушка сняла с плиты сковородку, поставила на стол, подложив под низ старую газету. За чем-то вышла в терраску, вернулась.
Я подумала: это в каком же мы времени? До или после?
Подхожу, трогаю за руку. Рука теплая. Значит, еще до.
Нет, она мне ничего не сказала. Вообще ничего. Я просто потрогала ее за теплую руку.
Посещают ли души умерших свои дома, проверяют, рассыпая на полу муку тонкого помола. Об этом я прочитала в одной старой книжке, посвященной народным суевериям. Мысль о муке, вернее о бабушке, занимала меня несколько дней.
В годовщину со дня ее смерти я сходила в маленькую булочную на соседней улице – пока шла, мне вдруг открылось, что тротуар на ней вымощен красным кирпичом, уложенным елочкой; раньше я этого почему-то не замечала – и в бакалейном отделе купила пачку самой лучшей пшеничной муки. Родственники после поминок разъехались, мама спала в терраске, куда вел отдельный вход. Дождавшись, когда она уляжется, я обошла дом. Он состоял из двух смежных комнат, маленькой и очень большой. К маленькой примыкала кухня, а с большой граничила терраска.
Все вещи были на своих местах – часы, статуэтки, вазы. В углу большой комнаты мерцал резной витриной сервант, следом за ним стоял вместительный гардероб с зеркалом во всю створку. Швейная машинка «Чайка», круглый стол, три стула, диван-кровать, красно-синий ковер на стене… Ситцевые шторы выгорели от солнца, пора менять. «Схожу завтра в „Ткани“ на станции», – подумала я. Переступила порог маленькой комнаты – при бабушке она выполняла роль гостиной. Мебели здесь тоже было немного: книжный шкаф, телевизор на покрытом плюшевой скатертью столике, тумбочка, кушетка – и еще одна, поменьше, для гостей. В окна смотрели кусты – в начале восьмидесятых, по моде тех лет, бабушка завела черноплодку и облепиху. Рябину я любила, особенно морс, а облепиху нет, да и никто из наших не пристрастился.
Зашуршала мышь за обоями. Я вспомнила, что все это время держу в руках пачку муки. Зашла на кухню, выдвинула верхний ящик разделочной тумбы, среди столовых приборов отыскала ножницы. Какие тугие. Раздвинуть кольца удалось только двумя руками. Отогнула верхний уголок пакета, примерилась, клацнула, и он, кружась, как кленовая сережка, упал на пол. Ногой я отбросила его в угол.
На расстоянии нескольких сантиметров от пола я легонько хлопнула по пакету – из отверстия вылетело облачко муки и ровным слоем осело на половицы. Еще хлопок. Еще. Вскоре весь пол на кухне покрылся белой пыльцой. Я принялась за комнаты. Распыляя муку, я двигалась так, чтобы в итоге оказаться у своей кровати. Будильник я предусмотрительно завела на семь утра. Закончив с мукой, забралась в постель и легла. На шестьдесят пять квадратов не израсходовалось и половины пакета. Его я задвинула под кровать.
Солнце разбудило до звонка. В ту ночь мне не ничего не снилось. Я открыла глаза, приподнялась на локте. В ярком утреннем свете половицы казались покрытыми инеем. Я села, свесила ноги с постели. Тапочки стояли у изножья, я аккуратно поставила их с вечера, чтобы не шарить, а сразу попасть ногами. Обувшись, набросила покрывало, взяла с подоконника будильник, нажала отбой и пошла смотреть.
Следов не было. Поверхность муки осталась абсолютно ровной. Метр за метром я внимательно изучала пространство. Зачем-то даже заглянула под стол, приподняв кисейную скатерть. Ничего. Ни в комнатах, ни в кухне. Только одинокая цепочка моих собственных отпечатков рассекала девственную мучную гладь.
Значит, она уже не здесь. Она улетела на небо.
Я в последний раз взглянула с порога на белые половицы и шагнула в сени за веником и совком.
КЛЕТКА
Улица спасала, дождь убаюкивал, соблазняли гранитные парапеты на набережной. Блестящая полированная вода – недвижимая, металлическая. Уж вечер. Спасает и темное время суток. Пестрые цыганки в мышиных платках – толпились, топтались, в стадо сбивались, гадали. Бублики на углу. Все – в железной удавке реки, все – напряженно-стальное, нереальное, магнитящее. Сердце все выше, выше – и засело в горле. Сплюнуть бы в урну!
Дома-великаны, сужаясь кверху, раньше веселились, хохотали во все горло, а сейчас – замолкли, хмурят кругленые арочные брови…
Я: приручена, я поймана в эту клетку. Сбежать – не представляется возможным.
Все началось… С Алисы? С Алеса? – с Оленьки. Оля-оля-ля, имя-колокольчик. Мне, – маленькой, – четырнадцать лет. Это моя первая ночь в заколдованном городе, первая после десятилетнего (вечного!) перерыва – вне, вне города!
Оля жила на Ростовской набережной. Окна ее комнаты – на воду. По воде гребут водоплюйки. Дома тихо. Родителей нет (дача, пилят упавшее дерево). Небольшая трехкомнатная. Первое, что выплывает из зрительной памяти – расшитые бабушкиными мулинными нитками саше для туалетной бумаги в сортире. Туалет-ванная. Утро-вечер. Маленькая кухня: всегда сладости: родители получали заказы. Длинный коридор остро пронзал насквозь квартирины кишки.
Ее комната – навалены книги, сервант, в нем – игрушки вперемешку с непочатыми бутылками. Красные, цвета фламенко, тяжелые шторы. Стены – увешаны афишами и плакатами. Дома тихо.
Сидели на тахте. Иногда приходили на кухню. В дальней, не Олиной комнате зимовали на полу красные яблоки с дачи, каждое – завернуто аккуратно в газету, чтобы дольше хранилось. Оле было девятнадцать лет.
Рядом с Олиным домом стоял дом-фрегат. Причаливший к случайной неречной пристани бутафорский корабль – дом на углу Плющихи и одного из немногих оставшихся Ростовских – Второго Ростовского переулка. Кто жил там – они каждую ночь уплывали.
С Олей же – возвращались с сейшена, поздно, – выпадали с Киевской в ночное безлюдие, шли, полупьяные, подметаемым лихими ветрами Бородинским мостом: впереди – МИД и Смола; пугались редкие прохожие и сворачивали потихонечку в сторону от двух развеселых безумиц. А мы: размахивали бутылкою с недопитой «Тарибаной», потом – ключом выцарапывали на железном лифтовом щитке буквы: краска слезала, из букв получались слова. Заходили домой. Говорили с Олей ночами. Так прошел год. За это время я успела привыкнуть к Бородинскому мосту.
Потом…
Я променяла Олю на Алису. Алиса – мой первый шаг за реку: Алиса жила за рекой. И вот – та же ночная пустынная станция метро, пустынный проспект – тогда еще незнакомый проспект – и последние автобусы с подстраховкой для неуспевающих в виде не засыпающего ни на минуту Киевского вокзала. Место назначения – ехать далеко-далеко (так казалось), за Триумфальную арку; старинный Алисин дом (у Оли был: просто старый), извивы перил, лестница поднималась на четвертый этаж, лепнины и купидончики, гастроном внизу, многоквартирные лестничные клетки. Дверь. Квартира. Все комнаты – по одну сторону коридора (странная планировка!), комнат много, много; вперед, вот кухня… Главное «преимущество» старых домов – газовые колонки. Действительное же их преимущество было в том, что, благодаря вытяжке, родители никогда не унюхивали запаха анаши. Анаша хранилась в баночке из-под крема в секретере. В Алисином доме было хорошо ночевать…
Мы рано вставали, наскоро завтракали, одевались, Алиса снимала со стула свое любимое одеяние – тяжелую кожаную «летку», наследство, доставшееся ей от энкаведешного деда-инквизитора, накидывала ее на плечи, и мы уходили.
Утром предстоял обратный путь по проспекту, проплывали мимо, незаметно перетекая друг в друга, аристократические дома, детские миры, универмаги, аптеки, булочные…
День принадлежал центрам, а вечером, чаще даже ночью, – опять: то же полутемное, готовящееся ко сну метро, отключенные уже эскалаторы и – путь по проспекту.
Ночью – безумной ночью – мы пили у Алисы перцовку, она напевала мне свои песни. Игнорируя сон соседей, мы лабали на антикварном пианино. Мне исполнялось пятнадцать лет.
Говорили, вроде бы Алиса – талантливая скрипачка; мне же ничего, кроме ее гитарных запилов, услышать не удалось: Алиса пропила свою скрипку за год до нашего знакомства. Высокопоставленные родители просили ее постричься (пейсы, сопля, зеленые волосы…) и устроиться на работу. Она – торговала шмалью на Пушке и торжественно посылала их на %уй.
Алиса винтилась в ноги, все вены на ее ступнях были в дорожках, но руки зато были чистыми. Она писала стихи, и этого драйва хватало на десятерых. Когда я общалась с ней – в это время и я писала в день по стихотворению.
И я попалась.
Неожиданно для себя самой я была поймана ею так, что, если бы даже невольный-медиум-Алиса и попыталась нарочно, из любопытства, допустим, кого-нибудь так изловить – вряд ли бы у нее получилось это лучше, нежели со мной.
Алиса была слишком идеальна в этой спасительной для меня неправильности. Она подчиняла негласно – и была права.
Но однажды я попыталась бороться. Для самоуспокоения мне было нужно сравнять ее с остальными, заглушить все усиливающееся осознание ее исключительности, вернуть ее в человеческую реальность (к которой все-таки относилась и я) абсолютно любыми, пусть даже примитивными и постыдными средствами.
Алиса разводила кошек. И вот однажды, когда мы с ней в очередной раз ловили этих разбегающихся в разные стороны приготовленных для продажи ее самых лучших в Москве, чемпионно-медальных пушистых сибирских зверей (о, идиотизм ситуации), я внутренне решилась и, в первый раз за все время, проведенное с нею, назвала ее дурой, понятно, в контексте разбегающихся тварей. Произнесла несмело: «Дура что ли, – держи!» – как бы примеривая к ней это слово.
Она его одевать не стала.
На следующий день после кошек, прощаясь со мной где-то в метро, она протянула мне руку в черной блестящей перчатке и сказала:
– Пока. Я позвоню.
И я поняла, что она не позвонит мне никогда, – но это вовсе не значило, что я стала свободна. Потому что я уже не могла обойтись без ночного метро и проспекта, без квартиры с лепным потолком и допотопной колонкой, без Алисы, без гипнотизирующих зеленых глаз, без того так любезно и так небрежно предоставленного ею мира, который быстро, слишком быстро стал и моим. Я уже не писала в день по стихотворению.
Существование Алисы где-то во вселенной все еще не давало мне покоя, когда появилась Чебурашка. Чебурашка заменила Алису – это было единственное выпадение из моей магической клетки: дело было в Царицыно. Усадьба Царицыно.
Раннее утро. Усадьба Царицыно из окна; залитые солнцем лужайки, сверкание Борисовских прудов, и лошади на высоком холме. Чебурашка. Она была ведьмой в четвертом поколении. В ее квартире всегда жило много народу, и никто из постояльцев не знал, почему ее звали как невкусную детскую пасту. Чебурашка была моей системной сестрой. Она – невероятно толстая, некрасивая и закомплексованная девица. В детстве ее ненавидели дети, и однажды, собравшись, они воплотили томившее их злое чувство в нечто большее, нежели просто слова: после уроков (начальная школа) ее изловили одноклассники, дружно задрали ей юбку – и выплеснули – прямо на колготки – флакончик краденной из кабинета химии соляной кислоты… Колготки растворились, и дальше с ней стало все ясно.
Мы побратались, а точнее, посестрились с ней кровью в какой-то из тех холодных и ясных посредизимних вечеров, когда воздух прозрачен до хруста, и звезды легки. С нами была третья сестра – Смайл, Улыбка; лезвие – только одно, ровно на два пореза: по стороне на попил. Эти попилы сделали Смайл и Чебурашка, я же тупым пилиться не захотела, и, чтобы добыть из себя каплю крови, я прокусила запястье левой руки. На улице было так тихо, что мы услышали, как, отрываясь, в моих зубах треснула кожа. Но мне было глубоко наплевать на все это: я слишком любила сестру Чебурашку.
Так я думала в детстве. Безумное детство. Моя любовь не была мне возвращена. Химическая реакция кожи с растворяющимися колготками выработала слишком много злости в зеленеющих ярко, пронизывающих, острых глазах. Там не было места для любви.
И, оказавшись, в общем-то, возле нее случайно, я безо всякого сожаления спокойно ушла. Я повторила с ней то, что сделала со мною Алиса; сказав себе: «А пошли-ка все на %уй!» – я исчезла и не встречалась с ней больше никогда. «Нет любви, есть жестокость» – крепко засело после нее в моем подсознании.
Цепочка от Чебурашки к Алесу лежала через Майка. Майк был одним из многочисленных ее гостей. Аутсайдер и рок-н-ролльщик, он пленил меня, видимо, лаковым блеском черного грифа «кремоны» и строгим военным покроем английского френча, глухой ворот которого так немыслимо шел к его странной, болезненной бледности и отчаянным темным глазам.
В это время веселая жизнь переехала на Бережковку, в экс-безвестный ДК, переделанный в клуб. Меня привел туда именно Майк, и сердце мое падало и падало в бездну, когда мы шли мимо той лавочки, где я сидела с Алисой, или когда, в ясный вечер, я могла различить, как за рекой, ровно напротив, в переливах мерцающих пятен алеет призывно окошко Олиной комнаты.
Иногда Майк там сам сэйшенил; играл он неплохо, но как-то бессильно, в этом было свое обаяние, обаяние Маленького Принца, с ним и я становилась безжизненной, слабой инфантой, – обессилевшей после разлуки с Алисой…
Собственно, и случилось-то это почти у меня на глазах. За месяц до этого, обессиленная и заплаканная, я кричала на Майковой кухне: «Он любит меня!!» – (любил меня Алес) – и пыталась схватить за рукав резко уворачивающегося от меня Майка – и глянуть ему в глаза, но Майк – крутанулся и вырвался, – а у меня сдали нервы, и я запустила в него своим мокрым ботинком, сушившимся на батарее – грубым тяжелым «вибрамом» с высокой шнуровкой и двумя железными пряжками…
В глаза я ему смогла заглянуть через месяц…
Парки при старых московских больницах, душные пыльные клумбы… В глубину расходятся тропки, затененные кронами сосен. Ближе к главному корпусу нагреваются солнцем беседки, газоны, скамейки с изящными спинками, закрученными, как завиток на грифе виолончели…
Майк умер во сне – и я никак не могла забыть потом те больничные парки и беленые вазы с настурциями… Остался еще бергамотовый запах: по утрам мы – я и Алес – привозили горячий, казалось, стоградусный, крепкий до черного чай – большую бутылку, толсто укутанную слоем газет и цветастым павлово-посадским платком, – расхотев жить, это было единственное, о чем он просил.
Майка не уберегла – впрочем, и он не смог уберечь меня. Майк доверял только Алесу – Алес украл у него самое главное… Из Москвы, от беды, от цепких кошмаров мы сразу сбежали: я укралась Алесом в Питере. И – оттяжный Санкт-Петербург… «Жизель» в Мариинском, Устинова поет в Оперетте… Низкое ультрасинее небо. Люди, загорающие на крыше Петропавловки, и ленивый шелест Невы.
Ночь на Адмиралтейской… Ночь, за которую, прямо у нас на глазах, успели бы распуститься все листья, – бесконечная, длинная ночь… Рядом, на Дворцовой площади, играл до утра одинокий саксофонист, он и теперь, говорят, приходит туда поиграть из-за хорошей акустики полукруглого каменного пространства.
Две породистые собаки сидели на выгнутом козырьке подъезда такого же породистого дома. Не боясь высоты, собаки поглядывали вниз и виляли хвостами – им было тогда интересно, как разводят мосты.
От Генштаба мы свернули на Невский и дошли до сквера перед Александринским театром… Огромное, алое солнце взошло в шесть утра над Петербургом. Оно ослепило нас, и кровь загустела в желе. И тогда мы вернулись в Москву.
А после Питера Алес снова вернул меня в клетку, невольно, даже не догадавшись об этом. Началось счастье. Опять гуляли по набережным, опять я ходила по заповедным возлюбленным улицам. И – полтора года в сумасшедшей квартире, откуда с балкона – весь город, с балкона же – виден и вход в метро, можно назначить свидание и ждать, стоя на этом балконе, – и можно курить, и нужно заниматься любовью. Балкон…
Так вот, Алес, сам того и не ведая, опять поселил меня в клетку: вышли тогда из метро:
– Алес, а где твой дом?
– А вот он.
И шли пить чайку, в арочный подъезд, лифт вез на самый-самый верх, внутри – еще арка… Поворот. Ключ. Поворот. Расставленные по годам и номерам толстые журналы на этажерке – абсолютный порядок, все ежемесячные ступеньки на корешках «Знамени» строго соблюдены, ни одного провала – первое, что бросилось в глаза. (От пола до потолка, от пола до высоченного потолка!) И рядом – дверь, вторая: черный ход, сверху – в подвал. (Там что, винтовая лестница, что ли? Вряд ли: это уж слишком; а так – тьфу, легкий мистицизм для детей…)
Легкий мистицизм сталинских домов. Пили чайку. Ночевали. Потом оказалось, что можно жить. И мы стали там жить. Вечерами Москва утопала в закатах, утрами рассветы выплевывали в мир свежесть холодных улиц. Теперь центрам принадлежал уже вовсе не день, а вечер и ночь: пешком на Арбат, на Смолу, на Калину…
Любили сидеть в кофейнях, пить джин, любили огни, фонари, купола Кремля из окна, – и семь высоток, и «Лав-стрит», уже не было «Джанга», на Арбе еще узнавали, и мир сиял.
И мир сиял. Сияла огнями Дорогомиловка, искрилась отраженными бликами Москва-река, блеском глаз освещались все улицы… до тех пор, пока… Пока не появился герой. И забыта стала тогда и Оля с Ростовской набережной, и кунсткамера сердца, занятая Алисой, перестала болеть, про Чебурашку я вспоминала только при взгляде на одноименную пасту, Алес вроде был рядом, но все же не попытался выдернуть меня за руку из его поля зрения. И тогда мой герой вытеснил их всех. Иногда мне даже казалось, что это, может быть, навсегда. Но, боже мой, как опасна власть этого слова!
Этот человек появился из ниоткуда. Естественно, у него был свой город и дом, своя комната, свое кресло там или кровать, рабочий стол, друзья, может быть, девушка, могилы предков… Но, тем не менее, он появился из ничего, он пришел непонятно зачем, не сказав ни: Ты нужна; Я без тебя не могу; ни: Я люблю тебя, или чего-нибудь еще в этом роде… Нет, ничего подобного он не говорил. Это был посторонний человек.
Но у него были глаза моей Алисы. И вот: Глаза Моей Алисы посмотрели на меня с чужого, взятого наугад лица, и я – как крыска, идущая в реку под Нильсову дудочку, – опять попалась.
А он – ну, каждый знает, как оно бывает, – совершенно бессмысленно водил меня в кино, в дешевенькие кофейни, куда-то еще, еще… И это понятно: мой город чужой для него, и, чтобы не потеряться, не сгинуть, не смешаться с площадной пылью, человек цепляется сначала за малозначащих для него; а потом, когда уже есть, из кого выбирать, начинает карабкаться – по вереницам людей и лиц – все выше, все выше, выше… Что делать, раз так уж случилось, что именно я стала первой ступенькой той-лестницы-взбираясь-по-которой-он-покорит-чужой-город.
Но глаза, глаза ловчихи душ снова следили за мною с его лица и пили, и пили мою астральную кровь. Опять… Но сладостна процедура эта, и холод, могильный холод вязко течет по рукам и капает с пальцев, и рвется жила внутри, застревают в гортани черепки уставшего сердца, и блестят, увлажняясь, глаза, и не укладывается все это в представление о человеческой нормальности. Этого-то блеска и испугался он раз:
– Знаешь, – говорит, – ты… слишком не как все… обостренность кошачья… Я смотрю на тебя – и боюсь.
– Почему? – спрашиваю, – потому, что глаза нехорошим блеском блестят? Не бойся: у меня и муж есть, и имя-то у него святое – Олег. Тебе – нечего бояться, а вот мне…
А он поежился и плечами передернул. И началось…
А началось все… обычно: взгляд, брошенный случайно, пронзительный, острый, тонкой иголкой тыкнулся в мой зрачок. В мое лицо. В мою жизнь.
А потом – бытье закружило и – не прямыми – кривыми повсюду возило. И вроде бы все – покой и порядок, но взгляд тот, первый, засел-таки в подсознании, сидел, спал в нем – глубоко пока еще, правда…
Я – прибегала к нему, полубезумная, посидеть, отдышаться после ночных кошмаров, в глаза Алисины посмотреть, голос послушать и дрожь в пальцах унять. А он – не понимает: зачем? – смысл, конечно, искал, да так и не нашел никакого. «Чего она хочет, безумица?» – думал, наверное, он, когда моя достигаемая нечеловеческими усилиями сдержанность начинала вдруг разгерметизиро-вы-ва-ться, – и вырывалось сквозь трещину запаянное до этого в вакууме «я-так-больше-не-могу-не-могу-не-могу!!!»
А происходил мой герой из того самого, заколдованного, проклятого города, что силой неведомой спроецирован был на московские заповедные улицы. И испугалась я поворота такого, после того как:
– Я увезу тебя, – сказал он, – с собой. Зимой увезу. Этой зимой.
Шутит? – подумала я. Стало жутко: а вдруг… правда… увезет… туда! Ведь это конец! Но сказаны – о-па! – уже сказаны эти слова, зарезервировано, забронировано в памяти место – как полка в морге, для еще живого заказанная. Уж лучше б не говорил: для него все равно утонут в забвении эти слова, но заклятьем – мне; так думала я и металась в полуагонии, и кружила по стройным кварталам, по вечерней заснеженной клетке. И опять надрывались надо мной улицы, вымягченные дежурным фонарным светом, переулки сбивались в сливки, снег белым пухом сыпался под ноги – мягко, мягко идти. Неслышно: снег! – носят ноги меня, и ужас (увезет, увезет – не сбежать) топит меня в нем. Все. Приговор оглашен, и далекий мистический город уже тянет ко мне тяжелые клешни железных дорог, раскидывает до самой Москвы паутинные липкие сети станций и полустанков, надвигается, душит, уже снится в безлунные ночи…
И я уже не могу ни вырваться, ни удрать, ни обмануть мою клетку – симпатичную московскую «Киевскую», эту нелепую проекцию далекого и сверкающего огнями большого города. Беда…
Алес, Алес, неужели ты так ничего и не понял? Неужели ты не заметил? Неужели не углядел? Подозреваю, что понял; заметил и углядел… И сам же меня у себя – в этой ловушке – целых два года держал. Долго мы с Алесом, долго по набережным над стальной водой ходили: ах, чертово место, в водяной ледяной петле. Как родилась я в водной петле – Коломенское, шатровый стиль, остроги да столетние дубы; Нагатинский затон, кажется, называлась петля, – так и жила – в другой: от Бережковской до Тараса Шевченко. Шевченко…






