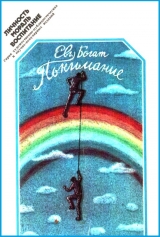
Текст книги "Понимание"
Автор книги: Евгений Богат
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Эффект узнавания
Судьбы имеют не только книги, о чем известно давным-давно, но и статьи в периодической печати, живущие в сознании читателей, казалось бы, недолго. Порой эти судьбы тоже непредсказуемы и неожиданны. Когда «Монолог одинокого человека» читался, «обкатывался» в больших и малых кабинетах редакции, товарищи по работе меня уверяли, что вещь эта – «локально-интимная», «для весьма немногих читателей», «широкой аудитории неинтересна».
Им удалось меня убедить. Обычно после «выхода» того или иного очерка я стараюсь быть в Москве, никуда не уезжать, понимая, что неизбежны важные письма (иногда и опровержения), когда автор должен находиться «на посту» для того, чтобы оперативно реагировать на «эхо» собственного выступления. На сей раз, ничего существенного не ожидая (опровержения быть, понятно, не может, писем же будет мало), я уехал, а когда вернулся, недели через три, оказалось, что меня ожидает более тысячи писем читателей, откликнувшихся на исповедь, и вал почты не утихал в течение долгих месяцев.
И все эти месяцы я с утра и до вечера читал, делал выписки, думал, старался понять.
Я старался понять, почему это, как самому мне казалось, «локально-интимное» выступление в печати вызвало столь широкое – и живое – участие и сочувствие читателей.
В неожиданной ситуации помогали мне разобраться сами авторы писем.
Вот рассуждения читательницы из Днепропетровска Натальи Загребельной о герое исповеди:
«Этот человек может показаться многим странным, как говорится, „не от мира сего“, допускаю, что иным не понравится его излишняя впечатлительность, его повышенная реакция на каждое, даже маленькое зло, его незащищенность и неприспособленность к жизни, – то есть качества, которые сегодня большинству будто бы не импонируют. Но вот что странно, сама я на него не похожа и все же, несмотря на это, его духовный мир мне понятен и дорог. Конечно, страшное одиночество, которое он переживает, удел, наверное, немногих, но в той или иной мере, в ослабленном виде, одиночество не чуждо, наверное, каждому человеку. Поэтому исповедь и волнует. Я думаю, Вы получите массу писем. Самыми интересными будут, наверное, те, в которых рассказывается об опыте борьбы с одиночеством, о торжестве над ним, о пути к людям. Мне хочется посоветовать герою исповеди: ищи друга! Ищи активно, это основная задача твоей души, не останавливайся и не сникай, если в ком-то разочаровался. Встань и иди! Роскошь человеческого общения требует усилий».
Этот совет: «ищи друга!» повторялся в сотнях писем. И самыми интересными действительно были те, в которых речь шла о «пути к людям».
Но мне хочется перед тем, как рассказать подробно об этих письмах, остановиться немного на «ласково-сердитых», в которых герою исповеди старались раскрыть, в чем он неправ.
И – раскрыть не назидательно-строго, от «холодного ума», а любовно, от всей души.
«Дорогой мой мальчик, – писала Тамара Петровна Гуманюк, москвичка, участница Великой Отечественной войны. – Ты скажешь: я не мальчик, я мужчина. Для меня ты, как и мой тридцатилетний сын, – мальчик. А моя двадцатичетырехлетняя дочь – девочка. Для матери дети – навсегда дети.
Я росла в семье, которая переживала порой тяжкие времена. Вспоминаю, как моя сестра в минуты отчаяния, рыдая, говорила: да когда же это кончится, не могу больше, не могу, лучше умереть! Наша добрая, мудрая матушка, услышав эти вопли, подошла к сестре и сурово ее отчитала: „Опомнись! Как у тебя язык повернулся. Ты видишь только себя, собственные невзгоды и ожесточаешься. Ты молодая, сильная. Стыдись! Не мешало бы тебе оглядеться да посмотреть на людей. Иного постигает горе, согнуло в три погибели, кажется, не вынести ему этого испытания. Ан – нет, встает, потихоньку распрямляется, да еще находит в себе силы поддержать кого-то, да одарить теплом истерзанного сердца. А ты?“»
Это написала старая женщина. А вот «отповедь» молодой – Валентины Шустовой из Новосибирска.
«Наберитесь смелости и сил, взгляните на себя со стороны. Почему лежите в неуютной комнате и пальцем не шевелите, чтобы изменить окружающее. Совершите для людей что-нибудь хорошее, ощутимое, чтобы они увидели: вы их любите. Нет организаторских талантов – и не надо. Делайте то, что можете.
Позволю маленькое отступление. Накануне Восьмого марта в нашем конструкторском бюро, где работают почти одни женщины, было решено устроить обмен подарками. Мне выпало на долю готовить подарок женщине, которую я, сознаюсь, уважаю недостаточно. Но одно из моих жизненных правил: „Кто одолеет льва, кто одолеет великана? Это совершит тот, кто справится с самим собой“. Я себя пересилила и начала шить (я шью хорошо) то, что наиболее хотелось получить этой женщине – фартук. Понимаю, что время для меня в духовном смысле было потеряно. Но зато я увидела такую искреннюю человеческую радость, которая и следа не оставила от моей былой небольшой неприязни.
За последние полтора года я познакомилась с множеством добрых, хороших людей. Для этого нужна, казалось бы, малость, но малость существенная, требующая немалых душевных затрат: не сторониться людей, общаться, хотя бы не лениться разговаривать с ними. Что вы делали во время последнего отпуска. Наверное, лежали и читали? По всей стране масса чудесных туристских маршрутов, вот, поистине, школа общения с людьми… Вам больно ощущать, что вы никому не нужны, а кто нужен вам?»
Я перечитал сейчас «вслух» письма от людей, которые, видимо, лишь в редкие минуты чувствовали себя одинокими – от людей, душевно открытых, обладающих талантом общения.
Но в почте немало было писем от читателей, которые пережили некогда то же самое, что испытывает герой исповеди. Они были одинокими.
В этих письмах меньше резкости, даже эмоциональности, больше понимания и какой-то умной тишины. Маленькая, но небезынтересная подробность: почти все эти письма написаны поздно вечером или ночью – в часы, когда наедине с собой человек восстанавливает по крупице пережитое, стараясь лучше его осмыслить, чтобы в будущем меньше страдать.
Авторов этих писем, пожалуй, не стоит называть, хотя сами они не скрывали ни фамилии, ни адресов.
«Мне двадцать пять лет, до двадцати трех я чувствовала себя бесконечно одинокой.
У меня не было и мысли кидаться под поезд, но жила я тускло, безрадостно. У меня была мечта: стать интересным человеком, чтобы быть всем нужной. Потом я поняла, что это желание недостойное и эгоистическое. Я совершила некоторое открытие: важно вовсе не то, чтобы стать самой интересным человеком, а важно уметь видеть интересных людей вокруг себя.
Я работала в небольшом учреждении и честно старалась увидеть в моих сослуживцах „интересных людей“, но ничего не получалось у меня. Они казались мне безнадежно серыми. Но вот однажды я поехала с одним из них в командировку. Мы ехали в поезде двое суток и вот вечером, когда купе засыпало, я, задремывая на верхней полке, услышала, как мой сослуживец, пожилой человек, беседует с кем-то из пассажиров, высказывая неожиданные и интересные мысли, открываясь для меня с совершенно новой стороны.
Когда мы вернулись из командировки, я решилась на детский, как я теперь понимаю, смешной поступок. Поменяла место работы, чтобы как можно больше находиться в командировках, в поездах. Я поняла, что даже в небольшом деловом путешествии, в отрыве от однообразно житейских дел, люди становятся безумно интересными. Это было открытием для меня, наивной.
Я полюбила командировки и поездки, была ошеломлена тем, как много в мире интересных людей, и совершила второе „открытие“: добро может быть страшно скромным и на него тебе все же ответят сторицей. Иногда достаточно улыбнуться человеку. Дать элементарно добрый совет…
Через несколько месяцев мой бывший начальник захотел вернуть меня на старое место, то есть туда, где все люди казались мне нудными и неинтересными. И я вернулась и, поверите ли, по-новому их увидела. И я совершила третье „открытие“: для того, чтобы видеть вокруг интересных людей, надо, как говорят в народе, „нажить душу“, а „душа наживается“ в общении с людьми. Смысл же одиночества лишь в том, чтобы наедине с собой лучше понять жизнь. Вот я пишу вам ночью, казалось бы, одна во всем мире, и в то же время не одна, со мной все те, чьи жизни и души вошли в мой опыт существования на земле. Одна и не одна. Одиночество и не одиночество. Я пишу ночью, поэтому у меня известный сумбур в мыслях…»
Второе письмо на эту же тему.
«Несколько лет назад Вы меня бы не узнали – замкнутость, доходившая до нелюдимости, необщительность, которая граничила с угрюмостью.
И в то же время у меня было достаточно мужества, чтобы трезво оценить собственное местоположение в коллективе – в школьном классе, студенческой компании, заводском отделе. И трезво оценивая, я ужасалась, да, ужасалась. В чем дело, почему я не такая, как все. Я начала анализировать мои душевные состояния, поведение, нашла в себе силы взглянуть на себя со стороны.
И увидела: да все это из-за отсутствия во мне человеколюбия.
Я строго судила обо всех, кроме одного человека – себя самой.
Пожалуйста, посмотрите на себя со стороны и в то же время постарайтесь понять изнутри тех, кто Вас будто бы обидел. Это, по-моему, важно: уметь видеть себя со стороны, а остальных людей чувствовать и понимать изнутри, иначе и не будет человеколюбия.
Не судите строго ту девочку, инициалы которой Вы вырезали на парте, а она в ответ „нанесла Вам удар“. Дети часто бывают жестокими, и лишь потом, лучше понимая себя и жизнь, раскаиваются в содеянном. Сегодня эта девочка, уже взрослая женщина, наверное, жалеет о той „маленькой измене“.
Не судите строго и ту девушку, которая обиделась на Вас за то, что Вы не дарите ей ничего „материально-существенного“. Она, наверное, редко получала в жизни подарки, и это полудетское ее желание достойно не осуждения, а великодушного понимания.
С течением лет она все сама оценит иначе и, может быть, внукам будет рассказывать в старости, как волшебно, „посредством эфира“ Вы познакомились когда-то.
Не судите строго и ту женщину, которая отклонила дорогую коробку конфет. У нас, у женщин, нет опыта „получения подарков на улице“, к сожалению, чаще мужчина подходит к женщине на улице с менее возвышенной целью.
Умение общаться с людьми лично мне далось нелегко. Были большие муки. Я как бы одолевала ступень за ступенью… В первую очередь научилась внимательно слушать, поймите, это важно – без умения слушать человека внимательно и сочувственно нельзя возвести мосты между людьми. Потом стала учиться понимать горе и радость человека, стала отвыкать от резкости и категоричности в суждениях. И наконец, самая высшая ступень общения – научиться самой говорить с человеком: искренне, с пониманием его боли и судьбы.
Казалось бы, на этом можно остановиться – достигнута победа в общении с людьми. Но на самом деле тут-то и начинается самое ответственное и трудное: ощущаешь собственную духовную бедность, потому что хочется отдать людям гораздо более того, чем насыщена душа. И это – сильнодействующий стимул самовоспитания, самоформирования. Парадоксальная диалектика: возвращаешься опять… к одиночеству. Для того, чтобы читать, думать, учиться понимать, но это уже качественно иное одиночество, чем то, что было вначале, одиночество не во имя себя, а во имя людей, одиночество не замкнутое, а как бы раскрытое всем навстречу. Буду счастлива, если Вы поймете, что я хотела высказать…»
Обширность почты, полученной после опубликования этого материала, объяснялась во многом «эффектом узнавания». Ряд читателей узнавали в герое исповеди себя сегодняшнего и искренне ему сочувствовали, многие узнавали в нем себя «вчерашнего» или «вчерашнюю» и делились опытом исцеления. Иногда полного исцеления, чаще неполного…
«Узнала себя, искания и муки. Страшная это вещь – одиночество. Острое, как лезвие ножа. В моей судьбе есть известное родство с судьбой Одинокого Человека. И в то же время существуют большие различия: я росла не в детском доме, а в семье. У меня были папа и мама, брат, друзья. Но общее с ним, несмотря на это – в одной весьма существенной черте, я бы назвала ее „книжностью“. Книги заслоняли от меня жизнь, углубляли детскую наивную веру в легкое торжество добра, вели к замкнутости характера.
Книги учат уму, но не учат общению.
Я росла молчаливой, застенчивой.
И вот школа позади, началась взрослая жизнь. И тут я с особой остротой поняла: не готова я быть взрослой. Моя замкнутость, „книжность“ научили меня наивно верить в добро, но не бороться со злом, с ложью, с жестокостью. На переломе судьбы я ощутила себя беспомощной. Немалую роль, возможно, сыграл и „фактор двадцатого века“. Темп жизни, особенно в больших городах, все больше возрастает, увеличивается резко поток информации, которую нужно усвоить; как в калейдоскопе мелькают, меняются лица окружающих людей. Перестаешь чувствовать духовный мир отдельного человека, углубляется собственная духовная отчужденность. Это тоже, в какой-то мере, плод книжного воспитания. Книжного и, пожалуй, – „телевизионного“. Часто телевизор заменяет непосредственно живое общение. Да, с телевизором легче. На него не нужно растрачивать тепло и участие. Но ведь в беде идешь к людям, а не к телевизору!
Я не хочу все эти суждения возводить в рамки неизбежности: ведь далеко не всем угрожает одиночество. Но, по-моему, всем надо учиться искусству общения. Не в один день Москва строилась, и не в один день человек „строит“ себя. Я не научилась до сих пор этому искусству, лишь начинаю учиться».
Читая все эти письма, нельзя было не подумать о духовном богатстве нашего общества: я ощущал поток сочувствия, который шел навстречу одинокому человеку; как бы выплескивался опыт души, наблюдений, мыслей, борьбы с собой и переделки себя.
Ему писали о том, что надо смотреть на себя самого не как на неудачника, а как на «полуфабрикат», что работа по самовоспитанию нужна в любом возрасте и реальна такая перемена в себе, когда личность из одинокой и неприкаянной становится нужной, необходимой, к ней тянутся, ею дорожат.
Ему писали о ценностях его духовного мира, о том, что эти ценности должны быть залогом не разъединения, а соединения с людьми, надо лишь не замыкать их в себе, а открывать миру. В этом и состоит самый существенный, капитальный момент перемены, которой от него ожидают. От замкнутости – к необходимости людям. «Будьте мужчиной! – писали ему женщины. – Делайте добро людям, которые в нем нуждаются».
«Будьте человеком! – писали ему мужчины. – Живите деятельно, бесстрашно и вы почувствуете, что люди, окружающие вас, вовсе не бездушны и холодны»… Ему писали о радости человеческого общения, когда в окружающих людях открывается самое существенное. Автор одного из писем напоминал известное высказывание Маркса о том, что бывает, когда между собой объединяются коммунистические рабочие – «курение, питье, еда и т. д. не служат уже там средствами соединения людей, не служат уже связующими средствами, для них достаточно общения… человеческое братство в их устах не фраза, а истина и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство». «Монолог одинокого человека» вызвал ответные монологи, в которых был сосредоточен ценный духовный опыт. Я познакомлю с ними читателей. Сейчас же мне хочется чуть подробнее развить соображение о пользе и вреде «книжного воспитания».
Вот голос за «книжность»:
«…У нас была хорошая библиотека: Писарев, Чернышевский, Добролюбов, Л. Толстой, Тургенев, Горький. Я читал все это запоем, особенно много читал в детстве. И „обильный заряд литературы“ сыграл огромную роль в формировании моего мира. В сорок лет я пережил столько, сколько не каждый глубокий старец, наверное, испытал. Но удивительное дело, несмотря на то, что я часто терпел поражения, мой оптимизм не пострадал. И хотя я совсем уже не тот, что был в восемнадцать лет, я убежден, что умирать буду с той же неистребимой верой в человека, в его назначение на земле и сущность».
А вот голос против «книжного воспитания»:
«Если формировать личность так, как в теплице, в основном на книжках, где неизменно торжествуют доброта и справедливость, то человек, войдя в реальную жизнь, „обламывается“ и разочаровывается. Наступает в жизни некоторых заядлых книжников странный момент, когда, столкнувшись с живой жизнью, они начинают испытывать неприязнь к любимым томам и писателям».
Опять голос за «книжное воспитание»:
«…Не всегда имеем мы возможность общаться с теми, кто необходим нам, но у нас есть великая радость – книги: вокруг нас поэтому немало мудрых людей, живших давным-давно и живущих сейчас, к нам обращена их речь, их опыт».
Голосов «против» было не меньше, чем голосов «за». Читая письма «антикнижников», я испытывал некоторое удивление. Мне раньше казалось, что место талантливой книги в человеческой жизни, в воспитании и самовоспитании настолько несомненно, что оно может подвергаться нападкам лишь со стороны людей неначитанных или читавших не то, что нужно. Но даже и они постесняются из чувства опасения «быть не как все», говорить о книгах в открытую нехорошо.
Но вот по мере чтения писем я видел, что для некоторых неглупых и хорошо начитанных людей литература вдруг становится некой антитезой жизни. Они начинают относиться к ней не как к источнику богатейшего духовного опыта человечества, а так сказать «фармацевтически», будто бы перед ними – собрание рецептов: как жить и действовать в любых обстоятельствах, рецептов, не оправдавших надежд, потому что лекарства оказались отнюдь не чудодейственными, не помогли повсеместно побеждать зло и содействовать торжеству добра. В этом чисто утилитарном отношении к литературе, которой сообщаются атрибуты точной науки, выявляется непонимание не только книг, но и самой жизни.
«Книжный человек» выходит в «мир» и, как только этот мир не оправдывает его несколько тепличных надежд, начинает думать, что его обманула литература.
Читать, конечно, легче, чем жить; восхищаться Оводом или Павлом Корчагиным легче, чем повторить в жизни то, что совершили они.
Искусство быть необходимым людям, наверное, заключается и в том, чтобы уметь перейти от жизни созерцательной к жизни деятельной. И в литературе добро одерживает победы нелегко и непросто, но сами мы не участвуем деятельно в этой борьбе и поэтому создается обманчивое ощущение легкости. Мы любуемся героем, но для того, чтобы стать героем самому, надо собой не любоваться, а испытывать глубокое неудовлетворение от того, что твое участие в жизни, в борьбе за лучшее будущее менее действенно, чем хотелось бы.
Читатели полемизировали с одиноким человеком, поучали его, одобряли или не одобряли его мысли и действия, но почти во всех письмах было понимание.
«Я хорошо Вас понимаю, поверьте сорокадвухлетней женщине, матери-одиночке, учительнице. Собственную жизнь я вижу разделенной на две половины: до сына и после него. В розовой юности я была начитанной девицей, сильной и смелой, с душой, открытой нараспашку и совершенно незащищенной. Я весело и безбоязненно шла навстречу судьбе. Немало странствовала, поколесила, искала место в жизни… Лишь в тридцать лет закончила пединститут. И лишь в тридцать три года родила сына от человека, за которым была готова идти в огонь и воду и который разлюбил меня, хотя сына и любит.
…Напрасно Вы отрекаетесь от книг. Если хотите бороться за доброту – больше читайте. Больше читайте и больше живите, чтобы было равновесие. Посмотрите вокруг, посмотрите сосредоточенно и человечно. И Вы поймете: в самой жизни люди не менее интересны, чем в великой литературе. И если стоит увлеченно, запоем читать, то лишь для того, чтобы понять эту, в сущности, несложную вещь».
Ну вот, мы познакомились с первой партией читательских писем, писем эмоциональных, глубоко личных, порой сумбурных, но неизменно искренних. Это первый и поэтому самый эмоциональный поток почты.
Если перевести это с языка эмоций на язык строгих формул, то лучшим эквивалентом будет мысль Маркса о том, что при социализме человек станет ощущать потребность в том величайшем богатстве, каким является другой человек.
В последующих потоках было немало писем-монологов, обращенных к герою исповеди, в которых обрисовывались интересные человеческие характеры, нерядовые судьбы…
Монолог человека, умудренного жизнью
Может быть, мое письмо будет в какой-то мере ответом на вопросы: «что такое одиночество?» и «почему человек бывает одинок?»
Хочу рассказать о женщине, которой уже нет в живых. Фамилия: Антонова. Имя: Мели-тина. Отчество: Леонидовна. Дата рождения: 8 марта 1924 года. Семейное положение: одинока. Образование: высшее. Род занятий: корректор. Место работы: издательство «Советский художник».
О чем может поведать эта сухая анкета, которая еще какое-то время будет сохранена в нашем издательстве? Разве расскажут сухие данные о том, что Антонова Мелитина Леонидовна закончила школу в роковом сорок первом году? Или о том, что женихи полегли в сырую землю от Москвы до Берлина и ей, как и многим женщинам ее поколения, выпало на долю одиночество.
Разве раскроют они эту маленькую загадку: почему уже после войны, получив без отрыва от работы высшее экономическое образование, Мелитина Леонидовна до конца жизни осталась корректором, то есть на той скромной должности, на какой и находилась, когда училась вечерами?
Нет, все не то…
Судьба человеческая, судьба женская, с ее радостью и болью, тоской и жаждой познания, неудавшейся поздней любовью и неизрасходованной материнской любовью, ответственностью перед людьми, чувством дома и обостренным восприятием действительности, с ее богатым духовным потенциалом и почему-то подчеркиваемой некрасивостью, – судьба личности этой не умещается в тире между датами рождения и уходом в небытие.
Она была – и она есть, ушла, оставив в каждом из нас частицу души, ума, порядочности, научив нас не быть равнодушными, не быть одинокими. Когда я пишу «нас», то имею в виду ее коллег и сослуживцев, тех, кого она любила…
…Все мы, тогда еще молодые девчонки, лишь начинающие жизнь, поступали на работу в издательство, в той или иной мере вынужденно (интересно ли быть корректором?!), оставляя на время самое, по нашему разумению, увлекательное и волнующее: встречи и разлуки, письма мальчишек из армии, фильм «Мост Ватерлоо» и концерты Ива Монтана, кафе, танцы, милое ничегонеделанье…
Работа давала нам деньги на покупки новых «шпилек» и муара на пышные, модные в пятидесятых годах юбки, в какой-то мере заполняла пустоту бесконечно тянущихся будней – и только. А для нее, нашей «старшей» (ей было тридцать три года тогда) издательство было вторым домом, а порой казалось, что и первым. Все события и подробности работы касались ее лично, как, пожалуй, никого в нашем окружении.
Нам все время думалось, что Мелитина Леонидовна («Можно Миля» – разрешила она нам с самого начала называть себя по имени) могла посвятить себя более живому делу, чем бесконечное, кропотливое чтение корректур. Она была по натуре невероятно энергична, деятельна, импульсивна, легка на подъем. Возможно, она и сама чувствовала, что «рождена для чего-то большего», но и в том «малом», что составляло ее жизнь, она старалась быть большим человеком.
Мы в молодом эгоизме видели в Миле женщину, обойденную судьбой, не понимая, что юность ее совпала с временем страшным и тяжким. Мы рыдали на кинофильмах «Летят журавли», «Баллада о солдате», а к ней порой бывали безжалостны. Сами того не желая, мы постоянно «казнили» ее более удачливой молодостью, беспечностью, модными тряпками, болтовней о свиданиях и признаниях.
Но Миля не завидовала нам, нет. Что вы! Наоборот, она все время радовалась – открыто, искренне, с участием выслушивала наши полу-бредовые девчоночьи откровения, мягко давала советы, ненавязчиво руководила нашими поступками.
Она защищала нас порой от весьма справедливых нападок начальства – ведь, честно говоря, мы не всегда добросовестно относились к своим обязанностям.
Она убеждала нас: «Девочки, не ленитесь, пойдите в библиотеку для уточнения. Вы же не просто корректоры, вы первые и заинтересованные читатели издания, разве вам безразлично, каким оно выйдет к людям?»
Конечно, не обходилось и без конфликтов. Мы ведь не понимали, что для нее работа – это вся жизнь, а для нас не больше, чем этап, ступенька на лестнице, ведущей куда-то неведомо вверх. Любая из нас: не только корректоры, но и выпускающие, и техреды, и машинистки – вся наша издательская молодежь мечтала об иных высших сферах реализации заложенных в нас возможностей.
Мы были наивны и тщеславны. Я, например, удачно выступив в «Московском комсомольце» с небольшой ругательной рецензией на новый кинофильм, уже видела себя в снах известной кинокритикессой и мечтала о ВГИКе.
Мелитина Леонидовна не опускала нас насильственно с небес на землю, она была доброжелательна к «молодым дарованиям», она разделяла наши увлечения, с удовольствием читала с нами стихи наших кумиров – поэтов.
Но когда мы воспаряли чересчур высоко, манкируя при этом будничными делами, наша «старшая» была строга и неумолима.
«Все это замечательно, – говорила она, и вернисажи в рабочее время, и диспуты вечерами, и недели зарубежных фильмов, но если вы не научитесь серьезно работать вот теперь, сейчас, в нашем маленьком деле, то из вас никогда ничего не выйдет». Теперь-то мы понимаем, что Миля была истинным нашим наставником, воспитывая у нас творческое отношение к любой социальной обязанности.
Когда-то мы вычитали в одном «руководстве» для редакторов, что идеальный корректор читает, не вдумываясь в текст, поэтому редактор, мол, не должен полагаться на то, что незамеченный им стилистический «ляп» может быть «пойман» в корректуре.
Ох, как мы возмутились. И не за себя, за Милю. Именно в ней мы начинали видеть идеального корректора. Вот она вычитывает рукопись: страница, вторая, третья, – быстро поднялась, листает «Толковый словарь», или «Словарь иностранных слов», или «Географический атлас», или том БСЭ. Она никогда не задавала вопросов автору или редактору, не убедившись в том, что ее недоумение обоснованно. Уровень ее требований к любому изданию, над которым она работала, был неизмеримо высок. Ее возмущало, что корректорский труд заметно подвергается нивелировке, когда человеку все равно, что он читает, когда он ни в чем не сомневается.
Мы обязаны были работать по норме: определенное число листов в день «на гора». Миля читала медленнее, но зато после нее разным «буквоедам» и «крохоборам» нечего было делать. Все в рукописи было безупречно, и в монографии о художнике-маринисте уже не плыли «базальтовые» плоты, как о том извещал автор, а плыли «бальзовые»… И в «Школьной выставке картин», которую мы тоща выпускали, ребята благодаря корректору Антоновой видели перед собой портрет Айвазовского, а не Грановского (каким-то образом в типографии перепутали клише и никто, кроме Мили, этого не заметил – очень похожи были лица).
Сегодня часто говорят об активной жизненной позиции, по-моему, подобное отношение к делу и есть эта позиция. Миля была постоянно разумно-активна, и это помогало ей не чувствовать себя одинокой, неудачницей, быть личностью.
Герой «Монолога одинокого человека» говорит о себе, что у него «золотые руки», но к «золотым рукам» необходимо иметь хотя бы «серебряное сердце», для того чтобы не быть одиноким.
Бывает часто, что человек незаурядной духовной жизни сосредоточен лишь на себе, дорожит только собственной душой, в этом варианте даже духовное богатство может стать источником эгоизма. Нередко топкая душевная организация, которой не сопутствует умение найти выход к людям, ведет к замкнутости, к одиночеству. Человек хочет, чтобы к нему испытывали интерес. Но ему неизвестна цена «мелочей», украшающих жизнь, – доброго слова, умного совета, улыбки. В этих «мелочах» интерес не к себе, а к людям, к миру, тот самый интерес, который дает личности ощущение общности с людьми.
Миля была духовно богатой натурой, человеком тонкой душевной организации, и все это не только не порождало у нее эгоизма, но, наоборот, было источником деятельно-доброго отношения к людям.
Наша молодость не была безмятежно-розовой. В личной жизни разыгрывались и беды и даже трагедии. Судьба наносила нам удары, и наша нравственная наставница постоянно была с нами рядом.
Она учила нас мужеству жить, не отчаиваться. Она догадывалась о наших бедах сердцем даже тогда, когда мы молчали.
Она не утешала, не жалела нас, нет – о, как часто мы сами были виноваты! – но почему-то ее мудрый совет, а то и суровая отповедь действовали на нас целительнее, чем жалостливые речи подруг.
Когда же у меня стряслось большое горе – я узнала, что мама неизлечимо больна, и в тот день не вышла на работу – Мелитина Леонидовна сама поехала ко мне вечером, дала тоненькую пачку корректуры, чтобы я сидела дома и ухаживала за мамой. Маме становилось все хуже, Миля доставляла мне на дом не только работу, но и зарплату, а потом заявила, чтобы я от матери не отвлекалась: она договорилась с девочками, и они будут работать за меня, выполняя мою норму.
Однажды, уходя, она попросила, чтобы я непременно ей позвонила, если совершится «самое страшное». Но я – я надеялась на чудо. И когда все-таки оно, самое страшное, совершилось, у меня не было сил пойти к автомату и позвонить, да и зачем? – думала я, кто мне теперь поможет, кто поймет всю меру моего отчаяния и одиночества. Но сердце моего наставника оказалось вещим, она в тот же вечер сама поехала ко мне, будто бы догадалась, и сидела допоздна, хотя дома ее ожидала собственная больная мать. Я не помню, о чем Миля тогда со мной говорила – говорила долго. Но хорошо помню, как утихла боль.
Сколько лет минуло с тех пор, вот и ее уже нет. А я как сейчас вижу ее внимательные глаза, слышу милый голос, доказывающий мне: надо жить! Несмотря ни на что, надо, надо! И думаю: а где же, из каких источников черпала она сама душевные силы, расходуя их на наши горести щедро, без остатка.
Видимо, одним из самых богатых источников было чувство общности с людьми, с современниками и с соотечественниками, с дальними и с теми, кто находился рядом с ней. Это не пустая фраза – чувство общности с людьми. За ней большая душевная работа, усилия по самовоспитанию, углубление нравственной ответственности перед обществом и временем. Отсюда и этот дар: сопереживания, сочувствия, сострадания, который был развит у Мелитины Леонидовны в высшей степени. Я говорю: «развит», но несколько точнее, наверное, определить: «она сама его развивала». Она сама все время совершенствовала отношения с людьми. Отважусь на «художественную параллель»: к людям она относилась столь же компетентно и ответственно, как к листам корректуры, над которыми работала. Или лучше выскажусь иначе – к листам корректуры она относилась как к людям, они были для нее живые. Для нее все в мире было живым, наверное, поэтому сейчас она для нас живая, хотя ее нет…








