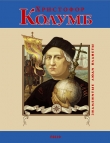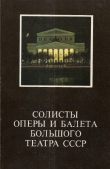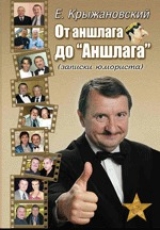
Текст книги "От аншлага до «Аншлага»"
Автор книги: Евгений Крыжановский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Это был мой первый и последний опыт, больше таких подвигов я не совершал. Не знаю, какой я артист, но как фанат я оказался одноразовым. У нас в «Христофоре» пока никто в туалете не прятался, я проверял – видимо, мы еще не достигли необходимого для этого уровня популярности, но случаи, когда зрители шли на другие любопытные ухищрения, чтобы попасть к нам в переполненный зал, бывали. Помню, однажды 1 апреля мы давали представление, которое, как и эта книга, называлось «У «Христофора» за пазухой» и состояло из наших лучших номеров за все годы работы. Билеты были раскуплены за несколько недель до начала, приехало телевидение, зрители стояли во всех проходах, кажется, даже кто-то висел на люстре (живой). А сколько народа осталось тогда еще вне зала! Приятно вспомнить.
Примерно за час до начала выступления к служебному входу срочно вызвали Перцова, нашего тогдашнего главного режиссера и автора. Он вышел и вернулся минут через пять с бегающими глазами и слегка побледневший, ничего объяснять нам не стал, отделавшись резким: «Потом!» И только на банкете после выступления смеющийся и довольный Перцов рассказал, что произошло. Оказывается, вызывала его девушка, которая, увидев Владимира, сначала долго мялась, никак не могла начать, но все же решилась:
– Я не знаю, как вам об этом сказать… Вы меня никогда не видели… Но вы – мой отец.
Перцов, ошарашенный, стал пытаться, внимательно глядя на девушку, найти в ней черты женщин, с которыми он был когда-либо знаком. И нашел, причем сразу нескольких, не говоря уже о своих собственных чертах. Поэтому он предложил девушке:
– Вы извините меня, но сейчас я очень спешу. Давайте мы с вами встретимся после представления и обо всем подробно поговорим.
– Да, я все понимаю, – сказала девушка. – Где мне вас подождать, может, на улице?
– Нет, нет, – запротестовал Володя. ― Посидите в зале, заодно и выступление посмотрите. А потом я к вам… тебе… подойду, … доченька»
А в тот раз на вечер пришли все наши жены, в том числе и Перцова. Владимир зачем-то сразу же «обрадовал» ее сообщением о появлении новой родственницы, и сразу после окончания представления подошел к дочери и предложил поподробнее рассказать о себе.
– Боюсь, вам это будет не очень интересно, – сказала она.
– Почему? – удивился Перцов.
– Потому что я не совсем ваша дочь. Я назвалась ею только на время. Ведь чужую девушку вы вряд ли провели бы в зал. Не так ли?
Возразить Перцову было нечего.
Евгений Крыжановский
Купаловский театр встретил меня без фанфар и оваций. Ни на подступах к зданию, ни внутри него я не заметил никакого оживления, вызванного моим появлением, все было буднично и заурядно. В отделе кадров у меня приняли документы и сказали, что до сентября я свободен. Побродив по пустым коридорам, я понял, почему с таким безразличием отнеслась ко мне общественность театра (сезон окончился, и вся труппа ушла в отпуск), понадеявшись, что в сентябре еще получу свое.
Лето я провел прекрасно, почти непрерывно находясь в состоянии эйфории и не замечая никаких неприятностей. Мало того, что я с нетерпением ждал начала работы в театре, так ведь мы с моей невестой Леной еще и готовились к свадьбе, которая тоже намечалась на начало осени. Как говорится, кругом были одни приятные хлопоты.
На сбор труппы перед началом сезона я надел свой лучший (он же – единственный) костюм, любимую рубашку и галстук, который мы купили к свадьбе. День сбора называют в театре в шутку «Иудин день». Все обнимаются, целуются, шумно радуются встрече, причем это не зависит от взаимных симпатий и антипатий, потому что театр, какой бы он ни был, – одна семья. Я, правда, был в этой семье пока чужим, поэтому на меня хоть и поглядывали, но целоваться и обниматься никто не бросался. Мне же атмосфера всеобщего братства и любви очень нравилась, и страшно хотелось побыстрее стать своим для этих прекрасных и давно любимых мной людей. Так проходила начальная, неформальная часть встречи.
В зрительном зале театра был ремонт, поэтому всех пригласили в буфет, где собрание приняло уже официальный характер. Присутствовали журналисты, выступил министр культуры и другие солидные люди, затем слово взял главный режиссер театра Валерий Раевский, речь которого в самом неожиданном месте вдруг была прервана бурными аплодисментами. Как выяснилось, так артисты приветствовали появление буфетчицы, которая чинно и важно пронесла свое дородное тело через весь зал за стойку. Аплодисменты были заслуженными, позднее я тоже понял, что буфетчица в театре – второй человек после режиссера. У нее всегда можно было поесть чего-нибудь вкусненького, причем часто в долг, и даже выпить.
Когда все, кто хотел, выступили, и я думал, что уже ничего интересного не будет, В. Н. Раевский сказал:
– А теперь я хочу вам представить нашего нового артиста Евгения Крыжановского, – и попросил меня встать.
Все начали поворачиваться, заскрипели стулья, некоторые из присутствующих даже привстали, чтобы получше меня разглядеть, раздались жидкие аплодисменты. Любопытство было вызвано еще и тем, что я был первым новичком за несколько последних лет. Прославленная труппа купаловского театра была хорошо укомплектована, работать в нем было очень престижно, поэтому текучести кадров не наблюдалось. Конечно, всеобщее пристальное внимание заставило меня немного смутиться, но я быстро взял себя в руки и стал благодарно улыбаться в ответ на приветственные возгласы и взгляды. Мне очень хотелось верить, что они не ошиблись, выбрав меня, и я надеялся в ближайшее время это доказать.
После окончания собрания многим, особенно молодым, не хотелось расходиться. Надо было как-то отметить начало сезона и встречу, да и перед буфетчицей было неудобно, ведь не зря же она вышла на работу. Стали образовываться группки и компании. Ко мне подошли бывшие тогда одними из самых молодых Саша Мороз, он сейчас работает режиссером на киностудии, и Юрий Лесной, ныне директор нашего «Христофора», пожали руку, похлопали по плечу и сказали, что с меня причитается. Я с готовностью выполнил свой долг, к чему был давно готов, так как уже кое-что повидал к тому времени на этом свете и не в первый раз устраивался на работу.
Потом, когда все артисты разошлись, я сидел на лавочке перед театром и ждал, когда выйдет Валерий Николаевич Раевский. Я считал, что должен с ним поговорить, так как это очень важный вопрос для нас обоих. Монолог мой был заготовлен заранее, я его репетировал мысленно несколько дней до этого и, особенно, в последнюю бессонную ночь. Я хотел сказать главному режиссеру, что раз он меня взял, то, видимо, доверяет и на что-то надеется, поэтому должен дать мне возможность раскрыться, побыстрее себя проявить, а для этого не надо занимать меня в плохих спектаклях и неинтересных ролях, потому что это меня может просто испортить и даже загубить на корню, как артиста.
Ждал я довольно долго. Вдруг смотрю – выходит Геннадий Гарбук, народный артист, тогда еще, правда, только заслуженный, но зато в самом расцвете сил и таланта, уже снискавший в ту пору огромную популярность и славу, подходит ко мне, улыбается и говорит:
– Ну что, пойдем, отметим твой приход в труппу?
Для меня это было так неожиданно, я считал, что между нами была почти бесконечная дистанция, поэтому растерялся, не знал, что ответить, и робко пробормотал:
– Спасибо, но я не употребляю.
Он еще раз улыбнулся и взял меня под руку:
– Ничего, я тебя научу.
И повел в буфет. Хотя мне было очень лестно сидеть за столиком с самим Гарбуком, я боялся, что из-за этого прозеваю Раевского. Но мне в тот день везло: я столкнулся с Валерием Николаевичем, когда мы уходили из буфета. Он предложил мне зайти в его кабинет. Пока я поднимался за ним на третий этаж в кабинет главного режиссера, успел еще раз повторить свой монолог. Но Раевский сел за свой стол и, не дав мне раскрыть рта, сказал резко и с легкой, под Высоцкого, хрипотцой в голосе:
– Значит, так. Если вы будете у меня в театре плохо работать, я вас выгоню, к чертовой матери. Немедленно. Все, идите.
Подписал какую-то бумагу, с которой я пошел в бухгалтерию, и на этом наша встреча закончилась.
Через два дня у меня начались репетиции…
Жизнь в студенческом общежитии, помимо своих приятных сторон, связанных с весельем, отсутствием дефицита общения и квартплаты, имеет и много неприятных, прежде всего – бытовых. Если девушки научились расправляться с такого рода проблемами сравнительно легко и без надрыва, то для мужиков они часто вырастали в просто непреодолимые преграды. Одна стирка чего стоила, особенно если оттягиваешь ее до тех пор, пока грязного белья не накопится гора устрашающих размеров.
Мы с моим другом (и по несчастью тоже) Николаем Леончиком путем длительных размышлений и проб придумали к четвертому курсу гениальный по своей простоте способ превращения грязных вещей в чистые. Делали мы это так: надевали на себя нуждающиеся в стирке трусы, носки, брюки, рубашки, а если требовалось, то пиджаки и плащи, и спускались вниз, в душевую комнату, Там, став под душ в таком виде, мы намыливали себя спереди, а потом терли друг другу спинки. Ополоснувшись, мы снимали плащи, смывали с них остатки мыльной пены и принимались в том же порядке за пиджаки, брюки и рубашки. Нечто подобное показал потом, только в ослабленном варианте и в несколько иной ситуации Эльдар Рязанов в своем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Нижнее белье стирается таким способом еще легче. Кстати, параллельно смывается значительная часть грязи с тела, поэтому, когда доходит, наконец, очередь до него, то делать уже практически нечего.
Свой способ стирки мы не держали в глубокой тайне – как древние умельцы, передававшие свои секреты по наследству или уносившие их в могилы, – но не очень и афишировали. Так что, до поры до времени о нем почти никто не знал. Но вот однажды зашли мы так с Николаем в душевую (а он еще собрался постирать в тот раз и свою шляпу), открыли краны и начали намыливаться. А в это время группа только недавно поступивших первокурсников тоже решила попользоваться душем. Раздевшись, они голышом, вооруженные только мочалками и мылом, шумной толпой ввалились в душевую. Так как в раздевалке они никакой одежды не видели, то не надеялись кого-то встретить и в душевой. Можете представить себе их изумление, когда они увидели стоящих под струями воды двух солидных и уважаемых четверокурсников (а для них мы были даже больше, чем в армии «деды», трущих усердно друг другу спины и забывших перед этим раздеться…
Разумеется, нам пришлось все объяснить и продемонстрировать свое «ноу-хау» в действии, после чего молодежь нас еще больше зауважала. Правда, некоторые признались нам потом, что их в первый момент раздирали сомнения: бежать звонить в психбольницу или смеяться?
Идея наша, говорят, до сих пор жива и периодически применяется наиболее отчаянными и смышлеными студентами театрального института (теперь уже академии).
Театр им. Я. Купалы
В академическом театре имени Янки Купалы я проработал ни много, ни мало, а целых 12 лет. Это огромный этап в моей жизни, и я благодарен судьбе за эти годы. Все театралы знают, что Таганка, «Современник», Вахтанговский театр и многих другие по большому счету вышли из МХАТа, а что корни «Христофора» находятся в Купаловском театре, об этом не знает никто. Но это именно так.
Первая роль, которую я получил в театре им. Я. Купалы, – финн-коммунист Вайнонен в «Оптимистической трагедии». Почему финн с моим носом, моими карими глазами и черными волосами? Да и по возрасту я не очень подходил, ведь мне было всего около 22 лет тогда. Но так решил Раевский, а ему было виднее. И хотя сегодня я понимаю, что это была не самая выигрышная для меня роль, считаю, что мне повезло с дебютом. Для артиста очень важно начать с большой роли, а не с эпизодика или массовки, и сразу заявить о себе. Правда, это очень рискованно и ответственно: после первого же провала почти мгновенно ставится крест на будущей карьере артиста. Известны лишь редкие случаи, когда неудачнику давали возможность попробовать еще раз, в основном же молодые артисты, как саперы, ошибаются только единожды. Но, кто не рискует…
Я с головой ушел в репетиции, не зная выходных и праздников, сделав лишь перерыв на три дня для участия в своей свадьбе. Сыграли мы ее хорошо, присутствовали А. Л. Милованов с супругой (как, кстати, и на следующих моих свадьбах), друзья по театру и по институту. А потом опять пришлось ежедневно из молодого супруга перевоплощаться в финна-коммуниста.
В ту пору театр им. Я. Купалы был гордостью республики, считался «придворным» театром, поэтому его артисты находились в привилегированном положении, по сравнению с артистами других театров. Когда я пришел в театр, мне сразу положили оклад в 120 рублей, что считалось по тем временам очень приличным, я чувствовал себя вполне обеспеченным и материально независимым человеком. Кроме того, мне выделили комнату в коммунальной квартире на ул. Интернациональной, почти в центре города, рядом с кинотеатром «Победа», о чем многие артисты других театров тогда (не говоря уже о сегодняшнем дне) даже мечтать не могли. В этой комнате я прожил целых восемь лет и вспоминал бы о ней с теплотой, ведь в ней создавались многие мои роли, если бы не общая беда всех коммунальных квартир – соседи, точнее соседка. Мне с ней жутко не повезло. Она работала в овощном магазине неподалеку, любила выпить, поэтому в ее комнате почти ежедневно собиралась компания собутыльников, которые, выпив, начинали искать приключения, провоцировать скандалы. Кончилось все тем, что я сам получил два месяца исправительных работ благодаря моей соседке, вызвавшей во время одного скандала милицию. Через некоторое время я постарался «отблагодарить» ее такими же двумя месяцами. Так мы и обменивались «сроками», время от времени объявляя перемирия…
Но вернемся к моей первой роли. Не скажу, что она, как и сам спектакль, была новаторской и необыкновенной. Все было в духе и по канонам социалистического реализма. Но работа над большой ролью, общение с партнерами – выдающимися актерами театра – послужили для меня хорошей школой. Как говорил в одном из своих монологов А. Райкин: «Все, чему вас учили в институте, – забудьте!» Нечто подобное пришлось сделать и мне. В театре все было далеко не так, как это представлялось в институте. Многому пришлось учиться заново. Помог мне и мой напарник по роли, замечательный артист Анатолий Мазловский, который потом, к сожалению, в самом зените славы ушел из театра и стал художником. А тогда он очень здорово меня поддерживал и советом, и личным примером, и достаточно частыми просьбами подменить его, когда подходила его очередь играть нашего общего с ним Вайнонена. В итоге роль у меня получилась ничего, не скажу, что что-то выдающееся, но на добротном среднем уровне, и, что самое главное, режиссер мной остался доволен. А это ведь было залогом того, что я мог надеяться на получение ролей и в дальнейшем.
Хотя роль у меня была сур-р – рово р-революционная, случались на сцене и веселые моменты. Помню, однажды Геннадий Гарбук, игравший предателя Сиплого, «вонзил» мне нож в спину, я вскрикнул, с обидой вскинул глаза (я ведь «не ожидал» от него такой подлости), сделал шаг назад и начал падать. Но при этом я наступил нечаянно Гарбуку на ногу, он попытался, было освободить ее, но грохнулся вместе со мной. Это было явным отступлением от режиссерского замысла, что за кулисами вызвало взрыв смеха. Не мог удержаться от смеха и я, но, чтобы его скрыть, начал дергаться, лежа на полу, чем вызвал аплодисменты, так как зрители решили, что это я так здорово изображаю предсмертные конвульсии.
«Оптимистической трагедии» и лично Вайнонену я благодарен за то, что они вселили в меня уверенность и дали возможность почувствовать свои силы.
После были другие спектакли и другие роли, причем совершенно разные. За 12 лет сыграл я множество больших и маленьких ролей, в том числе и пана Быковского в «Павлинке», и Микиту в идущем по сей день водевиле «Микитов лапоть», но самой любимой для меня была роль Хлестакова в «Ревизоре», который поставил Раевский. Постановка была очень необычной, так Гоголя еще никто не трактовал, отличалась от традиционной и роль Хлестакова. К сожалению, спектакль не имел успеха, хотя его даже пытались показывать в Польше, но это уже было без меня. Играя рядом с такими выдающимися артистами, как Станюта, Макарова, Дубашинский, Милованов, Кормунин, Белохвостик, Еременко, Овсянников и многие другие, я набирался опыта, пытался перенять у них все лучшее и при этом полнее выразить себя, утвердиться на сцене.
Параллельно с основными плановыми спектаклями у нас в театре традиционно ставились капустники. Они вызывали всегда большой интерес у публики, на них приходило очень много народа. Все надеялись увидеть и услышать нечто такое, чего не было в официальных советских спектаклях. И их надежды почти всегда оправдывались. С первых лет работы в театре я активно участвовал в капустниках сначала в роли актера, а потом и в качестве одного из организаторов. Моя тяга к созданию юмористических острохарактерных образов в капустниках была замечена и оценена, в результате чего в последние годы работы в театре им. Я. Купалы я стал получать роли в основном именно такого плана и с удовольствием их играл. Таким образом, любившие меня режиссеры усиливали во мне веру в то, что мое призвание – юмор, и, сами того не ведая, подготавливали почву для моего ухода из драматического театра.
Период начала увлечения юмором совпал с довольно тяжелой полосой в моей личной жизни: распалась первая семья, затем – вторая. Зато третья моя женитьба была ознаменована радостным и долгожданным событием: мы получили, наконец, отдельную квартиру и переехали из опостылевшей нам коммуналки. Укрепив тылы, я перешел к более решительным действиям на других направлениях, развернув, прежде всего наступление на юмористическом фронте.
B театре им. Я. Купалы есть специальный ящик с ячейками, соответствующими всем буквам алфавита, которые могут стоять в начале фамилий. В эти ячейки складывается корреспонденция, поступающая в театр и адресованная его работникам. Письма приходят не только от поклонников, присылают их иногда и официальные организации, случались даже денежные переводы, поэтому все сотрудники, войдя в театр, подходят первым делом к ящику с почтой, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь новенького.
Однажды, придя на работу, я заметил необычное скопление народа у этого ящика. Все что-то оживленно обсуждали, но, заметив меня, почему-то притихли. Я, слегка настороженный всеобщим вниманием, направился как обычно к ящику и увидел на столике рядом с ним письмо на мое имя. Кто-то, видимо, просматривал содержимое ячейки на букву «К» и, обнаружив это письмо, выложил его для всеобщего обозрения. А письмо и в самом деле было необычным, точнее его обратный адрес: г. Минск, Комитет государственной безопасности БССР, приемная. Я взял конверт в руки. Он был запечатан, но открывать его я не стал. Сразу сообразив, что это может быть розыгрышем, я решил для собственной страховки подыграть тем, кто его устроил. Сделав перепуганное лицо и большие глаза, сунул письмо за пазуху, поднял воротник плаща и, непрерывно оглядываясь, как шпион из мультфильма, побежал по лестнице вверх под смех, улюлюканье и свист собравшихся.
Найдя укромный уголок, я вскрыл конверт и ознакомился с его содержимым. Там находилась отпечатанная типографским способом учетная карточка с грифом «Секретно» на доверенное лицо. В ней были следующие пункты: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, образование, место работы, место жительства, номер служебного телефона, порядок осуществления экстренных встреч. На обратной стороне: меры поощрения (там должны были, видимо, фиксироваться 30 сребреников или иная выплаченная сумма), кем и за что поощрено лицо, дата поощрения и отметка о временном прекращении связи (нужно было указать дату и причину). Показательным в последнем пункте было слово «временном», означавшее, что тот, кто начал сотрудничать с этой организацией, не мог и помышлять о том, чтобы когда-нибудь навсегда разорвать с ней отношения. Карточка была заполнена на мое имя, в качестве меры поощрения мне якобы выплатили 250 рублей (прилично, при моей зарплате уже в 160 рублей) за доставленную информацию 15 марта 1986 года. Причиной временного прекращения связи указывался отъезд на гастроли. Можно было бы, конечно, посмеяться над чьей-то неумной шуткой, показать всем это письмо, а потом повесить его в туалете на гвоздик. Все ведь отлично понимали, что КГБ не могло поддерживать контакты со своими осведомителями при помощи почты. Но меня соблазнил бланк карточки, свидетельствующий о том, что это дело рук человека, имевшего доступ к подобным документам. Мы посоветовались с друзьями и решили нанести ответный удар, одновременно выяснив, кто же в нашем театре сотрудничает с органами, то есть, по-народному, является «стукачом».
Как известно, одним из чувств, присущих всем без исключения советским людям, был и остается страх. Кому-то он перешел с генами, кто-то приобрел его на основе собственного жизненного опыта, но результат одинаков – все боялись. А овеществленной причиной страха был в то время КГБ. Считалось, что он видит и знает все о каждом, что его люди есть везде, поэтому очень многие боялись высказывать самые робкие критические замечания в адрес власти даже при хорошо знакомых людях, опасаясь, что они могут оказаться осведомителями. А осведомители, или «стукачи», были раньше практически в каждом учреждении, становились ими кто за деньги, кто по убеждению, кто после совершения преступления, чтобы избежать наказания. Каждый «стукач», чтобы его не обвинили в бездеятельности или того хуже – в саботаже, должен был время от времени давать информацию. Но где ее набрать на всех? У нас ведь не работают в каждом детском садике или фельдшерско-акушерском пункте шпионы или диверсанты, поэтому содержание отчетов высасывалось из пальца или было откровенным доносом, если кто-нибудь имел неосторожность стать на пути агента «компетентных» органов. А так как любой из нас осознавал свою полную беззащитность перед мощью государства, то все предпочитали лучше с ним не связываться и не становиться «героями» сочинений доносчиков. Но для этого было бы неплохо их знать. У каждого на этот счет имелось свое мнение, которое ни проверить, ни опровергнуть практически было невозможно. КГБ свято хранит свои тайны, даже сегодня мы не знаем имен тех, кто с ним сотрудничал, и, думаю, не узнаем никогда. Были «стукачи» и в нашем театре, двоих, во всяком случае, мы знали точно, документально это подтвердить, конечно, не могли, но косвенных улик против них накопилось столько, что мы практически не сомневались в своих выводах. Кстати, эти люди до сих пор работают на ниве культуры, получают звания и, если и мучаются угрызениями совести, то, наверно, так, чтобы никто этого не заметил.
Для того чтобы лишний раз убедиться в своей правоте, мы с друзьями и начали «операцию» с полученной мной карточкой. План действий мы выработали следующий: я буду подходить с карточкой к группам наших артистов и с возмущением говорить: «Что это такое?! Завтра же пойду в КГБ и потребую, чтобы они разобрались. Как они хранят свою документацию, если для дурацких розыгрышей любой может украсть у них секретный бланк? Пусть найдут, чьих это рук дело, и накажут виновного». Мы рассчитывали, что «стукач», даже если он к этому делу отношения не имел, все равно испугается, потому что поймет, что подозрение органов обязательно падет на него, и его будут, как минимум, проверять, что уже само по себе не очень приятно. Скрыть своих чувств он, наверняка, не сможет, они отразятся на его изменившемся лице, и вот это-то и должны будут заметить мои друзья, которые за всем внимательно будут наблюдать, выбрав удобную позицию. Так, переходя от гримерки к гримерке, от курилки к буфету, мы проверили на своем «детекторе лжи» всех наших актеров и даже нескольких пенсионеров. Нам повезло: в тот день ставили «Людзi на балоце», а для этого спектакля всей труппы было мало, и приходилось «призывать» пенсионеров. Можете представить наше изумление, когда выяснилось, что менялись в лице, бледнели и тряслись после общения со мной не только те двое, в которых мы не сомневались, но еще человека три-четыре, то есть оказалось, что у нас в театре могло быть еще несколько артистов, завербованных КГБ. Разумеется, мы понимали, что наш метод проверки далеко не идеален, погрешность при определении результата могла быть очень велика, но все равно какой-то неприятный осадок в душе остался. И когда через несколько лет «Христофор» арендовал зал в клубе им. Дзержинского, я показал как-то свою карточку одному из офицеров КГБ и рассказал о нашем эксперименте. Он долго смеялся сначала, а потом сказал, что «несколько» – не такое уж немыслимое число, ему был известен случай, когда в организации из 25 человек завербованными были 13.
В театре им. Я. Купали много лет подряд Павлинку играла Алла Долгая. В одной из последних сцен спектакля, если помните, Павлинка собирает свои вещи и убегает из опостылевшего ей родительского дома к своему любимому. Однажды, чтобы разыграть Аллу, меня уговорили во время антракта лечь в огромный сундук, из которого она должна была брать вещи. Минут сорок пришлось мне пролежать там в скрюченном состоянии, пока, наконец, наступил момент, которого мы все с таким нетерпением ждали. Подбежав к сундуку, Павлинка открыла крышку, заглянула внутрь и… завизжала. Мало того, что она не ожидала там кого-нибудь увидеть, так я еще скорчил такую страшную рожу, оскалив зубы и вытаращив глаза, что меня можно было испугаться и в более спокойной обстановке.
Не успели мы отсмеяться, смакуя удовольствие от удачного розыгрыша, как Алла взяла себя в руки и закричала:
– Ой, якая страшэнная, насатая крыса!
Тут уж мои сообщники вместо смеха тихонько зааплодировали коллеге, выражая свое одобрение и восхищение ее находчивостью и самообладанием. Зрители-то не видели, что в сундуке, и подумали, что так и должно быть по замыслу режиссера. Мы все были удовлетворены развязкой инцидента и думали, что дальше спектакль пойдет как обычно, тем более что «жених» Аллы поторапливал ее, нетерпеливо протягивая к ней руки. Но Алла, видимо, не ощущая себя достаточно отмщенной, поэтому, попросив «жениха» еще немного подождать, взяла стоявшее на сцене ведро с водой и со словами «зараз я яе, паганую, утаплю» медленно вылила на меня всю воду. Только потом она с чувством исполненного долга закрыла крышку, улыбнулась и радостно выпорхнула из окна прямо на руки своему милому. Правильно говорят – женщины шуток не понимают.
Дело было летом на гастролях в Киеве. Мы жили тогда в гостинице «Украина», которая представляет собой огромный комплекс зданий с бесчисленным количеством коридоров, переходов, ответвлений и тупиков. Зачем я об этом пишу, вы скоро поймете…
В тот год стояла невыносимая жара, поэтому, придя в номер в свободное от выступлений время, артисты сбрасывали с себя почти всю одежду и ходили полуобнаженными. Однажды, когда наши маститые Гарбук, Овсянников, Дубашинский и Белохвостик сидели в своем номере в описанном только что виде и пытались спастись от духоты при помощи… горячительных напитков, зазвонил телефон. Девушка с того конца провода попросила передать трубку Валентину Белохвостику. А это, кто не знает, был один из самых импозантных мужчин у нас в театре: высокий, представительный, с сильным голосом, ему всегда доверяли играть больших начальников, партийных секретарей и героев-партизан. Когда он подошел к телефону, собеседница представилась его страстной поклонницей, влюбившейся в него с первого спектакля, и начала расхваливать Валентина Сергеевича на все лады: что она таких мужчин никогда не видела, что у них в Киеве вообще настоящих мужиков не осталось, даже глаз не на кого положить, он – ее идеал, поэтому она специально пришла в гостиницу, чтобы быть к нему ближе и, что является пределом ее мечтаний, с тайной надеждой, что удастся с ним встретиться. Если он не возражает, то она будет ждать его у телефона-автомата на шестом этаже, и объяснила, как туда пройти. Разгоряченный жарой, выпивкой и продолжающимися уже месяц гастролями Белохвостик сразу клюнул на лесть и согласился. Друзья пытались его отговорить, но он быстро привел себя в порядок, натянул выходной костюм и ушел.
Вернулся Валентин Сергеевич в номер где-то через полчаса, злой и раздраженный. Оказывается, он все это время простоял у телефона-автомата, но никто к нему не подошел. Только он разделся и присел за стол, как снова раздался телефонный звонок. Уже знакомый девичий голос с обидой начал выговаривать Валентину Сергеевичу за то, что он заставил ее столько ждать, а сам не пришел. В процессе разговора выяснилось, что они ждали друг друга на одном этаже, но у разных телефонов. Белохвостик, чувствуя свою вину перед девушкой и считая, что он из-за жары чего-то напутал, извинился, попросил подождать его еще чуть-чуть и пообещал, что сейчас придет. У Валентина Сергеевича опять загорелись глаза, он наспех надел рубашку, костюм, друзья снова завязали ему галстук, потому что сам он не умеет этого делать, принял для храбрости стаканчик вина и ушел, теперь уже на другую сторону гостиницы.
Прошло еще полчаса, дверь номера распахнулась и появился Белохвостик, заметно более злой, чем после первого похода. Он начал яростно срывать с себя одежду, крича при этом, что больше он на такую провокацию не поддастся и что никакая земная сила не заставит его сдвинуться с места.
Как только Валентин Сергеевич снова принял вид такой же, как у друзей, ожил телефонный аппарат. Белохвостик со злостью сорвал трубку, приложил ее к уху, но ничего не стал почему-то говорить, зато было видно, как выражение его лица начало меняться от раздраженного к озабоченному. Дело в том, что девушка, чуть не плача, обвиняла его в издевательстве над ней. Она до сих пор ждет его у телефона и, если он не хочет приходить, то мог бы сразу сказать, а не заставлять ее столько ждать. Валентин Сергеевич начал оправдываться и оказалось, что девушка пошла к тому телефону, где он ее ждал в первый раз, а он – наоборот – к тому, где раньше была она. Умоляя девушку подождать еще пару минут, Белохвостик свободной рукой начал натягивать на себя брюки. Затем, положив трубку, он быстро, по-солдатски, оделся, друзья опять завязали ему галстук, налили «на посошок» и, похлопав по спине, проводили в путь. Проклиная на ходу гостиницу, которая больше похожа на лабиринт, Валентин Сергеевич помчался на свидание.