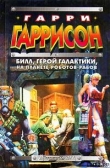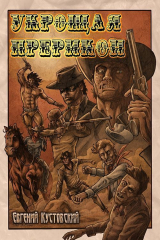
Текст книги "Урощая Прерикон (СИ)"
Автор книги: Евгений Кустовский
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Глава первая
Кровавый бордель
Кнут недолюбливал Кавалерию с самого первого дня его в стае. Освободить бывшего каторжника из петли за миллиметр от погибели, перебив веревку точным выстрелом из винтовки, было капризом его предшественника, – Падре, к которому все обращались не иначе как отче. Этот был сам той еще птицей: бывший священник, незнамо как и почему замаравший рясу грязью беззаконья и сумевший собрать вокруг себя свору горячих голов. Падре был себе на уме, витал повыше пыльных кабаков и грязных борделей. Смотрел бы на землю чаще, глядишь, и не проворонил бы наметившийся мятеж у себя под носом.
Так получилось, что на момент бунта, Кавалерия, быстро ставший в банде доверенным человеком, с несколькими людьми отлучался по делу, порученному ему Падре (Кнут специально подобрал момент). Когда же вернулся в лагерь, с прежней властью в разбойничьем стане было уже покончено. Люди Кавалерии тут же переметнулись на сторону Кнута. Беглому каторжнику, окруженному стаей гиен, оставалось только принять волю сильного. И вновь Кавалерия был разжалован, из овчарки паствы Падре превратившись в волка стаи Кнута. Невелика потеря, – и большей чести он лишался! Куда бы не прибившись, к какому бы обществу не примкнув, по воле случая везде превращаясь в гонимого отступника, раньше или позже.
Едва ли Кнуту понравилась его сдача. Как заскрипели зубы негодяя, когда Кавалерия снял шляпу и поклонился, одним движением отдавая дань уважения праху старого хозяина и принимая нового. На тот момент Кнут не посмел его тронуть: власть его была тогда еще шатка, а слава Кавалерии громкой. Теперь дела обстояли иначе.
Кнут знал, что сукин сын спит чутко. Напасть же на Кавалерию открыто у него была кишка тонка. Кавалерия только прикидывался волком, на деле же был волкодавом. Один на один он разделался бы с Кнутом в два счета. Открыто проявить слабость значило натравить свою же свору на себя, эти гиены чуяли неуверенность, как гончие запах. Рычагами влияния на них были страх и алчность, свист каждого удара хлыстом и звон каждой монеты золотом укрепляли его власть. Чтобы прибегнуть к помощи своих, Кнуту нужен был повод – веская причина. Но Кавалерия не давал ему повода, и тогда Кнут, будучи не в силах уже терпеть его общество рядом с собой, начал активно искать способ избавиться от каторжника.
Месяцами он перебирал в голове варианты. Каждый вечер, сидя у костра в окружении своих телохранителей, Кнут проводил часы, с ненавистью глядя в ту сторону, куда ушел ночевать проклятый каторжник. В дневное время он держался с ним, как с прочими людьми, старательно подавляя угольки ненависти, тлеющие в глубине его мутных, крокодильих глаз. Он избегал прямых взглядов, заливал тот жар водой из черновой работы, лавиной сыплющейся на голову Кавалерии. Тот молча и со знанием дела выполнял поручения, никто из банды не сделал бы эту работу лучше него. Только слабая дымка ругательств возникала порою над затушенным кострищем в груди Кнута, где под слоями золы и песка скрывался такой жар, что, казалось, лишь развороши, только посмей тронуть, – и вспыхнет такое пламя, что сгорят все прерии. Уничтожить – вот что Кнут мечтал с ним сделать! Проломить ребра! Вырвать из груди его еще бьющееся, истекающее кровью сердце и пожрать его сырым! Сорвать плоть с его костей и высосать костный мозг! Перемолоть то, что останется, в муку и начинить ею пули, чтобы и после смерти каторжник не прекращал грешить, опускаясь в раскаленную магму вод Стикса все глубже, и глубже, и глубже…
Лучшим способом было прикончить Кавалерию втихую на разбое, когда в общей суматохе ничего различить невозможно, а после нее никто уж точно не будет оплакивать его гибель и разбираться с тем, откуда прилетела роковая пуля, – просто еще один мертвый компаньон. В открытой битве, его родной стихии, бывший вояка забывался, всецело отдаваясь процессу, нанося и получая раны. В прямом столкновении каторжник был страшен, как демон из преисподней, но даже ангела смерти можно сразить пулей.
К сожалению для Кнута, при всей своей безграничной ярости и затаенной ненависти, он был трусом. С момента смены власти никто из банды не вступал в настоящую схватку, в которой пороха сжигается столько, сколько серы на хельмрокских берегах, а из потраченного в бою свинца можно отлить статую хохочущего дьявола в полный рост.
Они грабили и убивали теперь только слабых, каких на просторах Прерикона было немало. Добыча с одного дела была много скуднее, чем раньше, но зато самих дел становилось больше, смертей среди головорезов меньше. Жизнь упростилась, а ее качество почти не пострадало. Все члены стаи были довольны, никто не роптал, а даже если бы кто и посмел, то на следующее же утро не проснулся бы.
Кавалерия не давал слабины. Он пал уже настолько низко, что без тени сомнения обрывал жизни простых работяг-фермеров, честным трудом пытающихся выжать хоть что-нибудь из неподатливой здешней почвы. Носи он по-прежнему эполеты своего давным-давно порезанного на полосы офицерского мундира, их металл бы порыжел не от ржавчины, но от пролитой невинной крови, увиденного и сотворенного им самим бесчестия. Единственное, чего не терпел беглый каторжник, – это насилия над женщиной. Однажды Кнут поймал его на этой слабости.
К тому моменту он уж притерпелся с мыслью о невозможности сию минуту разделаться с Кавалерией. Падре держал Кнута – этого волка в овечьей шкуре – на коротком поводке, считая самым паршивым ягненком из своей отары. Уже тогда Кнут затаил злобу на Кавалерию, за много меньший срок в кампании добившегося куда большего, чем он, своим беспрекословным подчинением, непогрешимой службой и верностью идеалам безумного священника.
Когда же Кнут сам обзавелся стаей, его взбесила невозможность тут же разделаться с этим лишним вожаком. Обладая хорошими инстинктами и умея их слушать, он проявил предосторожность тогда и сдержался, за что частенько корил себя впоследствии. Привыкший иметь дело с простыми и понятными мотивами человеческих поступков, такими как жадность, похоть, чревоугодие, каторжник был для Кнута закрытой книгой, написанной на неизвестном языке. Кавалерия некогда был гордым линкором, гордостью его величества, Кнут – вонючей и грязной галерой работорговцев, предел плавания которой прибережные воды. У него не было ни компаса, ни карты, он не умел читать звезд, никогда не смотрел выше голов своих рабов, упряженных в кандалы рабочих лошадок, его хлыст – и тот вздымался выше его взгляда. И, наконец, он попросту не обладал достаточной храбростью, чтобы отважиться забраться так далеко в океан познания человеческой сути, у него к тому же никогда не возникало потребности это сделать. В мире Кнута все всегда было легко и понятно, и эта внезапно возникшая сложность в лице Кавалерии лишь распаляла огонь его ненависти.
«Или он, или я!», – думал Кнут каждый день, пряча глаза.
Дни напролет Кавалерия держал руку на кобуре револьвера.
Он не смог удержать ее в тот день, когда пятеро ублюдков разорвали корсет госпожи борделя одного из городков, в который бандиты заехали праздновать удачное дело. Они хотели услуг, но не хотели за них платить, – частая подоплека для конфликта интересов в Прериконе, в которым жизнь и состоит подчас из одних только конфликтов интереса.
Тертая жрица любви была далеко не первой свежести женщиной. Бутон ее розы почти завял к тому моменту времени, когда банда Кнута пожаловала в безымянный городок шахтеров на фронтире, как, впрочем, и бутоны большинства цветов ее заведения. Иной раз смотришь на такую клумбу и думаешь, что было бы, не взойди эти красавицы в здешних проклятых землях, где на грамм почвы столько соли, что можно песком ружье заряжать, и оно будет стрелять без осечки? Что если бы вместо помоев из ругани, перегара и пустых обещаний их с раннего детства поливали бы чистой водой, холили и лелеяли заботливые руки садовника? А корни бы их нежились так в черноземе, как ножки столичных леди нежатся в бархате туфель – гордости модных бутиков, что тогда? Уж наверное, тогда бы у розы не имелось шипов.
В тот миг, когда дверь борделя распахнулась, а внутрь проник красный свет заходящего солнца, блеснуло лезвие, багровым бликом отразив его лучи, и одно из вонючих тел, обступивших цвет провинции, с громким грохотом повалилось на пол. В глазнице разбойника торчал стилет, всаженный в нее по самую рукоять, еще несколько секунд назад кинжал покоился в ножнах, закрепленных на бедре продажной женщины. На неподвижном лице мертвеца, как на театральной маске из гипса, отразилась одна из редких, но незабываемых звериных гримас, столь характерных для лиц мужчин, убитых в минуту прелюбодеяния. В ней смешалась сила и слабость, похоть и удивление от собственной внезапной кончины. Любуясь красотой пойманной пчелы, и энтомолог иногда забывает, что у вожделенной им красотки вообще-то имеется жало. Эта пчела до поры до времени прятала свое под подолом. К сожалению, жало у пчелы одно, а за его потерей неминуемо следует гибель насекомого.
Оставшиеся четыре головореза, лицезрев внезапную смерть шестого, опешили на миг. Не сговариваясь, как по команде, каждый из них сделал по одному шагу назад, позволив вошедшему в бордель человеку разглядеть разъяренную проститутку во всей ее красе. Смесь ярости и презрения на лице публичной женщины разом сбросили с него багаж десятка лет, проведенных в объятьях тысячи мужчин. Черты ее лица, пожалуй, слишком грубые для запечатления его на картине, без сомнений, были по-своему привлекательны в тот миг, когда озарились закатом. Если бы не длинная борозда на левой щеке – шрам от ножа, нанесенный одним из буйных и ревнивых клиентов прошлого, она бы по-прежнему не имела отбоя от клиентов.
«Нет отбоя, – есть побои!» – распространенная поговорка среди прериконских продажных женщин. Их судьба, – одна из возможных судеб женщин на границах изведанного. Родившихся, выросших и погибших нравственно, прежде чем погибнуть физически, здесь, между цивилизацией и первобытным миром. К сожалению, она же и одна из наиболее распространенных судеб. Публичный дом – порочное дитя природной тяги человека к насилию и необходимого послабления мер закона в той необычной его форме, которая в Прериконе возможна. В тот день алтарь одного из множества таких храмов любви, возникающих на по-своему прекрасном лице прерий по мере освоения их колонистами так же быстро и неотвратимо, как возникают язвы на лице больного оспой, обагрился кровью.
Лишь только дверь захлопнулась, а свет померк, как тут же прекрасное лицо воинственной женщины потеряло для мужчин свою божественную красоту и, следственно, неприкосновенность, оставшись лишь с плотской привлекательностью. Головорезы бросились на нее и прижали к столу с такой легкостью, словно перед ними был не человек, но тряпичная кукла. Сил этим дрянным койотам прибавляло влечение чресел и предчувствие скорого удовлетворения того голода, что сильнее всего терзает разбойников и моряков, привыкших подолгу обходиться без женщин. Об убитом товарище они почти сразу же позабыли и только если не лаяли от радости. Первоначально возникшая в них было ярость от нежелания жертвы сдаться и отдаться им на потеху, теперь сменилась тупым зудом инстинкта размножения. Он заставляет петуха топтать кур, а мужчину показывать худшие стороны своей натуры.
Госпожа лежала на круглом столе, надежно схваченная по рукам и ногам, вертя головой с той же бешенной скоростью, с которой шарик вертится на запущенной рулетке, и крупье, и все игроки, и зрители, – словом, все присутствующие в казино гадают: кто же сорвет банк? Глаза мужчин горели азартом, они до того возбудились, что шумно дышали, пыхтели, как носороги в брачный сезон. Пока несчастная вертела головой, ища помощи там, где ее по определению ей было не найти, где летучими мышами притихли подопечные ей девушки, страшась той же участи, а также прочая клиентура борделя с расчетом не платить, головорезы переглядывались между собой, решая, кто же будет первым.
Двое вцепились ей в руки, как два кола, пронзившие ладони грешника на Голгофе; двое отбросили подол платья и растянули ноги, оголив подвязки вавилонской блудницы. Ее чулки, многократно штопанные, были все равно дырявыми, а исподнее грязным, но даже так в этот момент проститутка была много чище навалившихся на нее мужчин. Сравнивать их добродетель, все равно что сложить на одну часу весов души всех убитых головорезами, а на другую – невинность всех юнцов, растленных этой падшей женщиной. Взявшись судить, помните только о том, что всех проституток когда-то растлили, а каждый головорез когда-то был невинным юнцом.
Для проститутки все поблекло, утратило свои краски. Остались лишь три цвета рулетки, этого «чертового колеса», захватившего ее всю целиком, сделав лишь шариком на своей карусели: черный, белый и красный… Черными казались мужчины, схватившие ее и прижавшие к столу, белым на их фоне казался бордель, красный лучик света проскользнул сквозь щель в двери и упал на ее лицо, осветив испуг в расширенных зрачках.
Тем временем рука злодея, удерживающего ее правую ногу, скользнула выше подвязки, вдоль внутренней части бедра подбираясь к тому, чем мужчины хотят обладать.
Еще одному – этот держал ее правую руку – показалось забавным схватить женщину за волосы, намотав те на ладонь, как какую-нибудь веревку, и приподнять ее голову так, чтобы она могла видеть, что происходит, а не только ощущать. Она же, извернувшись, сумела вцепиться негодяю в ухо зубами, откусив от того добрый шмат мяса и сплюнув ему же в лицо. Теперь ее губы были красными не только от света заходящего солнца.
Разбойник вскрикнул от боли, тут же выпустил ее волосы и тупо уставился на шмат мяса, лежащий у его ног. Поднес пальцы к кровоточащему уху, оторопело посмотрел на кровь, оставшуюся на их кончиках. Затем, поняв, наконец, что случилось, и рассвирепев, он стремительно вынул из ножен на бедре широкий охотничий нож, которым имел обыкновение свежевать дичь и вскрывать глотки дураков, вставших у него на пути, и всадил его на треть лезвия в столешницу, в миллиметре от вздернутого носа проститутки, едва не оттяпав его кончик. Женщина истошно завизжала.
Два напарника горе-любовника, стоявшие по левую сторону стола, искренне расхохотались. Третий, увлеченный женскими ногами, никак не отреагировал на происшествие, уже почти с головой нырнув под подол.
– Старая шлюха, а зубы, как у молоденькой кобылки! – крикнул один другому и растянул во всю ширь лица мерзкую улыбку, от уха до уха, показав гнилые пеньки своих собственных зубов и их кровоточащие десна.
– А визжит, как свинья… Ну ничего! Уж я-то найду ее жемчугу применение, когда с прочим телом позабавимся! – пообещал в ответ второй койот, оскалив пасть, не менее отвратительную. На его шее висело ожерелье из человеческих зубов, – ублюдок коллекционировал трофеи. Их на нити висело уже не меньше дюжины, по одному с каждого убитого им.
Последний бандит был из числа тех приближенных к Кнуту отбросов, которые примкнули к стае позже, уже после смерти Падре. Разбойник разбойнику рознь – отче бы никогда не допустил среди своих людей подобной низости и самоуправства.
Кнут же сидел в это время на диване, с наслаждением потягивая местное дрянное виски прямо из бутылки и наблюдая бесплатное представление, устроенное членами его кочующей труппы. По обе стороны от него застыли мраморными статуями две молодые девушки, каждая выше Кнута на голову. Обычно живые и громкие, смеющиеся, чтобы завлекать клиентуру, сейчас их сложенные на коленях руки заметно дрожали. Страх насилия породил в девушках целомудрие и сдержанность, даже проститутки сойдут за жеманниц, пригрози им кто-то всерьез отхлестать их плетью.
В углу зала, между стеной и разрушенным прикладами ружей пианино, забился, дрожа от страха и ненависти, паренек лет семнадцати, с виду типичный южанин. Как и все жители юга, он обладал смуглой кожей, приплюснутым носом, мясистыми губами и широкими бровями, курчавыми волосами, был строен, как палочка дирижера. Пожалуй, многие из здешних посетителей предпочли бы его большинству местных женщин, если бы им представился подобный выбор, однако паренек не продавался. Пальцы его правой руки, искалеченные больше, чем пальцы левой, были замотаны в носовой платок и прижаты к груди, а взгляд больших карих глаз неотрывно следил за Кнутом, за каждым его движением, за каждым вздохом. Это был местный пианист, нанятый играть развязные мелодии, чтобы клиенты лучше проводили время и больше тратились. Вернее, он был пианистом ранее, до этого вечера, до того, как лишился пальцев, а вместе с ними заработка и смысла жизни.
– Дай-ка я погляжу, а то что-то ты больно долго возишься! – не вытерпел вдруг коллекционер зубов, пригвоздив руку проститутки за рукав собственным ножом. Его лезвие вошло в столешницу больше чем на половину, этот разбойник был рослым малым, отличался большой физической силой, обладал бычьей шей и размером с добрую пинту кулаками.
Подскочив к заигравшемуся компаньону, он отбросил его от стола одним резким движением руки, достав из-под подола женщины, как акушер достает новорожденного. Этот «младенец» был отнюдь не невинен, обладал густой растительностью на лице и дурным нравом. Упав, он тут же встал на ноги с намерением отстоять свои права на добычу, но почти сразу же слег обратно, подкошенный мощным ударом в челюсть. Его глаза потухли, и он выбыл из игры, на этот раз всерьез и надолго.
Удостоверившись, что соперник усыплен, амбал с ожерельем на шее вернулся к женщине. Увлеченный процессом расправы над противником он не заметил человеческий силуэт, так и застывший на месте с того момента, как в бордель вошел неизвестный посетитель. Его не трудно было пропустить, ведь таинственный незнакомец стоял без движения, и только свет солнца, которое должно было окончательно скрыться за горизонт с минуту на минуту, проникая лучами сквозь щели, создавал красноватый ореол вокруг его широкополой шляпы. Если бы кто-то из людей, находящихся внутри, и вспомнил бы сейчас о нем, то подумал бы, наверное, что бедняга попросту впал в ступор от страха попасть под раздачу. Между тем это было не так, неизвестный выжидал подходящий момент для своего вмешательства. Он отлично знал сброд, с которым разъезжал по прериям, изучил его нрав и повадки, – знал, что делиться, а тем более уступать, разбойничье племя не умеет, и был более чем уверен в том, что непременно завяжется драка. Так оно и вышло.
Госпожу же, казалось, куда больше собственной жизни заботила теперь целостность ее платья, после того, как нож пронзил его рукав. Ее опасения на этот счет ясны: изысканная материя на фронтире стоит дорого, и все же только по-настоящему падшая женщина могла в такой момент подумать о деньгах.
– Берите уж, что хотите, ублюдки, и выметайтесь! Только ткань пощадите! – прорычала она сиплым голосом и, казалось, совершенно расслабилась. Все ее тело вдруг из туго стянутого узла превратилось в прямую нить, словно кто-то вытянул нужную петлю, тем самым узел развязав. Так ведет себя мошка, попавшая в сети паука, окончательно выбившись из сил. Все, что ей остается, – это принять черный рок.
Недоумение отразилось на лицах трех лап этого паука, его почти сразу же сменила дрожь предвкушения, они ослабили хватку, – лицо четвертой лапы, напротив, исказила ярость.
– Э-э-э, нет, дорогуша! Момент ушел, кровь слишком горяча теперь! Только лишь лоном и платьем ты у меня не отделаешься! – пообещал старой проститутке амбал, наклоняясь над ней с адской ухмылкой и разрывая подол драгоценной ее одежды на две ровные половины. Ткань темно-синего платья рвалась с громким треском, будто молния прочертила ночное небо, разделив то надвое. В тот момент, когда яркий росчерк этой молнии погас, когда амбал отпустил края разорванного подола, – грянул гром!
К тому момент вращение колеса рулетки почти завершилось, шарик замер, прильнув к ребру, делящему черное и зеленое, замер со стороны черного. Все были уверены в том, что подобно волне во время отлива, он уступит законам природы, и как в нынешней век суеверия уступают место научному подходу, так и шарик отступит от возникшей на его пути преграды, доказав, что в мире нет ничего непредопределенного свыше. Исход этой истории, однако, принял оборот отличный от того, который каждый из присутствующих в зале предполагал с самого ее начала, и только один человек во всем заведении знал до последнего, чем дело обернется. Этим человек был не Кнут.
Дело в том, что Кавалерия – он-то и есть таинственный незнакомец, замерший у дверного проема – предпочитал другой вариант этой игры. Кавалерия был из тех мужчин, которые держат руку на пульсе: опытный танцор – он не любил выбиваться из общего ритма, во многочисленных переделках с его участием почти никогда не допускал этого. Как жизнь научила его однажды, когда теряешь контроль за ситуацией – оказываешься ее заложником, он же слишком часто играл в карты с дьяволом, чтобы полагаться только на удачу. Леди фортуна, знаете ли, натура слишком ветреная. Она даже, пожалуй, и поизменчивей этой гетеры на столе будет, уж и отчаявшейся ждать поддержки откуда-либо. В такой игре ставки куда выше рулетки, в преисподней в качестве игральных карт в ходу Таро.
Никто не ждал вмешательства, но оно произошло. К тому моменту солнце исчезло за горизонтом, немного не дотерпев к окончанию подзатянувшейся пьесы. С улицы свет внутрь больше не проникал, и только люстры да канделябры, тусклый огонь их свечей освещал импровизированную сцену. Спектакль близился к развязке, актеры вышли в последний раз, большинству из них не суждено было поклониться публике – выстрел прогремел из-за кулис.
Выстрел отнюдь не был бутафорским, в том варианте рулетки, в котором Кавалерия был искушенным игроком, где «чертово колесо», – барабан револьвера, стрелок сам выбирает, кому улыбнется удача.
Щелчок курка и ставка на черное! Вспышка света и запах пороха! Первый выстрел был откровением: все равно что взорвать шашку динамита в закрытом пространстве пещеры. Летучие мыши, доселе взиравшие на происходящее издалека своими красными, как фонари у парадного входа в бордель, глазками, разразились испуганным писком. Их черные тучи метнулись к выходам. Обычные жители городка, проститутки, приезжие и даже несколько бандитов с особо острой формой медвежьей болезни вылетали сквозь окна, вынося ставни вместе с собой. Раздалось несколько глухих ударов, – это перевернулись диваны, из мягкой мебели превратившись в баррикады. Только дула торчали над ними, направленные вертикально вверх, в потолок: нечего тратить пули, пока не выяснена обстановка. Изредка над преградами возникали глаза – это шестерки Кнута, его разменная монета, изучали торг.
Между тем азарт захватил игрока – нету в мире заразней болезни. Раз масть пошла, – значит, еще одну ставку на черное! И новый выстрел сотряс своды пещеры. Третьего не понадобилось, к огромному сожалению вошедшего в раж игрока, казино закрылось раньше положенного срока. Видя, что подмога из зала не спешит вмешаться, один из оставшихся в живых насильников повалились на колени, умоляя сохранить ему жизнь. Из оборванного уха мерзавца продолжала сочиться кровь. У него тоже были при себе револьверы, но когда играть в шахматы с новичком садиться гроссмейстер, мат получается детским. Медленно он вложил револьвер в кобуру. Оставаясь у двери, во тьме, Кавалерия, как маститый живописец, осматривал нарисованный им натюрморт. Немедленной расправы Кнута он не страшился – этот трусливый крысиный король и курок взвести побоится, пока не убедится наверняка в том, что его сторона многочисленнее.
Амбал с ожерельем на шее, пораженный в спину, рухнул навзничь с простреленным сердцем. Он упал головой туда, куда при жизни так сильно стремился попасть, не в эдемские кущи вовсе, но между ног у продажной женщины. Кровь из прошитой насквозь груди залила изорванный подол ее платья. Своеобразное получилось зрелище и в этот раз вполне для кисти художника. Второй сраженный пулей лежал на полу. Стол перекрывал его тело почти целиком, загораживая от взора убийцы, как саванн покойника. С того места, где стоял Кавалерия, видно было только его ноги, сапоги на них дрожали, вшивый койот как раз собирался испустить дух.
Едва опомнившись от неожиданного спасения, проститутка не разрыдалась от счастья, как сделала бы честная или слабая женщина, вместо этого она схватилась за рукоять ножа, всаженного в столешницу справа от себя, – его было проще выдернуть, чем тот, что засел в ней слева. Прямая нить госпожи опять завязалась в узел, она снова была хозяйкой заведения, но пока что своим поведением показала лишь преисполненную глубочайшей ненависти женщину, лишенную и доли прежней властности. Схватив рукоять ножа обеими руками, ей со второго раза удалось его вырвать из столешницы, затем она принялась с остервенением лупить ножом по спине уже мертвого амбала, силой едва не овладевшего ее телом. Покойник молча сносил удары, лишь немного подрагивая от них. Казалось, труп хотел хоть на мизер искупить вину мелкой душонки, раньше жившей в нем, позволяя женщине выместить свой гнев.
Один из прежних командиров Кавалерии был, кроме того, что заслуженный офицер, еще и благородных кровей, и, как у них водиться, очень любил кулачные бои. Он был ярким примером представителя нового поколения сливок общества, о которых сочиняют современные писатели и от которых отрекаются отцы. Человек многих пороков, он не гнушался и сам окунуть руки в грязь по локоть, сбить кулаков костяшки об челюсть какого-нибудь дюжего молодца из простой четы. Надо ли говорить, как его уважали те из солдат, что вышли из низов? Да они родителей своих уважали меньше! По крайней мере, те из них, которые своих знали в лицо. Так вот этот черт усатый в перерывах от кутежа и мракобесия, занимал досуг тем, что сочинял своим бойцам диеты и тренировал их лично. Он, в частности, выдумал практику использовать в качестве наглядного пособия для подающих надежду новичков тушу свиньи, подвешенную на мясницкий крюк. Эта туша имитировала человеческое тело. Подготовленная таким образом зелень знала, что ее ожидает в бою еще до первого выхода на ринг.
То, чем занималась сейчас проститутка с телом неудавшегося любовника, навязанного ей судьбой, напомнило Кавалерии его собственные уроки. В прошлом ему и самому доводилось ступать на ринг под началом того командира. Он даже принес ему несколько славных побед и имел некоторый успех в благородном искусстве бокса, а также в обществе продвинутых дам, не гнушающихся этого исконно мужского занятия.
К сожалению, для выжившего разбойника разыгравшийся вдруг аппетит этой проститутки к зверствам не способно было удовлетворить одно лишь надругательство над трупом убитого. Как валькирия она взлетела в воздух, как оса вновь отрастила жало. С неожиданной для особы ее возраста прытью госпожа перескочила со стола прямиком на преклонившего колени разбойника, оседлав его. Еще пятью минутами ранее, койот внутри него бы залаял от восторга. Лишь краткий хрип вырвался из глотки поверженного теперь, когда до красной крови амбала на лезвии кинжала домешалась его собственная кровь. Проститутка вскрыла его горло с быстротой кобры и уверенностью семь раз отмерившей швеи, – вот каким боком нож вернулся к своему владельцу.
Вместе с последним проблеском света в стекленеющих глазах головореза, кулисы кочующего театра месье Кнута упали, чтобы больше не подняться в этом городе. И как актриса, вышедшая из роли, стоило завесе упасть, как тут же госпожа прильнула к груди только что убитого ею, измазывая лицо в собственноручно пролитой его крови. Она напоминала сейчас алчную вампиршу, нежелающую упустить ни капли жизненных соков из жил своей жертвы или воплощенный ночной кошмар, вытягивающий из спящего всю жизнь без остатка вместе с последним его дыханием.
Она сделала несколько глубоких и судорожных вдохов, а затем поползла по полу к ногам своего спасителя так же медленно, как он вкладывал свой револьвер в кобуру. Изорванный подол ее платья, пропитавшись кровью, потяжелел и, будто тряпка матроса, драящего палубу корабля после абордажа, оставлял за проституткой кровавый след по мере ее движения. Обхватив руками его ноги, она принялась лобызать один из сапогов Кавалерии, когда же он убрал ногу, просто замерла, прильнув своим телом к его коленям. Скупые слезы продажной женщины не смогли промочить жесткую ткань его штанов, а уж тем более достичь его сердца.
Длились минуты, вот и крыса наконец показала свою морду из подполья. Целая стая их, переплетенных между собой хвостами, вылезла из-за баррикад и двинулся спиной к спине по направлению к выходу из здания. Бандиты замирали от каждого шороха, порой от скрипа досок под своими же сапогами, дула их ружей и револьверов смотрели то туда, то сюда. Даже стрелок такой выучки, как Кавалерия, не совладал бы со всей этой кодлой в одиночку. Продолжение бойни, однако, не входило в его планы. Отстранив от себя женщину, для чего ему понадобилось приложить немало усилий, Кавалерия вышел на свет. Револьверы разбойников тут же опустились, а после вновь поднялись – никто не ожидал увидеть знакомое лицо по ту сторону дула.
– Сукин ты сын! И как я должен это понимать?! – вышедший вперед Кнут спрашивал для порядка, на деле же он сразу все понял и воспринял весьма однозначно, едва завидев лицо ненавистного ему каторжника. Даже если бы его предположение оказалось ошибочным, чего, конечно же, никак не могло случиться при данных очевидных обстоятельствах, то он бы все равно сбросил всю вину за случившееся на Кавалерию за неимением и нежеланием другого виноватого. Произошедшее было как раз тем случаем, тем поводом, которого он так долго ждал. И этот повод наконец представился ему, он не мог и не желал его упускать. – Бывший военный, – тоже мне… Ты слышишь меня, каторжник? Остатки твоего растерзанного мундира давно уже пустили на половые тряпки, а ты по-прежнему вступаешься за всякую шваль? Святоша! Убийство четверых компаньонов, моих людей, я не спущу тебе с рук! – речь Кнута своими интонациями напоминала речь прокурора, уверенного в успешности своих обвинений. Он не спрашивал, он уличал, тем смешнее это выглядело, если учесть, кто говорил.
Головорезы же на были на этом суде нечистого присяжными. Даже вступись за него сам лукавый, дьявол – и тот не смог бы так солгать, чтобы обратить этот процесс в пользу Кавалерии. Каждое слово Кнута било точно по цели, так же хлестко, как звучало его имя. С каждым словом затягивался хомут петли вокруг шеи каторжника. В прошлый раз веревку перебила пуля, так удачно пущенная из ружья бывшего священника, как молния не бьет два раза в одно место, так и одно и тоже чудо господне не случается дважды с одним человеком.