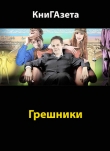Собрание сочинений. Том 4

Текст книги "Собрание сочинений. Том 4"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Баллада о Муромце
Что имелось в эту ночь?
Кое-что существенное.
Был поселок Нельмин Нос,
и была общественность.
Был наш стол уже хорош.
Был большой галдеж.
Был у нас консервный нож
и консервы тож.
Был и спирт,
как таковой,
наш товарищ путевой
с выразительным эпитетом
и кратким:
«Питьевой».
Но попался мне сосед
до того скулежный,
на себя,
на белый свет, —
просто невозможный.
Он всю ночь крутил мне пуговицу.
Он вселял мне в душу путаницу:
«Понимаешь, бляха-муха —
невезение в крови.
У меня такая мука —
хоть коровою реви.
Все нескладно,
все неловко.
В жизни форменный затор.
Я мотор купил на лодку —
в реку плюхнулся мотор.
Надо мной смеются дети.
От меня страдает план.
Я в Печору ставлю сети —
их уносит в океан.
Бляха-муха,
чуть не плачу
от себя, как от стыда.
Я в снегу капканы прячу —
попадаю сам туда.
Может, я не вышел рылом,
может, просто обормот?
Но ни карта, и ни рыба,
и ни баба не идет…»
Ну и странный сосед, —
наказанье божье!
И немного ему лет —
тридцать пять,
не больше.
И лицом не урод,
да и рост могучий, —
что же он рубаху рвет
на груди мохнучей?
Что же может его грызть?
Что шумит свирепственно:
«Бляха-муха,
эта жисть
неусовершенствована!»
А наутро вышел я
на берег Печоры,
где галдела ребятня,
фыркали моторы.
А в ушанке набочок,
в залосненной стеганке
вновь тот самый рыбачок,
трезвенький,
как стеклышко.
Между лодками летал,
всех собой уматывал,
парус наскоро латал,
шебаршил,
командовал.
Бочки, ящики грузил,
взмокший
будто в бане.
Бабам весело грозил
вострыми зубами.
«Пошевеливай, народ —
он кричал и ухал. —
Ведь не кто-нибудь нас ждет
семга,
бляха-муха!»
Было все его —
река,
паруса,
Россия.
И кого-то у мыска:
«Кто это?» —
спросил я.
И с завидинкою,
так
был ответ мне выдан:
«Это ж лучший наш рыбак,
развезучий,
идол!»
К рыбаку я подошел,
на него злючий:
«Что же ты вчера мне плел,
будто невезучий?»
Он рукой потер висок:
«Врал я не напрасно.
Мне действительно везет —
это и опасно.
И бывает
в захмеленье
начинаю этак врать,
чтоб о жизни разуменья
от везенья
не терять».
Замолчал.
Губами чмокал,
сети связывая,
и хитрили губы,
что-то
не досказывая.
Звали в путь его ветра,
семга-розовуха:
«Ладно, парень.
Мне пора.
Так-то,
бляха-муха!»
11 июля 1963, Гульрипш
Девчата из швейной артели
Он спал, рыбак. В окне уже светало.
А он все дрых. Багровая рука
с лежанки на пол, как весло, свисала,
от якорей наколотых тяжка.
Русалки, корабли, морские боги
качались на груди, как на волнах.
Торчали в потолок босые ноги.
Светилось «Мы устали» на ступнях.
Рыбак мычал в тяжелом сне мужицком,
и, вздрагивая зябнуще со сна,
вздымалось и дышало «Смерть фашистам!»
у левого, в пупырышках, соска.
Ну а в окне заря росла, росла,
и бубенцами звякала скотина,
а за плечо жена его трясла:
«Вставай ты, черт… Очухайся – путина!»
И, натянув рубаху и штаны,
мотая головой, бока почесывая,
глаза повинно пряча от жены,
вставал похмельный Муромец печорский.
Так за плечо трясла его жена,
оставив штопать паруса и сети:
«Вставай ты, черт… Очухайся – война»,
когда-то в сорок первом на рассвете.
И, принимая от нее рассол,
глаза он прятал точно так, повинно…
Но встал, пришел в сознанье, и пошел,
и так дошел до города Берлина.
1963
Опять на станции Зима
Девчата из швейной артели
на станции нашей Зима,
ручьи и сосульки в апреле
вас медленно сводят с ума.
Дрожат, как в ознобе, машинки,
и первые, около глаз,
тихонько ложатся морщинки
еще незаметно для вас.
Кого-то, кто встретит, проводит,
вы ждете потом у ворот,
да что-то никто не приходит,
а может быть, и не придет.
Ну прямо до слез огорченье,
что так вот сидят и строчат
под музыку всплесков ручейных
двенадцать ничейных девчат.
Какая же это ошибка,
что парни, такие слепцы,
в костюмчиках, вами пошитых,
не с вами идут, стервецы.
Я тоже обидою маюсь,
что девушки темью ночной,
под песни мои обнимаясь —
вот дуры! – идут не со мной…
Август 1963, станция Зима
Зиминский мэр
Боюсь, читатель, ты ладонью
прикроешь тягостность зевка.
Прости мне кровь мою чалдонью,
но я тебе опять долдоню
о той же станции Зима.
Зима! Вокзальчик с палисадом,
деревьев чахлых полдесятка,
и замедляет поезд ход,
и пассажиры волосато
в своих пижамах полосатых,
как тигры, прыгают вперед.
Я возвратился после странствий,
покрытый пылью Англий, Франций,
и пылью слухов обо мне,
и – буду прям – не на коне.
Я возвратился не в почете,
а после критики крутой,
полезной нам… (в конечном счете…),
и с лаской принят был родней.
И дядя мой Андрей в итоге
сказал такие мне слова:
«Не раскисай. Есть руки, ноги,
и даже вроде голова.
Закон у нас хороший есть —
кто не работает, не ест».
И, как герой труда, геройски
я ел, простак, да есть мастак,
но предложили мне по свойски:
«Ты почитал бы нам, земляк…»
Я намекал на что-то сложно
от слов мучительных в поту,
но был отвод не принят, словно
не понимали, что плету.
Мне брюки гладила сестренка
и утешала горячо —
то с женской нежностью, то строго:
«Все будет, Женька, хорошо…»
Я не робел перед Парижем,
когда свистел он и ревел,
но перед залом тем притихшим
девчат рабочих и парнишек
я, как ребенок, оробел.
Стоял я вроде истукана,
не в силах сделать первый шаг,
но вдруг оттуда, из тумана
услышал я: «Давай, земляк…»
И я вздохнул светло и просто,
как будто вдруг меня спасла,
перекрывая эту пропасть,
прямая крепкая сосна.
И мне казалось – постепенно
все раздвигались эти стены,
и вся в огнях и зеленях
гудками Волги и Урала
страна звала и ободряла:
«Давай, земляк… Давай, земляк…»
Меня в Москве, кусая, жаля,
«народным гневом» напужали,
но вместо яда молоко
мне дал народ, к Москве небрежен,
и не забуду я, как нежен
был гнев народа моего…
1963
У военкомата
…Лишь некто – важно и достойно
в костюме серого бостона,
в полуботинках цвета беж
не аплодировал – хоть режь.
Сидел он мрачно и набухло,
прищурив левый глаз, как будто
все брал в уме на карандаш,
и выражал гримасой кисло, —
мол, в этом я не вижу смысла,
а если вижу – то не наш.
Глядел он, сам себя терзая,
на аплодировавших в зале,
подозревая зал на треть,
он, правда, хлопнул раз в ладоши,
но на свои ладоши тоже
стал подозрительно глядеть.
И после вечера тот некто
уже при шляпе для комплекта
себя представил у крыльца
немногословно и спокойно:
«Я – председатель исполкома
и, так сказать, я от лица…
Такое мненье есть у ряда —
не все у вас в стихах, как надо.
Вот, скажем то, что про Зиму.
Масленку мы давно изжили,
а вы стихи о ней сложили —
отстали, судя по всему.
Вот взять хотя бы для примера
меня… Я родом из крестьян,
ну а теперь дорос до мэра,
как говорят у англичан».
Мэр половодьем разливался —
уже в глазах он расплывался,
а я молчком, молчком, молчком
и в ночь – бочком, бочком, бочком.
Я после критики могутной
побрел с орешками в горсти
во мгле, нежизненно мазутной,
и по нежизненной грязи.
Совсем нежизненные бабы,
подвыпив, пели под гармонь.
Совсем нежизненно на бане
висело краткое: «Ремонт».
И смазчики, почти условны,
все в негативнейшей пыли
давно изжитые масленки
в руках нежизненно несли.
Ах, председатель исполкома,
прости, что смылся без поклона.
От обвинений воздержись.
На жизнь все это не походит?
Так что ж, по-твоему, выходит,
она нежизненная – жизнь?
Еще так много будет мэров
учить, да и ловчить умелых.
Их плетью не перешибу.
Бессмертным стану ли по праву?
Переживу ли свою славу?
Но мэров я переживу.
1963
Граждане, послушайте меня…
Под колыбельный рокот рельсов
усталой смазчицей экспрессов
дремала станция Зима.
Дремал и шпиль на райсовете,
дремал и пьяница в кювете
и сторож у «Заготзерна».
Совсем зиминский, не московский,
я шел и шел, дымя махоркой,
сквозь шелест листьев, чьи-то сны.
Дождь барабанил чуть по жести…
И вдруг я вздох услышал женский:
«Ах, только б не было войны!..»
Луна скользнула по ометам,
крылечкам, ставням и заплотам,
и, замеревши на ходу,
я, что-то вещее почуя,
как тень печальную ночную,
увидел женщину одну.
Она во всем, что задремало,
чему-то тайному внимала.
Ей было лет уже немало —
не меньше чем за пятьдесят.
Она особенно, по-вдовьи
перила трогала ладонью
под блеклой вывеской на доме:
«Зиминский райвоенкомат».
Должно быть, шла она с работы,
и вдруг ее толкнуло что-то
неодолимо, как волна,
к перилам этим… В ней воскресла
война без помпы и оркестра,
кормильца взявшая война.
Вот здесь, опершись о перила,
об эти самые перила,
молитву мужу вслед творила,
а после шла, дитем тяжка,
рукою правою без силы
опять касаясь вас, перила,
а в левой мертвенно, остыло
бумажку страшную держа.
Ах, только б не было войны!
(Была в руках его гармошка…)
Ах, только б не было войны!
(…была за голенищем ложка…)
Ах, только б не было войны!
(…и на губах махорки крошка…)
Ах, только б не было войны!
(…Шумел, подвыпивший немножко:
«Ничо, не пропадет твой Лешка!»
Ну а в глазах его сторожко
глядела боль из глубины…)
Ах, только б не было войны!
1963
А. Апдайку
«Пришли иные времена…»
Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове – такая ересь,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я – слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня…»
Палуба сгибается и стонет,
под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня…»
Граждане не хочут его слушать.
Гражданам бы выпить да откушать
и сплясать, а прочее – мура!
Впрочем, нет, – еще поспать им важно…
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня…»?
Кто-то помидор со смаком солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любом кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.
И теперь, со вбитой внутрь душою,
слышать не хотят они чужое:
«Граждане, послушайте меня…»
Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же – только без гитары…
Через реки, горы и моря
я бреду и руки простираю
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня…»
Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет, кроме
этого мучительного, с кровью:
«Граждане, послушайте меня…»
29 сентября 1963, Ангара, пароход «Фридрих Энгельс», Иркутск – Братск
«Банально веру в жизнь терять….»
Пришли иные времена.
Взошли иные имена.
Они толкаются, бегут.
Они врагов себе пекут,
приносят неудобства
и вызывают злобства.
Ну, а зато они – «вожди»,
и их девчонки ждут в дожди
и, вглядываясь в сумрак,
украдкой брови слюнят.
А где же, где твои враги?
Хоть их опять искать беги.
Да вот они – радушно
кивают равнодушно.
А где твои девчонки, где?
Для их здоровья на дожде
опасно, не иначе —
им надо внуков нянчить.
Украли всех твоих врагов.
Украли легкий стук шагов.
Украли чей-то шепот.
Остался только опыт.
Но что же ты загоревал?
Скажи – ты сам не воровал,
не заводя учета,
все это у кого-то?
Любая юность – воровство.
И в этом – жизни волшебство:
ничто в ней не уходит,
а просто переходит.
Ты не завидуй. Будь мудрей.
Воров счастливых пожалей.
Ведь как ни озоруют,
их тоже обворуют.
Придут иные времена.
Взойдут иные имена.
10 октября 1963, Гульрипш
Любимая, спи…
Банально веру в жизнь терять, —
так лучше будем не банальны!
Пусть подлецы или болваны
порочат всяческий талант!
Пусть хлеб вчерашних истин черств!
Пусть, оптимизмом брызжа, перья
внедряют яростно безверье!
Им помогать? На кой нам черт!
Давайте верить им назло.
Как надо верить, им покажем
и этой верою докажем,
что крупно им не повезло.
Всегда снедаем страхом тот,
кто весь во власти лицемерья,
уж ни во что давно не веря,
о правоверности поет.
Душа его темным-темна.
Когда он веру в ком-то видит,
ее старается он выбить,
в ней смерть его затаена.
И, ежась внутренне тайком,
грозя принять крутые меры,
в давно облезшей маске веры
грозит безверье кулаком.
10 октября 1963, Гульрипш
Зрелость любви?
Соленые брызги блестят на заборе.
Калитка уже на запоре.
И море,
дымясь, и вздымаясь, и дамбы долбя,
соленое солнце всосало в себя.
Любимая, спи…
Мою душу не мучай.
Уже засыпают и горы и степь.
И пес наш хромучий,
лохмато-дремучий,
ложится и лижет соленую цепь.
И море – всем топотом,
и ветви – всем ропотом,
и всем своим опытом —
пес на цепи,
а я тебе – шепотом,
потом – полушепотом,
потом – уже молча:
«Любимая, спи…»
Любимая, спи…
Позабудь, что мы в ссоре.
Представь:
просыпаемся.
Свежесть во всем.
Мы в сене.
Мы сони.
И дышит мацони
откуда-то снизу,
из погреба, —
в сон.
О, как мне заставить
все это представить
тебя, недоверу?
Любимая, спи…
Во сне улыбайся
(все слезы отставить!),
цветы собирай
и гадай, где поставить,
и множество платьев красивых купи.
Бормочется?
Видно, устала ворочаться?
Ты в сон завернись
и окутайся им.
Во сне можно делать все то,
что захочется,
все то,
что бормочется,
если не спим.
Не спать безрассудно,
и даже подсудно, —
ведь все,
что подспудно,
кричит в глубине.
Глазам твоим трудно.
В них так многолюдно.
Под веками легче им будет во сне.
Любимая, спи…
Что причина бессонницы?
Ревущее море?
Деревьев мольба?
Дурные предчувствия?
Чья-то бессовестность?
А может, не чья-то,
а просто моя?
Любимая, спи…
Ничего не попишешь,
но знай,
что невинен я в этой вине.
Прости меня – слышишь? —
люби меня – слышишь?
хотя бы во сне,
хотя бы во сне!
Любимая, спи…
Мы на шаре земном,
свирепо летящем,
грозящем взорваться, —
и надо обняться,
чтоб вниз не сорваться,
а если сорваться —
сорваться вдвоем.
Любимая, спи…
Ты обид не копи.
Пусть соники тихо в глаза заселяются.
Так тяжко на шаре земном засыпается,
и все-таки —
слышишь, любимая? —
спи…
И море – всем топотом,
и ветви – всем ропотом,
и всем своим опытом —
пес на цепи,
а я тебе – шепотом,
потом – полушепотом,
потом – уже молча:
«Любимая, спи…»
11 октября 1963, Гульрипш
«Кто самый острый, современный…»
Значит, «зрелость любви»?
Это что ж?
Вот я сжался,
я жду.
Ты идешь.
Встреча взглядов!
Должен быть вздрог!
Но – покой…
Как удар под вздох!
Встреча пальцев!
Должен быть взрыв!
Но – покой…
Я бегу, чуть не взвыв.
Значит, все —
для тебя и меня?
Значит, пепел —
зрелость огня?
Значит, зрелость любви —
просто родственность,
да и то —
еще в лучшем случае?
Это кто ж над нами юродствует,
усмехаясь усмешкой злючею?
Кто же выдумать мог посметь
лживый термин
в холодной умелости?
У любви есть
рожденье и смерть.
У любви не бывает
зрелости.
Ночь с 11 на 12 октября 1963, Гульрипш
Два города
Кто самый острый, современный
писатель? – спорит целый мир.
Знаток я, может, не отменный,
ну, а по-моему – Шекспир.
И вечность гамлетовской темы
прибоем бьется о виски
сейчас, когда в одном смятенье
и гении и дураки.
И, руки мысленно ломая,
под реактивный свист и гуд,
спеша к метро или трамваям,
толпою гамлеты бегут.
Артисты просто жалко мямлят
в сравненье с басом бурь и битв,
когда и шар земной, как Гамлет,
решает: «Быть или не быть?»
14 октября 1963, Гульрипш.
В. Аксенову
«По улицам…»
Я, как поезд,
что мечется столько уж лет
между городом Да
и городом Нет.
Мои нервы натянуты,
как провода,
между городом Нет
и городом Да!
Все мертво, все запутано в городе Нет.
Он похож на обитый тоской кабинет.
По утрам натирают в нем желчью паркет.
В нем диваны – из фальши, в нем стены – из бед.
В нем глядит подозрительно каждый портрет.
В нем насупился замкнуто каждый предмет.
Черта с два здесь получишь ты добрый совет,
или, скажем, привет, или белый букет.
Пишмашинки стучат под копирку ответ:
«Нет-нет-нет…
Нет-нет-нет…
Нет-нет-нет…»
А когда совершенно погасится свет,
начинают в нем призраки мрачный балет.
Черта с два —
хоть подохни —
получишь билет,
чтоб уехать из черного города Нет…
Ну, а в городе Да – жизнь, как песня дрозда.
Этот город без стен, он – подобье гнезда.
С неба просится в руки любая звезда.
Просят губы любые твоих без стыда,
бормоча еле слышно: «А, – все ерунда…» —
и сорвать себя просит, дразня, резеда,
и, мыча, молоко предлагают стада,
и ни в ком подозрения нет ни следа,
и куда ты захочешь, мгновенно туда
унесут поезда, самолеты, суда,
и, журча, как года, чуть лепечет вода:
«Да-да-да…
Да-да-да…
Да-да-да…»
Только скучно, по правде сказать, иногда,
что дается мне столько почти без труда
в разноцветно светящемся городе Да…
Пусть уж лучше мечусь
до конца моих лет
между городом Да
и городом Нет!
Пусть уж нервы натянуты,
как провода,
между городом Нет
и городом Да!
17 ноября 1963, Суханово
По улицам,
стритам,
по рю
и по кайес
вы после работы идете,
толкаясь.
Я с вами смыкаюсь
и в этом не каюсь.
Вы очень устали.
Вы нервными стали.
Вы недра вспластали.
До звезд вы достали.
Но кажется мне —
вы еще не настали.
В зубах ваших «Кэмел»,
«Житан»
или «Новость»,
и каждый из вас,
как отдельная повесть,
отдельное сердце,
отдельная совесть.
Под каждым беретом,
ушанкой,
сомбреро
безмерности мира отдельная мера,
в отдельное что-то отдельная вера.
А вы за абсентом,
за водкой,
за кьянти
отдельными быть хоть на миг
перестаньте
и в ваших глазах человечеством станьте.
Сложите,
к великому братству готовясь,
отдельные повести —
в общую повесть,
отдельные совести —
в общую совесть.
Мне все это хочется вам напророчить
и в этом пророчестве не опорочить
все то, что желал бы я в жизни
упрочить.
Нет,
я не прошусь ни в пророки,
ни в судьи,
но вы уж простите —
подобно зануде,
вам, люди, твержу я:
«Мы люди.
Мы люди.
Мы люди.
Мы строим,
огрызчиво ропщем,
друг друга при случае радостно топчем,
а наша отдельность —
ведь ложная, в общем.
Мы люди.
Отдельными мы не бываем.
Других забывая —
себя забываем,
других убивая —
себя убиваем…»
1963