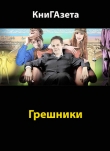Собрание сочинений. Том 4

Текст книги "Собрание сочинений. Том 4"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Баллада о штрафном батальоне
Хочу я быть немножко старомодным —
не то я буду временностью смыт,
чтоб стыдно за меня не стало мертвым,
познавшим жизни старый добрый смысл.
Хочу быть щепетильным, чуть нескладным
и вежливым на старый добрый лад,
но, оставаясь чутким, деликатным,
иметь на подлость старый добрый взгляд.
Хочу я быть начитанным и тонким
и жить, не веря в лоск фальшивых фраз,
а внемля гласу совести – и только! —
не подведет он, старый добрый глас.
Хочу быть вечным юношей зеленым,
но помнящим уроки прежних лет,
и юношам, еще не отрезвленным,
советовать, как старый добрый дед.
Так я пишу, в раздумья погруженный.
И, чтобы сообщить все это вам,
приходит ямб – уже преображенный,
но тот же самый старый добрый ямб…
22 апреля 1963, Коктебель
Подранок
И донесла разведка немцам так:
«Захвачен укрепленный пункт у склона
солдатами штрафного батальона,
а драться с ними – это не пустяк».
Но обер-лейтенант был новичок —
уж слишком был напыщен и научен,
уж слишком пропагандою накручен,
и он последней фразы не учел.
Закон формальной логики ему
внушил, что там, в сердцах на правосудье,
обиженные Родиною люди,
и вряд ли патриоты потому.
Распорядился рупор приволочь
и к рупору пьянчугу-полицая,
и тот, согретый шнапсом, восклицая,
ораторствовал пламенно всю ночь.
Он возвещал солдатам, как набат,
все то, что обер тщательно преподал:
о всех несправедливостях преподлых,
которые загнали их в штрафбат.
Мол, глупо, парни, воевать за то,
что вас же унижает и позорит,
а здесь вам снова стать людьми позволят,
да и дадут в награду кое-что.
Сам полицай, по правде говоря,
в успех не верил, жалок и надрывен.
Он думал: обер, обер, ты наивен.
Не знаешь русских ты. Все это зря.
А как воспринимали штрафники
тот глас? Как отдых после перестрелки.
Махрой дымили, штопали шинелки
и чистили затворы и штыки.
Они попали кто за что в штрафбат:
кто за проступок тяжкий, кто за мелочь,
и, как везде, с достатком тут имелось
таких, кто был не слишком виноват.
Был обер прав: у них, у штрафников,
у стреляных парней, видавших виды,
конечно, были разные обиды.
А у кого их нет? У чурбаков.
Но русские среди трудов и битв,
хотя порой в отчаянье немеют,
обиды на Россию не имеют.
Она для них превыше всех обид.
Нам на нее обидеться грешно,
как будто бы обидеться на Волгу,
на белые березоньки, на водку,
которой утешаться суждено.
На черный хлеб, который вечно свят,
на «Догорай, гори, моя лучина…»,
на всех, что спят в земле неизлечимо,
на матерей, которые не спят.
Ошибся обер, и, пойдя в штыки,
едва рассвет забрезжил бледновато,
за Родину, как гвардии солдаты,
безмолвно умирали штрафники.
Баллада, ты длинна, но коротка,
и не могу закончить я балладу.
Ведь столько раз солдатскую баланду
хлебал я из штрафного котелка.
К чему все это ворошить? Зола.
Но я, солдат штрафного батальона,
порой грустил, и горько, потаенно
меня обида по сердцу скребла.
И я себе шептал: «Я не убит,
и как бы рупора ни голосили,
не буду я в обиде на Россию —
она превыше всех моих обид.
И виноват ли я, не виноват, —
в атаку тело бросив окрыленно,
умру, солдат штрафного батальона,
за Родину как гвардии солдат».
25–26 апреля 1963, Коктебель
А. Вознесенскому
Невеста
Сюда, к просторам вольным, северным,
где крякал мир и нерестился,
я прилетел, подранок, селезень,
и на Печору опустился.
И я почуял всеми нервами,
как из-за леса осиянно
пахнуло льдинами и нерпами
в меня величье океана.
Я океан вдохнул и выдохнул,
как будто выдохнул печали,
и все дробинки кровью вытолкнул,
даря на память их Печоре.
Они пошли на дно холодное,
а сам я, трепетный и легкий,
поднялся вновь, крылами хлопая,
с какой-то новой силой летной.
Меня ветра чуть-чуть покачивали,
неся над мхами и кустами.
Сопя, дорогу вдаль показывали
ондатры мокрыми усами.
Через простор земель непаханых,
цветы и заячьи орешки
меня несли на пантах бархатных
веселоглазые олешки.
Когда на кочки я присаживался, —
мне тундра ягель подносила,
и клюква, за зиму прослаженная,
себя попробовать просила.
И я, затворами облязганный,
вдруг понял – я чего-то стою,
раз я такою был обласканный
твоей, Печора, добротою!
Когда-нибудь опять над Севером,
тобой не узнанный, Печора,
я пролечу могучим селезнем,
сверкая перьями парчово.
И ты засмотришься нечаянно
на тот полет и оперенье,
забыв, что все это не чье-нибудь —
твое, Печора, одаренье.
И ты не вспомнишь, как ты прятала
меня весной, как обреченно
то оперенье кровью плакало
в твой голубой подол, Печора.
13–14 июня 1963, Гульрипш
По Печоре
На Печоре есть рыбак
по имени Глаша.
Говорит с парнями так:
«Глаша,
да не ваша!»
Ухажеров к ляду шлет,
сердится
се́рьгами.
Сарафаны себе шьет
из сиянья северного!
Не красна она, наверно,
модною прическою,
но зато в косе не лента,
а волна печорская!
Недоступна и строга,
сети вытягает, а глаза,
как два сига,
из-под платка сигают!
Я ходил за ней,
робея,
зачарованный,
как черемухою,
ею
зачеремленный.
Я не знал, почему
(может быть, наветно),
говорили по селу
про нее:
«Невеста».
«Чья? —
ходил я сам не свой.
Может, выдумали?»
Рыбаки,
дымя махрой,
ничего не выдымили.
«Чья она?
Чья она?
Чья она невеста?» —
спрашивал отчаянно
у норд-веста.
Вдруг один ко мне прилип
старичок запечный,
словно тундровый гриб,
на мокре взошедший:
«Больно быстр,
я погляжу.
Выставь четвертиночку —
и на блюдце положутайну,
как чаиночку…»
Пил да медлил, окаянный,
а когда все выкачал:
«Чья невеста?
Океана…
Того…
Ледовитыча…»
Если б не был пьюха стар,
если б не был хилый,
я б манежничать не стал —
дал бы в зад бахилой!
Водят за нос меня.
Что это за шутки!
Аж гогочет гагарня,
аж гогочут щуки.
Ну, а Глаша на песке
карбас высмаливала
и прорехи в паруске
на свету высматривала.
Я сказал ей:
«Над водой
рыба вспрыгивает,
и, от криков став худой,
чернеть вскрикивает.
Хочешь —
тундру подарю
лишь за взгляд за ласковый?
Горностаем подобью
ватник твой залатанный.
Пойду с неводом Печорой
в потопленные луга,
семгу выловлю,
в которой
не икра,
а жемчуга.
Все сложу я,
что захочешь,
у твоих подвернутых
у резиновых сапожек,
чешуей подернутых.
В эту чертову весну,
сам себя замучив,
я попался на блесну
зубов твоих зовучих.
Но от пьюхи-недовеска,
пьяным-пьяного,
я слыхал,
что ты невеста
океанова?!»
Отвечала Глаша:
«Да.
Я его невеста.
Видишь, как в реке вода
не находит места.
Та вода идет,
идет
к седоте глубинной,
где давно меня он ждет —
мой седой любимый.
Не подав об этом вести,
веслами посверкивая,
приплыву к нему я
вместе
с льдинами-последками.
И меня он обоймет
ночью облачною,
и в объятьях обомнет,
разом обмершую.
На груди своей держа,
все забыть поможет.
В изголовье мне
моржа
мягкого
положит.
Мне на все он даст ответ,
всплесками беседуя…
Что мои семнадцать лет?
С ним я, как безлетняя.
Все семнадцать чепушинок
с меня ссыплются,
дрожа,
как семнадцать чешуинок
из-под вострого ножа.
Океан
то обласкает,
то грома раскатывает.
Все он гулом объясняет,
все про жизнь рассказывает.
Парень,
лучше отвяжись.
Я твоей не стану.
Что ты скажешь мне про жизнь
после океана?
Потому себя блюду,
кавалер ты липовый,
что такого не найду,
как и он,
великого…»
И поднялся парусок,
и забился влажно,
и ушла наискосок
к океану Глаша.
Я шептал —
не помню что —
с опустелым взглядом.
Видно, слишком я не то
с океаном рядом.
И одно,
меня пронзив,
сверлит постоянно:
что же я скажу про жизнь
после океана?!
15–18 июня 1963, Гульрипш
Сказка о русской игрушке
За ухой, до слез перченной,
сочиненной в котелке,
спирт, разбавленный Печорой,
пили мы на катерке.
Катерок плясал по волнам
без гармошки трепака
и о льды на самом полном
обдирал себе бока.
И плясали мысли наши,
как стаканы на столе,
то о Даше, то о Маше,
то о каше на земле.
Я был вроде и не пьяный,
ничего не упускал.
Как олень под снегом ягель,
под словами суть искал.
Но в разброде гомонившем
не добрался я до дна,
ибо суть и говорившим
не совсем была ясна.
Люди все куда-то плыли
по работе, по судьбе.
Люди пили. Люди были
неясны самим себе.
Оглядел я, вздрогнув, кубрик:
понимает ли рыбак,
тот, что мрачно пьет и курит,
отчего он мрачен так?
Понимает ли завскладом,
продовольственный колосс,
что он спрашивает взглядом
из-под слипшихся волос?
Понимает ли, сжимая
локоть мой, товаровед, —
что он выяснить желает?
Понимает или нет?
Кулаком старпом грохочет.
Шерсть дымится на груди.
Ну, а что сказать он хочет —
разбери его поди.
Все кричат: предсельсовета,
из рыбкопа чей-то зам.
Каждый требует ответа,
а на что – не знает сам.
Ах ты, матушка-Россия,
что ты делаешь со мной?
То ли все вокруг смурные?
То ли я один смурной!
Я – из кубрика на волю,
но, суденышко креня,
вопрошающие волны
навалились на меня.
Вопрошали что-то искры
из трубы у катерка,
вопрошали ивы, избы,
птицы, звери, облака.
Я прийти в себя пытался,
и под крики птичьих стай
я по палубе метался,
как по льдине горностай.
А потом увидел ненца.
Он, как будто на холме,
восседал надменно, немо,
словно вечность, на корме.
Тучи шли над ним, нависнув,
ветер бил в лицо, свистя,
ну а он молчал недвижно —
тундры мудрое дитя.
Я застыл, воображая —
вот кто знает все про нас.
Но вгляделся – вопрошали
щелки узенькие глаз.
«Неужели, – как в тумане
крикнул я сквозь рев и гик, —
все себя не понимают,
и тем более – других?»
Мои щеки повлажнели.
Вихорь брызг меня шатал.
«Неужели? Неужели?
Неужели?» – я шептал.
«Может быть, я мыслю грубо?
Может быть, я слеп и глух?
Может, все не так уж глупо —
просто сам я мал и глуп?»
Катерок то погружался,
то взлетал, седым-седой.
Грудью к тросам я прижался,
наклонился над водой.
«Ты ответь мне, колдовская,
голубая глубота,
отчего во мне такая
горевая глупота?
Езжу, плаваю, летаю,
все куда-то тороплюсь,
книжки умные читаю,
а умней не становлюсь.
Может, поиски, метанья —
не причина тосковать?
Может, смысл существованья
в том, чтоб смысл его искать?»
Ждал я, ждал я в криках чаек,
но ревела у борта,
ничего не отвечая,
голубая глубота.
18–20 июня 1963, Гульрипш
В. А. Косолапову
Изба
По разграбленным селам
шла Орда на рысях,
приторочивши к седлам
русокосый ясак.
Как под темной водою
молодая ветла,
Русь была под Ордою.
Русь почти не была.
Но однажды, – как будто
все колчаны без стрел, —
удалившийся в юрту,
хан Батый захмурел.
От бараньего сала,
от лоснящихся жен
что-то в нем угасало —
это чувствовал он.
И со взглядом потухшим
хан сидел, одинок,
на сафьянных подушках,
сжавшись, будто хорек.
Хан сопел, исступленной
скукотою томясь,
и бродяжку с торбенкой
ввел угодник толмач.
В горсть набравши урюка,
колыхнув животом,
«Кто такой?» – хан угрюмо
ткнул в бродяжку перстом.
Тот вздохнул («Божья матерь,
то Батый, то князья…»):
«Дел игрушечных мастер
Ванька Сидоров я».
Из холстин дыроватых
в той торбенке своей
стал вынать деревянных
медведей и курей.
И в руках баловался
потешатель сердец —
с шебутной балалайкой
скоморох-дергунец.
Но, в игрушки вникая,
умудренный, как змий,
на матрешек вниманье
обратил хан Батый.
И с тоской первобытной
хан подумал в тот миг,
скольких здесь перебил он,
а постичь – не постиг.
В мужичках скоморошных,
простоватых на вид,
как матрешка в матрешке,
тайна в тайне сидит…
Озираясь трусливо,
буркнул хан толмачу:
«Все игрушки тоскливы.
Посмешнее хочу.
Пусть он, рваная нечисть,
этой ночью не спит
и особое нечто
для меня сочинит…»
Хан добавил, икнувши:
«Перстень дам и коня,
но чтоб эта игрушка
просветлила меня!»
Думал Ванька про волю,
про судьбу про свою
и кивнул головою:
«Сочиню. Просветлю».
Шмыгал носом он грустно,
но явился в свой срок:
«Сочинил я игрушку.
Ванькой-встанькой нарек».
На кошме не кичливо
встал простецкий, не злой,
но дразняще качливый
мужичок удалой.
Хан прижал его пальцем
и ладонью помог.
Ванька-встанька попался.
Ванька-встанька – прилег.
Хан свой палец отдернул,
но силен, хоть и мал,
ванька-встанька задорно
снова на ноги встал.
Хан игрушку с размаха
вмял в кошму сапогом
и, знобея от страха,
заклинал шепотком.
Хан сапог отодвинул,
но, держась за бока,
ванька-встанька вдруг вынырнул
из-под носка!
Хан попятился грузно,
Русь и русских кляня:
«Да, уж эта игрушка
просветлила меня…»
Хана страхом шатало,
и велел он скорей
от Руси – от шайтана —
повернуть всех коней.
И, теперь уж отмаясь,
положенный вповал,
Ванька Сидоров – мастер —
у дороги лежал.
Он лежал, отсыпался —
руки белые врозь.
Василек между пальцев
натрудившихся рос.
А в пылище прогорклой,
так же мал да удал,
с головенкою гордой
ванька-встанька стоял.
Из-под стольких кибиток,
из-под стольких копыт
он вставал неубитый —
только временно сбит.
Опустились туманы
на лугах заливных,
и ушли басурманы,
будто не было их.
Ну а ванька остался,
как остался народ,
и душа ваньки-встаньки
в каждом русском живет.
Мы – народ ванек-встанек.
Нас не бог уберег.
Нас давили, пластали
столько разных сапог!
Они знали: мы – ваньки,
нас хотели покласть,
а о том, что мы встаньки,
забывали, платясь.
Мы – народ ванек-встанек.
Мы встаем – так всерьез.
Мы от бед не устанем,
не поляжем от слез…
И смеется не вмятый,
не затоптанный в грязь
мужичок хитроватый,
чуть пока-чи-ва-ясь.
20–22 июня 1963, Гульрипш
«Ах, как ты, речь моя, слаба…»
И вновь рыбацкая изба
меня впустила ночью поздней
и сразу стала так близка,
как та, где по полу я ползал.
Я потихоньку лег в углу,
как бы в моем углу извечном,
на шатком, щелистом полу,
мне до шершавинки известном.
Рыбак уже храпел вовсю.
Взобрались дети на полати,
держа в зубенках на весу
еще горячие оладьи.
И лишь хозяйка не легла.
Она то мыла, то скоблила.
Ухват, метла или игла —
в руках все время что-то было.
Печору, видно, проняло —
Печора ухала взбурленно.
«Дурит…» – хозяйка про нее
сказала, будто про буренку.
В коптилку тусклую дохнув,
хозяйка вышла. Мгла обстала.
А за стеною – «хлюп да хлюп!» —
стирать хозяйка в кухне стала.
Кряхтели ходики в ночи —
они историю влачили.
Светились белые лучи
свеженащепленной лучины.
И, удивляясь и боясь,
из темноты неприрученно
светились восемь детских глаз,
как восемь брызг твоих, Печора.
С полатей головы склоня,
из невозможно дальней дали
четыре маленьких меня
за мною, взрослым, наблюдали.
Чуть шевеля углами губ,
лежал я, спящим притворившись,
и вдруг затихло «хлюп да хлюп!» —
и дверь чуть-чуть приотворилась.
И ощутил я в тишине
сквозь ту притворную дремоту
сыздетства памятное мне
прикосновение чего-то.
Тулуп – а это был тулуп —
облег меня лохмато, жарко,
а в кухне снова – «хлюп да хлюп!» —
стирать хозяйка продолжала.
Сновали руки взад-вперед
в пеленках, простынях и робах
под всех страстей круговорот,
под мировых событий рокот.
И не один, должно быть, хлюст
сейчас в бессмертье лез, кривляясь,
но только это «хлюп да хлюп!»
бессмертным, в сущности, являлось.
И ощущение судьбы
в меня входило многолюдно
как ощущение избы,
где миллионам женщин трудно,
где из неведомого дня,
им полноправно обладая,
мильоны маленьких меня
за мною, взрослым, наблюдают.
17–28 июня 1963, Гульрипш
«Какая чертовая сила…»
Ах, как ты, речь моя, слаба!
Ах, как никчемны, непричемны,
как непросторны все слова
перед просторами Печоры!
Вот над прыжками оленят,
последним снегом окропленные,
на север лебеди летят,
как будто льдины окрыленные.
Печора плещется, дразня:
«Ну что ты плачешься сопливо?
Боишься, что ли, ты меня?
Шагни ко мне, шагни с обрыва».
И я в Печору прыгнул так,
легко забыв про все былое,
как сиганул Иван-дурак
в котел с кипящею смолою,
чтоб выйти гордым силачом,
в кафтане новеньком, посмеиваясь,
и вновь поигрывать плечом:
«А ну, опричники, померяйтесь!»
30 июня 1963, Гульрипш
Про Тыко Вылку
Какая чертовая сила,
какая чертовая страсть
меня вела и возносила
и не давала мне упасть?
И отчего во мне не стихнула,
и отчего во мне не сгинула
моя веселая настыринка,
моя веселая несгибинка?
А оттого, что я рожден
в стране, для хлипких не пригодной,
и от рожденья награжден
ее людьми, ее природой.
В России все моя родня,
и нет, наверно, ни избы в ней,
где бы не приняли меня
с участьем, с лаской неизбывной.
Я счастлив долею почетной,
моей спасительною ладанкой,
что на Печоре я печорский
и что на Ладоге я ладожский.
И пусть я, птица перелетная,
мечусь по всей России, мучаясь, —
всегда Россия перельет в меня
свою спокойную могучесть.
30 июня 1963, Гульрипш
Олёнины ноги
Запрятав хитрую ухмылку,
я расскажу про Тыко Вылку.
Быть может, малость я навру,
но не хочу я с тем считаться,
что стал он темой диссертаций.
Мне это все – не по нутру.
Ведь, между прочим, эта тема
имела – черт их взял бы! – тело
порядка сотни килограмм.
Песцов и рыбу продавала,
оленей в карты продувала,
унты, бывало, пропивала
и, мажа холст, не придавала
значенья тонким колерам.
Все восторгались с жалким писком
им – первым ненцем-живописцем,
а он себя не раздувал,
и безо всяческих загадок
он рисовал закат – закатом
и море – морем рисовал.
Был каждый глаз у Тыко Вылки,
как будто щелка у копилки.
Но он копил, как скряга хмур,
не медь потертую влияний,
а блики северных сияний,
а блестки рыбьих одеяний
и переливы нерпьих шкур.
«Когда вы это все учтете?» —
искусствоведческие тети
внушали ищущим юнцам.
«Из вас художников не выйдет.
Вот он – рисует все, как видит…
К нему на выучку бы вам!»
Ему начальник раймасштаба,
толстяк, грудастый, словно баба,
который был известный гад,
сказал: «Оплатим все по форме…
Отобрази меня на фоне
оленеводческих бригад.
Ты отрази и поголовье,
и лица, полные здоровья,
и трудовой задор, и пыл,
но чтобы все в натуре вышло!»
«Начальник, я пишу, как вижу…»
И Вылка к делу приступил.
Он, в краски вкладывая нежность,
изобразил оленей, ненцев,
и – будь что будет, все равно! —
как завершенье, на картине
с размаху шлепнул посредине
большое грязное пятно!
То был для Вылки очень странный
прием – по сущности, абстрактный,
а в то же время сочный, страстный,
реалистический мазок.
Смеялись ненцы и олени,
и лишь начальник в изумленье,
сочтя все это за глумленье,
никак узнать себя не мог.
И я восславлю Тыко Вылку!
Пускай он ложку или вилку
держать как надо не умел —
зато он кисть держал как надо,
зато себя держал как надо!
Вот редкость – гордость он имел.
1 июля 1963, Гульрипш
Глухариный ток
Бабушка Олёна,
слышишь,
как повсюду
бьет весна-гулена
в черепки посуду,
как захмелела сойка
с березового сока
и над избой твоей
поет,
что соловей?
Ты на лес,
на реченьку
посмотреть сходи…
Что глядишь невесело
на ноги свои?
И ночами белыми
голосом-ручьем
с ними, ослабелыми,
говоришь о чем?
«Ноженьки мои, ноженьки,
что же вы так болите?
Что же вы в белые ноченьки
снова бежать не велите?
«Лодочки» в пляске навастривая,
вы каблуки сбивали,
и сапоги наваксенные
за вами не успевали.
Вы торопились бо́сыми
в лес по заросшей тропочке,
посеребренные росами,
вздрагивая по дролечке.
И под рассохлой лодкою,
где муравьи да кузнечики,
гладил он вас, мои легкие,
ровные, словно свечечки.
Ноженьки мои, ноженьки,
кроме гулянок с гармошкой,
знали вы тяжкие ношеньки —
ведра, мешки с картошкой.
Все я на вас – то с тряпкою,
то с чугунком, то с вилами,
то с топором, то с тяпкою, —
вот вы и стали остылыми.
На вас я полола-выкашивала,
мыкалась в снег и в дождик;
на вас я в себе вынашивала
осьмнадцать сынов и дочек.
Ни одного не выскоблила, —
мы ведь не городские.
Всех я их к сроку вызволила,
всех отдала России.
Всех я учиться заставила.
«Вникайте!» – им повторяла.
На ноги их поставила,
ну а свои потеряла.
Вот и не вижу солнышка…
Если б вы, ноженьки, ожили!
Куда же ушла ваша силушка,
ноженьки мои, ноженьки?!»
Бабушка Олёна,
я плачу —
не смотри.
Но слышишь:
исступленно
токуют глухари.
И над рекою Вологдой
бежит,
бежит под ток
над льдами и над волнами
девчонка с ноготок.
Бежит, как зачумленная,
к незнаемой любви…
У нее,
Олёна,
ноги твои!
От восторга рушатся
ложи и галерки.
Балерина русская
танцует в Нью-Йорке.
Сколько в ней полета,
буйства в крови!..
У нее,
Олёна,
ноги твои!
Не привык я горбиться —
гордость уберег.
И меня
горести
не собьют с ног.
Сдюжу несклоненно
в любые бои…
У меня,
Олёна,
ноги твои!
2 июля 1963, Гульрипш
Охота – это вовсе не охота,
а что – я сам не знаю. Это что-то,
чего не можем сами мы постичь,
и, сколько бы мы книжек ни вкусили, —
во всей его мятущести и силе
зовет нас предков первобытный клич.
От мелких драк, от перебранок постных
беги в леса на глухариный подслух,
пружинно сжавшись, в темноте замри,
вбирай в себя все шорохи и скрипы,
всех птиц журчанья, щелканья и всхлипы,
все вздрагиванья неба и земли.
Потом начнет надмирье освещаться,
как будто чем-то тайно освящаться,
и – как по табакерке ноготок —
из-за ветвей, темнеющих разлапо
и чуть уже алеющих, раздастся
сначала робко, тоненько: «Ток-ток!»
«Ток-ток!» – и первый шаг, такой же робкий.
«Ток-ток!» – и шаг второй, уже широкий.
«Ток-ток!» – и напролом сквозь бурелом.
«Ток-ток!» – через кусты, как в сумасшествье.
«Ток-ток!» – упал и замираешь вместе
с не видимым тобою глухарем.
Но вновь: «Ток-ток!» – и вновь под хруст и шелест,
проваливаясь в прелую замшелость,
не утирая кровь от комарья,
как будто там отчаянно токует
и по тебе оторванно тоскует
твое непознаваемое «я».
Уже ты видишь, видишь на поляне
в просветах сосен темное пыланье.
Прыжок, и – леса гордый государь —
перед тобой, в оранжевое врублен,
сгибая ветку, отливая углем,
как черный месяц, светится глухарь.
Он хрюкает, хвостище распускает,
свистящее шипенье испускает,
поводит шеей, сам себя ласкает
и воспевает существо свое.
А ты стоишь, не зная, что с ним делать…
Само в руках твоих похолоделых
дрожаще поднимается ружье.
А он – он замечать ружья не хочет.
Он в судорогах сладостных пророчит.
Он ерзает, бормочет. В нем клокочет
природы захлебнувшийся избыв.
А ты стреляешь, – и такое чувство,
когда стреляешь, словно это чудо
ты можешь сохранить, его убив.
Так нас кидают крови нашей гулы
на зов любви. Кидают в чьи-то губы,
чтоб ими безраздельно обладать.
Но сохранить любовь хотим впустую.
Вторгаясь в сущность таинства святую,
его мы можем только убивать.
Так нас кидает бешеная тяга
и к вам, холсты, и глина, и бумага,
чтоб сохранить природы красоту.
Рисуем, лепим или воспеваем —
мы лишь природу этим убиваем.
И от потуг бессильных мы в поту.
И что же ты, удачливый охотник,
невесел, словно пойманный охальник,
когда, спускаясь по песку к реке,
передвигаешь сапоги в молчанье
с бессмысленным ружьишком за плечами
и с убиенным таинством в руке?!
9 июля 1963. Гульрипш