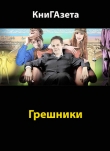Собрание сочинений. Том 4

Текст книги "Собрание сочинений. Том 4"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Евгений Александрович Евтушенко
Собрание сочинений. Том 4
© Евтушенко Е. А., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015
Стихотворения
1962–1964 годов
1962
СтрахиСопливый фашизм
Умирают в России страхи,
словно призраки прежних лет,
лишь на паперти, как старухи,
кое-где еще просят на хлеб.
Я их помню во власти и силе
при дворе торжествующей лжи.
Страхи всюду, как тени, скользили,
проникали во все этажи.
Потихоньку людей приручали
и на все налагали печать.
Где молчать бы – кричать приучали
и молчать – где бы надо кричать.
Страхи нас пробирали морозом,
только вспомнишь – знобит и теперь
тайный страх перед чьим-то доносом
или страх перед стуком в дверь.
Ну, а страх говорить с иностранцем?
С иностранцем-то что! А с женой?
Ну, а страх беспредельный – остаться
после маршей вдвоем с тишиной?
Не боялись мы строить в метели,
уходить под снарядами в бой,
но боялись порой смертельно
разговаривать сами с собой.
И когда я пишу эти строки
и порою невольно спешу,
то пишу их в единственном страхе,
что не в полную силу пишу…
1962
Письмо Жаку Брелю – французскому шансонье
Финляндия,
страна утесов,
чаек,
туманов,
лесорубов,
облаков,
забуду ли,
как, наш корабль встречая,
искрилась пристань всплесками платков,
как мощно пела молодость над молом,
как мы сходили в толкотне людской
и жали руки,
пахнущие морем,
автолом
и смоленою пенькой.
Плохих народов нет.
Но без пощады
я вам скажу,
хозяев не виня:
у каждого народа свои гады.
Так я про гадов.
Слушайте меня.
Пускай меня простят за это финны,
как надо называть,
все назову.
Фашизм я знал по книгам и по фильмам,
а тут его увидел наяву.
Фашизм стоял,
дыша в лицо мне виски
у бронзовой скульптуры «Кузнецов».
Орала и металась в пьяном визге
орава разгулявшихся юнцов.
Фашизму фляжки подбавляли бодрости.
Фашизм жевал с прищелком чуингам,
швыряя в фестивальные автобусы
бутылки,
камни,
под свистки и гам.
Фашизм труслив был в этой стадной наглости.
Он был прыщав, слюняв и белобрыс.
Он чуть не лез от ненависти на стену
и под плащами прятал дохлых крыс.
Эх, кузнецы,
ну что же вы безмолвствовали?!
Скажу по чести —
мне вас было жаль.
Вы подняли бы бронзовые молоты
и разнесли бы к черту эту шваль!
Бесились,
выли,
лезли вон из кожи,
на свой народ пытаясь бросить тень…
Сказали мне —
поминки по усопшим
Финляндия справляет в этот день.
Но в этих подлецах,
пусть даже юных,
в слюне их истерических речей
передо мною ожил «Гитлерюгенд» —
известные всем ясли палачей.
«Хайль Гитлер!» —
в крике слышалось истошном.
Так вот кто их родимые отцы!
Так вот поминки по каким усопшим
хотели справить эти молодцы!
Но не забыть,
как твердо,
угловато
у клуба «Спутник» —
прямо грудь на грудь —
стеною встали русские ребята,
как их отцы, прикрыв фашизму путь.
«Но – фестиваль!» —
взвивался вой шпанья.
«Но – фестиваль!» —
был дикий рев неистов.
И если б коммунистом не был я,
то в эту ночь
я стал бы коммунистом!
Июль 1962, Хельсинки, борт теплохода «Грузия»В концовке этого стихотворения – идеализм, свойственный мне в юности. На фестивале в Хельсинки бутылкой кока-колы разбили коленку юной русской танцовщице, пытались разгромить наш клуб. Теплоход «Грузия» находился буквально в осаде… Когда в 11 часов утра мы начали фестивальный марш, листовки с текстом стихотворения на многих языках уже раздавали участникам. По возвращении в Москву первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов на многотысячном митинге на Комсомольской площади назвал меня героем фестиваля. Однако после скандала с моей автобиографией, напечатанной на Западе, тот же самый Павлов спустил на меня целую свору комсомольских овчарок. На одном собрании, размахивая газетой Закавказского военного округа, где я на фотографии читал стихи с танка, он кричал: «Еще неизвестно, в какую сторону в случае опасности для нашей страны пойдут танки, с которых читал стихи Евтушенко». Так из меня сами коммунистические идеологи выбивали коммунистический идеализм. Последним ударом было наше вторжение на танках в Прагу. С них я стихов не читал.
Веснушки
Когда ты пел нам, Жак,
шахтерам,
хлеборобам,
то это, как наждак,
прошлось по сытым снобам.
Ты был то свист,
то стон,
то шелестящий вяз,
то твист, а то чарльстон,
а то забытый вальс.
Но главное,
ты был
Гаврошем разошедшимся,
когда в упор ты бил
по буржуа заевшимся!
Ты их клеймил, в кулак
с угрозой пальцы стиснув…
Да,
мы артисты, Жак,
но только ли артисты?
Нас портят тиражи,
ладоши или гроши,
машины, гаражи,
и все же
мы – гавроши!
Куплетов каплунам
от нас не ожидайте.
Салоны —
не по нам!
Нам площади подайте!
Нам вся земля мала!
Пусть снобам в чванной спеси
поэзия моя —
что уличная песня.
У снобов шансов нет,
чтоб их она ласкала.
Плевать!
Я шансонье —
не тенор из «Ла Скала»!
А слава —
что она
со всеми поцелуями!
Глупа да и жирна
она, как Грицацуева.
И ежели,
маня
в перины распуховые,
она к себе меня
затащит,
распаковываясь,
я виду не подам,
но, не стремясь к победе,
скажу: «Пардон, мадам!» —
и драпану, как Бендер.
Я драпану от сытости,
от ласк я улизну
и золотого ситечка
на память
не возьму.
Так драпанул ты,
Жак,
на фестиваль
от славы,
от всех, кто так и сяк
цветы и лавры стлали.
И помнишь ли,
как там,
жест возродив музейный,
показывали нам,
беснуясь,
в землю!
В землю?!
Как в ярости тупел
тот сброд, визжа надорванно?
А ты…
ты пел и пел —
под визг поется здорово!
Так все,
что глушит нас,
как хор болотных жаб,
работает, что джаз,
на наши песни, Жак.
Мы свищем вроде птиц,
но вовсе не птенцов,
под речи всех тупиц
и тонких подлецов.
Поем под визг ханжей
и под фашистов пляс.
Поем под лязг ножей,
точащихся на нас.
У пальм и у ракит
то шало,
то навзрыдно
поем под рев ракет,
под атомные взрывы.
Не просим барыша,
и нами,
как гаврошами,
все в мире буржуа
навеки огорошены.
Мы – дети мостовой —
не дети будуара.
Мы дряхлый шар земной
шатаем
будоража.
Нас все же любит он
и с нежностью бездонной
дает приют,
как слон,
рассохшийся,
но добрый.
В нас —
мятежей раскат,
восстаний перекаты.
Мы —
дети баррикад!
Мы сами —
баррикады!
Июль 1962
Допрос под Брамса
«Что грустишь, моя рыжа́я? —
шепчет бабка. – Что стряслось?»
свою руку погружая
в глубину твоих волос.
Ты мотаешь головою.
Ты встаешь, как в полусне.
Видишь очень голубое,
очень белое в окне.
У тебя веснушек столько,
что грустить тебе смешно,
и черемуха сквозь стекла
дышит горько и свежо.
Смотришь тихо, полоненно,
и тебя обидеть грех,
как обидеть олененка,
так боящегося всех.
В мастерскую его друга
поздно вечером привел
и рукою кругло-кругло
по щеке твоей провел.
И до дрожи незаснувшей,
не забывшей ничего,
помнят все твои веснушки
руку крупную его.
Было мертвенно и мглисто.
Пахла мокрой глиной мгла.
Чьи-то мраморные лица
наблюдали из угла.
По-мальчишески сутула,
сбросив платьице на стул,
ты стояла, как скульптура,
в окружении скульптур.
Почему, застыв неловко,
он потом лежал, курил
и, уже совсем далекий,
ничего не говорил?
Ты веснушки умываешь.
Ты садишься кофе пить.
Ты еще не понимаешь,
как на свете дальше быть.
Ты выходишь – и немеешь.
На смотрины отдана,
худощавый неумелыш,
ты одна, одна, одна…
Ты застенчиво лобаста,
не похожа на девчат.
Твои острые лопатки,
будто крылышки, торчат.
На тебя глядят нещадно.
Ты себя в себе таишь.
Но, быть может, ты на счастье
из веснушек состоишь?
По замасленной Зацепе
пахнет пивом от ларька,
и, как павы, из-за церкви
выплывают облака.
И, пожаром угрожая
этажам и гаражам,
ты проходишь, вся рыжая,
поражая горожан.
Пусть он столько наковеркал —
так и светятся в лучах
и веснушки на коленках,
и веснушки на плечах.
Поглядите – перед вами,
словно капельки зари,
две веснушки под бровями
с золотинками внутри.
И рыжа и непослушна
в суматохе городской
распушенная веснушка
над летящей головой!
1962
«Мою поэзию…»
Был следователь тонкий меломан.
По-своему он к душам подбирался.
Он кости лишь по крайности ломал,
обычно же —
допрашивал под Брамса.
Когда в его модерный кабинет
втолкнули их,
то без вопросов грубых
он предложил «Дайкири» и конфет,
а сам включил, как бы случайно, «Грундиг».
И задышал проснувшийся прелюд,
чистейший, как ребенок светлоглазый,
нашедший неожиданный приют
в батистовской тюрьме под Санта-Кларой.
Их было двое.
Мальчик лет семнадцати…
Он быстро верить перестал Христу
и деру дал из мирной семинарии,
предпочитая револьвер —
кресту.
Стоял он,
глядя мрачно, напроломно,
с презрительно надменным холодком,
и лоб его высокий
непокорно
грозил колючим рыжим хохолком.
И девочка…
И тоже – лет семнадцати.
Она —
из мира благочинных бонн,
из мира нудных лекций по семантике
бежала в мир гектографов и бомб.
И отчужденно
в платье белом-белом
она стояла перед подлецом,
и черный дым волос парил над бледным,
голубовато-фресковым лицом.
Но следователь ждал.
Он знал, что музыка,
пуская в ход все волшебство свое,
находит в душах щель —
пусть даже узкую!
и властно проникает сквозь нее.
А там она как полная владычица.
Она в себе приносит целый мир.
Плодами этот мир в ладони тычется,
листвой шумит
и птицами гремит.
В нем отливают лунным плечи,
шеи,
в нем пароходов огоньки горят.
Он —
как самою жизнью искушенье.
И люди жить хотят.
И… говорят.
И вдруг заметил следователь:
юноша
на девушку по-странному взглянул,
как будто что-то понял он,
задумавшись,
под музыку,
под плеск ее и гул.
Зашевелил губами он, забывшийся.
Сдаваясь, вздрогнул хохолок на лбу.
А следователь был готов записывать —
и вдруг услышал тихое:
«Люблю…»
И девушка,
подняв глаза огромные,
как будто не в тюрьме,
а на лугу,
где пальмы,
травы
и цветы багровые,
приблизившись, ответила:
«Люблю…»
Им Брамс помог!
Им —
а не их врагам!
И следователь,
в ярости на Брамса,
бил юношу кастетом по губам,
стараясь вбить
его «люблю»
обратно…
Я думаю о вечном слове том.
Его мы отвлеченно превозносим.
Обожествляем,
а при всем при том
порою слишком просто произносим.
Я глубоко в себя его запрячу.
Я буду помнить,
строг,
неумолим,
что вместе с ним
идут на бой за правду
и, умирая,
побеждают с ним.
1962
«Поэзия…»
Мою поэзию
две матери растили,
баюкая
и молоком поя:
и мать моя родимая —
Россия,
и Куба —
мать приемная моя.
Качаемый метелями суровыми,
я буду вечно,
легок и высок,
кружиться над сибирскими сугробами,
как фрамбойана алый лепесток.
И над тобою,
молодой,
светающей,
зеленая кубинская земля,
останусь я нетающей,
летающей
снежинкою со станции Зима…
1962
«Какая-то такая тишь…»
Поэзия —
не мирная молельня.
Поэзия —
жестокая война.
В ней есть свои, обманные маневры.
Война —
она войною быть должна.
Поэт
сражаться, как на фронте,
вправе,
когда он прав,
идя в огонь и дым.
Поступки тех,
кто на переднем крае,
понять ли жалким крысам тыловым?
От фронта в отдалении позорном
они крысиным скепсисом больны.
Им,
крысам,
смелость кажется позерством
и трусостью —
стратегия борьбы.
Кричать герою: «Трус!» —
попытка трусов
себя возвысить,
над героем встать.
Поэт, как ясновидящий Кутузов.
Он отступает,
чтобы наступать.
Он изнемог.
Он выпьет полколодца.
Он хочет спать.
Но суть его сама
ему велит глазами полководца
глядеть на время с некого холма.
В движение орудья,
фуры,
флаги
приводит его властная рука.
Пускай считают, что на правом фланге
сосредоточил он свои войска.
Но он-то,
он-то знает,
что на левом,
с рассвета ожидая трубача,
готова к бою
конница за лесом,
ноздрями упоенно трепеща.
Поэт воюет
не во имя славы
и всяческих чинов и орденов.
Лгут на него.
И слева лгут,
и справа,
но он с презреньем смотрит на лгунов.
Ну, а когда поэт —
он погибает,
и мертвый
он внушает им испуг.
Он погибает так, как подобает, —
оружия не выпустив из рук.
Его глаза боится тронуть ворон,
Поэт глядит,
всевидяще суров,
и даже мертвый —
он все тот же воин,
и даже мертвый —
страшен для врагов.
1962
Трусливым добрякам
Какая-то такая тишь
со скрытым смыслом, самым высшим,
что все, о чем заговоришь,
должно быть равным этой тиши.
Какая-то такая даль
во всем – от счастья до страданий,
что жизни дарственная дань
должна быть равной этой дали.
Какая-то такая ты —
соединенье тиши с далью,
что шум вчерашней суеты
я ни во что теперь не ставлю.
Мои стихи сейчас тихи
и мне же светят отдаленно,
как этих снежных гор верхи
в окне летящего вагона.
На суету я уповал.
Я жил без тиши и без дали.
Казалось, всюду успевал,
а это были опозданья.
Я жить хотел быстрее всех.
Я жаждал дел, а не деяний.
Но где он, подлинный успех,
успех, а не преуспеянье?!
Простите, тишь, и даль, и ты.
Каким я был, я не останусь.
Я к суете сожгу мосты
и с вами больше не расстанусь.
И, суетой необольстим,
во всем – от шутки и до стона —
я буду сильным и большим.
Все остальное – недостойно.
1962
«Мне нравится…»
Не может добрый быть трусливым.
Кто трусит – тот не так уж добр.
Не стыдно ль за себя трястись вам
и забывать, что смелость – долг?!
«Добро должно быть с кулаками!..»
А где же ваши кулаки?
Вы, кто зоветесь добряками,
вы подлецы – не добряки.
Когда друзей напрасно били,
кастетом головы дробя,
вы их любили? Да, любили.
Но вы любили… про себя.
Когда их те клеймили всуе,
кому б самим держать ответ,
из доброты не голосуя,
вы удалялись в туалет.
А после, вам на удивленье,
всем неразумным напоказ,
нерасторопных, как тюленей,
поодиночке били вас.
Неужто же за столько лет
понять на шкурах не смогли вы:
кастет сильнее, чем эстет,
прекраснодушный и трусливый!
1962
«Профессор…»
Мне нравится,
когда мне кто-то нравится,
и с тем, что это нравится,
не справиться.
Когда лицо я вижу чье-то доброе —
у плотника,
солдата
или доктора,
мне хочется сказать им ненарошное:
«Спасибо вам за то,
что вы хорошие!»
Мне нравится —
и тут уж не исправиться
когда мне сильно кто-нибудь не нравится.
Когда я вижу чьи-то лица подлые,
все затаенной злобы к людям полные,
то хочется сказать мне им негромкое:
«Спасибо вам за то,
что вы недобрые!»
Вы,
люди-совы с душами полночными,
вы —
лучшие хорошего помощники,
и тем,
что вы хорошим помыкаете,
вы помогаете ему,
да! —
помогаете!
Его устойчивость —
она для вас загадка.
А это —
вами данная закалка.
И вы никак с хорошим не расправитесь
и этим —
еще более мне нравитесь!
1962
«Как ты женщинам врешь обаятельно…»
Профессор,
вы очень не нравитесь мне.
А я вот понравился вашей жене
и вашему сыну —
угрюмому парню,
который пошел,
очевидно,
не в папу.
Мне все подозрительно в вас —
и румянец,
и ваш анекдотик про чей-то романец,
и ежик ваш пегий с зализом на лбу.
Я
слишком румяных людей
не люблю!
И все же,
профессор,
какая удача,
что с вашею рядом —
товарища дача,
что вы пригласили к себе по-соседски,
что съели мы даже у вас по сосиске,
и вот, напряженно и сумрачно тешась,
я с вами играю в настольный теннис.
Профессор,
ни я
и ни друг не забыли,
что в самое трудное время вы были
не с теми, кто бился,
а с теми, кто бил,
и предали тех,
кто талантливей был.
Профессор,
тут дело не в личной злобе.
Взгляните,
как смотрит на вас исподлобья,
угрюмо и мертвенно напряжена,
красивая женщина —
ваша жена.
А мальчик,
профессор,
ваш мрачный мальчик,
как нервно он бьет
целлулоидный мячик,
как едко не верит он
вашим словам
и рвется отчаянно к нам,
а не к вам!
Профессор,
мы с вами еще не сочлись.
На почве пинг-понга
мы просто сошлись.
Профессор,
ограблю я вас и ославлю.
Жену еще, может,
я вам и оставлю.
Оставлю жену,
но имейте в виду —
я все-таки сына от вас уведу!
1962
Я ангел
Как ты женщинам врешь обаятельно!
Сколько в жестах твоих красоты!
Как внимательно и обнимательно,
как снимательно действуешь ты!
Произносишь ты речи чуть странные,
напускаешь дурманящий дым.
Нежность – это оружие страшное.
Побеждаешь ты именно им.
Ни малейшей вульгарности, грубости.
Только нежно погладишь плечо,
и они уже делают глупости,
и готовы их делать еще.
И, вниманием не избалованные,
заморочены магией фраз,
как девчонки, идут на болотные
голубые огни твоих глаз.
Они слушают стансы ласково,
и, выплакивая им боль,
ты влюбляешься по Станиславскому —
вдохновенно вживаешься в роль.
Но ведь женщины, – женщины искренни
не актерски, а так, по-людски,
и просты их объятья, как исповедь
накопившейся женской тоски.
В их глазах все плывет и качается,
ну а ты – уже стал ты другим.
Так спектакль для актера кончается,
ну а зритель живет еще им.
Личность, в общем, до женщин ты лютая,
как ты сыто бахвалишься сам.
Это часть твоего жизнелюбия —
поясняешь интимным друзьям.
Почему же порой запираешься,
в телефонную трубку грубя,
и по-новому жить собираешься?
Значит, мучает что-то тебя?
И в плывущих виденьях, как в мареве,
возникают, расплатой грозя,
отуманенные обманами
женщин горестные глаза.
Ты к себе преисполнен презрения.
Ты в осаде тех глаз. Ты в кольце.
И угрюмая тень преступления
на твоем одиноком лице.
1962
Не пью.
Люблю свою жену.
Свою —
я это акцентирую.
Я так по-ангельски живу —
чуть Щипачева не цитирую.
От этой жизни я зачах.
На женщин всех глаза закрыл я.
Неловкость чувствую в плечах.
Ого!
Растут, наверно, крылья.
Я растерялся.
Я в тоске.
Растут – зануды!
Дело скверно!
Теперь придется в пиджаке
проделать прорези, наверно.
Я ангел.
Жизни не корю
за все жестокие обидности.
Я ангел.
Только вот курю.
Я —
из курящей разновидности.
Быть ангелом —
страннейший труд.
Лишь дух один.
Ни грамма тела.
И мимо женщины идут.
Я ангел.
Что со мной им делать!
Пока что я для них не в счет,
пока что я в небесном ранге,
но самый страшный в жизни черт,
учтите, —
это бывший ангел!
1962