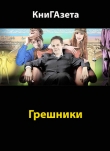Собрание сочинений. Том 4

Текст книги "Собрание сочинений. Том 4"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Юрию Казакову
Особая душа
В колокольно-березовой Вологде,
отдохнув от охоты слегка,
мы бродили с товарищем вольные —
как два истинно вольных стрелка.
После памятной встречи с правительством
в шестьдесят вроде третьем году,
удивлялись мы жизни провинции,
словно ходикам на ходу.
И вошли мы в музей краеведческий
под урчанье пружинных дверей,
где был полный покой человеческий
из-за множества стольких зверей.
Мы глядели на чудные чучела,
на коллекции древних монет,
и все то, что в столице нас мучило,
постепенно сходило на нет.
Думал я – может быть, искупаются
изверженья вулканные тем,
что полезные ископаемые
собираются кем-то затем.
Может, было не очень-то вежливо,
только нас на последнем шагу
привлекла одинокая вешалка
в пустовавшем стеклянном шкафу.
И старушка, с вязаньем стоявшая,
пояснила, как только могла:
«Здесь писателя нашего – Яшина
фронтовая шинелка была.
Сняли нынче-то. Воля господская,
а три пули шинелку – насквозь.
Свадьбу он описал вологодскую,
да начальству, видать, не пришлось».
И как будто в дерьме искупались мы,
не смотрели мы по сторонам,
и полезные ископаемые
стали вдруг отвратительны нам.
В колокольно-березовой Вологде,
где кольчугой ржавеет река,
шли со взглядами, в землю вогнанными,
два обманчиво-вольных стрелка.
Мы взбирались на дряхлые звонницы
и глядели, угрюмо куря,
на предмет утешения вольницы —
запыленные колокола.
Они были все так же опасными.
Мы молчали, темны и тяжки,
и толкали неловкими пальцами
их подвязанные языки.
8 октября 1964, Переделкино
Деревенский
Нас на шхуне двадцать восемь душ.
Мы на двадцать восемь делим куш,
а добычи нету – держим шик
и на двадцать восемь делим пшик.
Только между нами, кореша,
есть одна особая душа.
Рассказал нам знающий еврей:
парень был в охране лагерей.
Среди нас ни бога, ни судьи.
Он теперь матрос второй статьи.
Так же, как и мы, белуху бьет.
Так же, как и мы, бывает, пьет.
Как и все, имеет сундучок,
где носки, бельишко, табачок,
но у Пьехи – миль пардон! – Эдит
по игле в любом глазу сидит.
Шутка с фотографией странна,
даже жутковатенька она.
Но ведь не живая, а портрет.
Как ни уколи, а боли нет.
Может, парень и не виноват.
Просто дали в руки автомат,
вот он там на вышке и стоял
и, быть может, даже не стрелял.
А быть может, он исподтишка
хлеб совал упавшему ЗК,
не пуская в дело свой приклад…
И такие были, говорят.
Кто узнает – как он там служил…
Вроде бы наград не заслужил,
но чертой невидимою он
от команды нашей отделен.
Как-то были мы навеселе,
ну а он стаканом на столе
вдруг накрыл беднягу прусака,
усмехнувшись криво: «Стой, ЗК»!
Приподнялся над столом стакан.
Побежал счастливый таракан.
Но стакан был цепок – не зевал,
он то отпускал, то накрывал.
Парень тем стаканом – хлоп да хлоп
так, что вдруг прошел по всем озноб,
и, прервав нечистый странный смех,
вырвал у него стакан стармех.
Парень заюлил и зашустрил:
«Что вы, братцы… Я же так, шутил…»
Но молчали хмуро кореша.
Что сказать? Особая душа.
8 октября 1964, Переделкино
Баллада о браконьерстве
О чем поскрипывает шхуна?
Не может быть, что ни о чем,
когда, дыша машиной шумно,
несется в сумраке ночном.
О чем под скрип ее вздыхает
матрос, едва успев заснуть,
и что сейчас ему вздымает
татуированную грудь?
Когда, вторгаясь в тучи косо,
елозя, ерзает бизань,
во сне усталого матроса
вдруг прорезается Рязань.
И шхуна тросами, снастями
скрипит, скрипит ему впотьмах
о снеге детства под санями,
о кочерыжках на зубах.
Он просыпается не в духе.
Он пляшет с мрачным криком: «Жги!..»
внутри разрезанной белухи,
чтобы просалить сапоги.
Он от команды в отдаленье
молчит, насуплен и небрит.
«В деревню хочется, в деревню…» —
он капитану говорит.
И вот в избе под образами
сидит он, тяжкий и хмельной;
и девки жрут его глазами —
аж вместе с бляхой ременной.
Он складно врет соседской Дуне,
что, мол, она – его звезда,
но по ночам скрипит о шхуне
его рассохлая изба.
Уже чуть-чуть побитый молью
на плечи просится бушлат.
«Маманька, море тянет, море…» —
глаза виновно говорят.
И будет он по морю плавать,
покуда в море есть вода,
и будет Дунька-дура плакать,
что не она его звезда.
Но, обреченно леденея,
со шхуны в море морем сбит:
«В деревню хочется… в деревню…» —
он перед смертью прохрипит.
9 октября 1964, Переделкино
Несмотря на запрещение, некоторые рыболовецкие артели ведут промысловый лов рыбы сетями с зауженными ячейками. Это приводит к значительному уменьшению рыбных богатств.
Из газет
Баллада о схимнике
Киношники и репортеры
просто насквозь пропотели,
снимая владыку Печоры —
тебя, председатель артели,
лицо такое простое,
улыбку такую простую,
на шевиотовом лацкане
рыбку твою золотую.
Ты куришь «Казбек», председатель.
Ты поотвык от махорки.
Шныряют везде по Печоре
твои, председатель, моторки.
Твои молодцы расставляют,
где им приказано, сети.
В инязе и на физмате
твои, уже взрослые, дети.
И ты над покорной Печорой,
над тундрой,
еще полудикой,
красиво стоишь, председатель,
взаправду владыка владыкой,
и звезды на небе рассветном
тают крупинками соли,
словно на розовой, сочной,
свежеразрезанной семге.
Под рамками грамот почетных
в пышной пуховой постели
праведным сном трудолюба
ты спишь, председатель артели.
В порядке твое здоровье.
В порядке твои отчеты.
Но вслушайся, председатель, —
доносится шепот с Печоры:
«Я семга.
Я шла к океану.
Меня перекрыли сетями.
Сработано было ловко!
Я гибну в сетях косяками.
Я не прошу, председатель,
чтобы ты был церемонным.
Мне на роду написано
быть на тарелке с лимоном.
Но что-то своим уловом
ты хвалишься слишком речисто.
Правда, я только рыба,
но вижу – дело нечисто.
Правила честной ловли
разве тебе незнакомы?
В сетях ты заузил ячейки.
Сети твои – незаконны!
И ежели невозможно
жить без сетей на свете,
то пусть тогда это будут
хотя бы законные сети.
Старые рыбы впутались —
выпутаться не могут,
но молодь запуталась тоже —
зачем же ты губишь молодь?
Сделай ячейки пошире —
так невозможно узко! —
пусть подурачится молодь,
прежде чем стать закуской.
Сквозь чертовы эти ячейки
на вольную волю жадно
она продирается все же,
себе разрывая жабры.
Но молодь, в сетях побывавшая, —
это уже не молодь.
Во всплесках ее последних
звучит безнадежная мертвость.
Послушай меня, председатель, —
ты сядешь в грязную лужу.
Чем у́же в сетях ячейки —
тебе, председатель, хуже.
И если даже удастся
тебе избежать позора,
скажи, что будешь ты делать,
когда опустеет Печора?»
Грохая тяжко крылами,
лебеди пролетели.
Хмуро глаза продирая,
встает председатель артели.
Он злится на сон проклятый:
«Ладно – пусть будет мне хуже!» —
и зычно орет подручным:
«Сделать ячейки у́же!»
Валяйте, спешите, ребята,
киношники и репортеры,
снимайте владыку Печоры,
снимайте убийцу Печоры!
10 октября 1964, Переделкино
«Вся любопытная, как нерпочка…»
Рассвет скользил, сазанно сизоват
в замшелый скит сквозь щели ставен,
а там лежал прозрачноликий старец,
приявший схиму сорок лет назад.
Он спал. Шумели сквозь него леса
и над его младенческими снами
коровы шли, качая выменами,
и бубенцы бряцали у лица.
Он сорок лет молился за людей,
за то, чтобы они другими были,
за то, чтобы они грешить забыли
и думали о бренности своей.
Все чаще нисходило, словно мгла,
безверие усталое на вежды,
и он старел, и он терял надежды,
и смерть уже глядела из угла.
Но в это утро пахла так земля,
но бубенцы бряцали в это утро
так мягко, так размеренно, так мудро,
что он проснулся, встать себе веля.
Он вздрагивал, бессвязно бормоча,
он одевался, суетясь ненужно.
Испуганно-счастливое «неужто?»
в нем робко трепыхалось, как свеча.
Неужто через множество веков,
воспомнив о небесном правосудье,
в конце концов преобразились люди
и поняли греховность их грехов?
Он вышел. Мокрый ветр ударил в лик.
Рожая солнце, озеро томилось,
туманом алым по краям дымилось,
и были крики крякв, как солнца крик.
Блескучие червонные сомы
носами кверху подгоняли солнце,
и облака произрастали сонно
внутри воды, как белые сады.
Сияли, словно райские врата,
моря цветов – лиловых, желтых, синих,
и, спохватившись еле-еле, схимник
подумал:
«Грех вся эта красота…»
Он замер. Он услышал чей-то смех
за свежими зелеными стогами
и омрачился: бытие – страданье,
а смех среди страданья – это грех.
Но в сене, нацелованно тиха,
дыша еще прерывисто и влажно,
лежала девка жарко и вальяжно,
кормя из губ малиной пастуха.
Под всплески сена, солнца и сомов
на небеса бесстыдно и счастливо
глядели груди белого налива
зрачками изумленными сосков.
И бедный схимник слабый стон исторг,
не зная, как с природою мириться —
и то ли в скит опять бежать молиться,
и то ли тоже с девкою – под стог.
Сжимая посох, тяжкий от росы,
направился топиться он в молчаньи.
Над синими безумными очами,
как вьюга, бились белые власы.
Он в озеро торжественно ступил.
Он погружался в смерть светло и кротко
но вот вода дошла до подбородка,
и схимник вдруг очнулся и… поплыл.
И, озирая небо и тайгу,
в раздумиях об истинном и ложном
он выбрался на противоположном
опять-таки греховном берегу.
Его уста сковала немота.
Он только прошептал: «Прости, о Боже…»
и помахал скиту рукой, и больше
его никто не видел никогда.
И перли к солнцу травы и грибы,
и петухи орали на повети,
и по планете прыгали, как дети,
ликующе безгрешные грехи…
1964
Лермонтов
Вся любопытная, как нерпочка,
кося глазами из-под шапки,
меня учительница-неночка,
смеясь, обыгрывала в шашки.
Так мы играли с ней на катере
над той весеннею Печорою,
и журавли на доску капали,
подбеливая шашки черные.
А кто-то там, в столичном климате,
со мной, как с шашкою игрался,
но вновь,
с доски небрежно скинутый,
лишь отвернутся —
я взбирался.
Я не впадал в тоску сиротскую.
Я постигал всей моей шкурой
науку больше, чем игроцкую —
не стать проигранной фигурой.
1964
«В моменты кажущихся сдвигов…»
О ком под полозьями плачет
сырой петербургский ледок?
Куда этой полночью скачет
исхлестанный снегом седок?
Глядит он вокруг прокаженно,
и рот ненавидяще сжат.
В двух карих зрачках пригвожденно
два Пушкина мертвых лежат.
Сквозь вас, петербургские пурги,
он видит свой рок впереди,
еще до мартыновской пули,
с дантесовской пулей в груди.
Но в ночь – от друзей и от черни,
от впавших в растленье и лень —
несется он тенью отмщенья
за ту неотмщенную тень.
В нем зрелость не мальчика – мужа,
холодная, как острие.
Дитя сострадания – муза,
но ненависть – нянька ее.
И надо в дуэли доспорить,
хотя после стольких потерь
найти секундантов достойных
немыслимо трудно теперь.
Но пушкинский голос гражданства
к барьеру толкает: «Иди!»
…Поэты в России рождаются
с дантесовской пулей в груди.
16 августа – 12 октября 1964, Переделкино
Осень
В моменты кажущихся сдвигов
не расточайте силы зря,
или по глупости запрыгав,
или по глупости хандря.
Когда с кого-то перья в драке
летят под чей-то низкий свист,
не придавайте передряге
уж чересчур высокий смысл.
И это признано не нами,
что среди громкой чепухи
спокойны предзнаменованья
и все пророчества – тихи.
25–26 октября 1964, Переделкино
А. Симонову
«Так мала в этом веке пока что…»
Внутри меня осенняя пора.
Внутри меня прозрачно и прохладно,
и мне печально, но не безотрадно,
и полон я смиренья и добра.
А если я бушую иногда,
то это я бушую, облетая,
и мысль приходит, грустная, простая,
что бушевать – не главная нужда.
А главная нужда – чтоб удалось
себя и мир борьбы и потрясений
увидеть в обнаженности осенней,
когда и ты и мир видны насквозь.
Прозренья – это дети тишины.
Не страшно, если шумно не бушуем.
Спокойно сбросить все, что было шумом,
во имя новых листьев мы должны.
Случилось что-то, видимо, со мной,
и лишь на тишину я полагаюсь,
где листья, друг на друга налагаясь,
неслышимо становятся землей.
И видишь все, как с некой высоты,
когда сумеешь к сроку листья сбросить,
когда бесстрастно внутренняя осень
кладет на лоб воздушные персты.
26 октября 1964
«Хватит мелко самоутверждаться…»
Так мала в этом веке пока что
человеческой жизни цена.
Под голубкою мира Пикассо
продолжается всюду война.
Наших жен мы поспешно целуем,
обнимаем поспешно детей,
и уходим от них, и воюем
на войне человечьих страстей.
Мы воюем с песками, снегами,
с небесами воюем, с землей.
Мы воюем с неправдой, с долгами,
с дураками и сами с собой.
И когда умираем – не смейте
простодушно поверить вполне
ни в инфаркт, ни в естественность смерти
мы убиты на этой войне.
И мужей, без вины виноватых,
наши жены, приникнув к окну,
провожают глазами солдаток
на проклятую эту войну.
26 октября 1964
«Не тратьте время, чтобы помнить зло…»
Хватит мелко самоутверждаться —
я уж, слава богу, не дитя.
Надоело самоутруждаться,
грудь свою выпячивать, пыхтя.
Из моих небрежных наблюдений
все-таки я понял наперед:
жажда мелких самоутверждений
к саморазрушению ведет.
Все проходит – женщины, известность,
множество заманчивых огней.
Остается внутренняя честность.
Самоутвержденье только в ней.
Самоутверждение бессмертно,
если, не стремясь в бессмертный сан,
для себя и мира незаметно
утверждаешь большее, чем сам.
26 октября 1964
«Нам смирно усидеть невмоготу…»
Не тратьте время, чтобы помнить зло.
Мешает это внутренней свободе.
Мешает просто – черт возьми! – работе, —
ну, в общем, это хлопотно зело.
А помните добро, благодаря
за ласку окружающих и бога.
На это дело, кстати говоря,
и времени уйдет не так уж много.
29 октября 1964, Переделкино
Вальс о вальсе
Нам смирно усидеть невмоготу.
Понравиться стараемся нещадно
себе, друзьям, и фронде, и начальству
(о женщинах уж я не говорю).
Затем хотим понравиться стране,
затем земному шару и эпохе,
затем потомкам нашим,
а в итоге
не нравимся и собственной жене…
29 октября 1964, Переделкино
На музыку Э. Колмановского
Четыре чулочницы
«Вальс устарел», —
говорит кое-кто, смеясь.
Век усмотрел
В нем отсталость и старость.
Робок, несмел,
Наплывает мой первый вальс…
Почему не могу
Я забыть этот вальс?
Твист и чарльстон —
Вы заполнили шар земной.
Вальс оттеснен,
Без вины виноватый.
Но, затаен, он всегда
и везде со мной.
И несет он меня, и качает меня,
Как туманной волной.
Смеется вальс
над всеми модами века.
И с нами вновь танцует
старая Вена.
И Штраус где-то тут
сидит, наверно.
И кружкой в такт стучит —
на нас не ворчит,
не ворчит…
Вальс воевал,
Он в шинели шел, запылен.
Вальс напевал
Про маньчжурские сопки.
Вальс навевал
Нам на фронте «Осенний сон».
И, как друг фронтовой,
Не забудется он.
Вальс у костра
Где-то снова в тайге сейчас.
И Ангара
Подпевает, волнуясь.
И до утра
С нами сосны танцуют вальс…
Пусть проходят года,
все равно никогда
Не состарится вальс.
Поет гармонь,
Поет в ночном полумраке.
Он с нами, вальс —
В ковбойке, а не во фраке.
Давай за вальс поднимем
наши фляги,
И мы ему нальем —
нальем и споем,
И споем…
Робок, несмел,
Наплывает мой первый вальс.
Никогда не смогу,
никогда не смогу,
Я забыть этот вальс…
1964
А. Твардовскому
По подвыпившим улицам ходят чулки,
на морозце к ногам примораживаясь,
и девчонки,
слюня носовые платки,
вытирают чулки,
прихорашиваясь.
И твистуют чулки,
и пустуют чулки,
себя где-то на трубах высушивая,
и по скверам подрагивают,
чутки,
что-то очень такое выслушивая.
А четыре чулочницы
отдыха для
выпивают по случаю Женского дня.
Кто не с ними – дурак!
И барак не барак,
и музы́ка гремит,
как на лучших балах!
А в красильном цеху —
там туман да туман,
а приходишь домой —
там тумак да тумак,
и поди разбери,
что внизу, что вверху,
и туман в голове,
как в красильном цеху.
У одной пьет мужик,
у другой пьет мужик,
и у третьей он пьет…
У четвертой – лишь пшик:
у четвертой тоска,
что вот нет мужика
(хоть бы пил,
да хоть был…).
«Ну их к черту!» —
сказала, хлебнувши, одна.
«Ну их к черту!» —
вторая рванула до дна.
«Ну их к черту!» —
и третья очнулась от сна,
а четвертая,
хоть и ничья не жена,
деловито и кратко
послала их на…
Хорошо просто так полежать на боку,
поглядеть в потолок,
пожевать чесноку,
целоваться-то не с кем,
так выпей —
и с ног!
Так хрусти
им, пьянчугам, в отместку
чеснок!
А в соседней клетушке —
там писк и «кыш-кыш!»
Там живет среди кроликов,
птиц
и афиш
бывший вроде актер,
ну а ныне вахтер
по прозванью дядь Миш.
И заходит дядь Миш
в безадамовый рай.
На плече его важно сидит попугай.
Ну, а бабы кричат:
«Попугай, не пугай!
Мы такое расскажем тебе, попугай,
что хоть в Африку снова сбегай!»
И – к дядь Мише одна,
и, видать, не впервой!
«Эх, дядь Миш,
и какой же бессовестный – мой…»
«Это точно…» —
дядь Миш чуть качнет бородой.
«Ну, а был ты такой же,
когда ты был муж?»
«Был такой же…» —
кивнет бородою дядь Миш.
И дядь Мишу чулочницы весело бьют,
и в селедку его бородою суют,
а потом,
подобревши душою,
встают:
«Ну, а все-таки, где наши сволочи пьют?»
«Точно, сволочи…» —
им подыграет дядь Миш.
«Как так – сволочи? —
тут же. —
Чего ты дуришь?
Все же наши мужья,
а не то чтобы чьи…
Если пьют они —
все-таки пьют на свои».
«Мой имеет медаль
как-никак за Берлин».
«Ну, а мой – бригадир,
и такой он – один».
«Ну, а мой – не герой,
ну а все-таки мой».
И уходят три гордые бабы домой.
А четвертая —
та, что ничья не жена,
остается одна и стоит у окна.
Ей так хочется тоже кого-то искать,
и таскать на себе, и, дурного, ласкать.
А по улицам ходят чулки,
чулки…
У дядь Миши веселье —
родились щенки.
И дядь Миша заходит:
«Ну, мать, хватит пить.
Подарю тебе лучше щенка,
чем топить».
1964