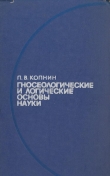Текст книги "Драма советской философии. (Книга — диалог)"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Соавторы: Валентин Толстых
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Ты бывала у отца моего? – Я ему довольно подробно описывал те сражения, где я был, правда, избегая упоминать о своей роли там, в этих боях, а писал будто бы наблюдал все это со стороны…
А доставалось мне крепко не раз и не два. Ты знаешь, м.б., что тот значок, что я носил до последних дней на левом рукаве, называют значком «смертников», а те игрушки, на которых я работал – «прощай – родина»? Для очень многих моих товарищей эти названия оказались справедливыми… А что я оказался одним из счастливцев – то, видно, суждено мне опять тебя увидеть… Но зато теперь работа у меня будет спокойней. На таких игрушках, почти в 3,5 раза больше, работать куда интересней – тут и математика, и графика нужны… Эти игрушки отец мой видал, когда навещал меня в 42–м году. Он поподробней тебе расскажет о них, чем я это могу в письме сделать…
Я то сам, правда, опять на переднем крае буду – я уж теперь записной К.В.У., на огневой не усижу…
А бой идет рядом жестокий… Бьют «Катюши», пушки всех размеров, авиация идет эшелон за эшелоном. Немец никак не хочет отдавать города, хоть бьют его уже третьи сутки.
Но это не беда, скоро сомнем его тут. А потом все разом на Берлин навалимся, и будет конец войны.
Интересно вот только – будет он, этот самый пресловутый конец, летом или раньше?…
Да, и адрес мой я уже знаю, только не знаю буквы. Но это не беда – дойдут – полевая почта 07056. Пиши, и передай домашним моим. А то им сегодня писать уже не буду.
Привет всем знакомым, и особенно твоей маме. Скажи ей, что я бы сейчас истопил для нее сто печек и двести раз сходил бы за хлебом, и не поленился бы, хоть, между нами, лентяй то я огромный…
28 марта 45.
Сегодня уже бросал к фрицам шестипудовые гостинцы. А им и без них там тошно… По дороге из города бредут десятками тысяч жители. Когда начинают рявкать мои игрушки, то словами не опишешь, что с ними с перепугу делается. А тут еще «катюша» из – за домов стала пускать свои метеоры… Тут уж они решили, что конец света пришел…
А солдаты от хохота по земле валяются…
«Вольный» город горит… Там бьется наша пехота, а мы посылаем в этот хаос из огня и дыма своих «поросят»…
31 марта 45.
Вчера вдруг неожиданно встретил человека, который и тебя знает. Получилось это так. Освоился я с новыми людьми, познакомился со всеми моими игрушками, сижу, читаю. Вдруг кричат – по местам! Когда все было готово, я увидел, что кругом стоят киноаппараты, и готовятся нас снимать.
Физиономия одного из операторов почему – то не давала мне покоя. Пока ребята мои возились у игрушки, я подошел и заговорил. Ну, так и есть – Семин. Ты знаешь ведь его по госпиталю? Так вот снял он меня на кинохронику, теперь ходи в кино почаще, гляди в оба. Отец мой приблизительно тебе опишет, у каких игрушек я работать должен. А я стою слева от нее, подаю команду.
Кроме того, сделал он ряд снимков лейкой. Обещал переслать домой. А ты забери у мамаши те, которые тебе понравятся больше. Так и передай, чтобы отдала.
Поговорить, расспросить его подробней, не успел, он торопился, но обещал заехать еще.
16 апреля 45.
Привет из центральной Германии!
Я снова на переднем крае, на маленьком «пятачке» за большой рекой… Точнее адрес указывать нельзя, сама понимаешь… Фриц отчаянно отбрыкивается от петли. Впервые за все наступление вижу я его самолеты…Даже своих «фау» не жалеет он для нас… это самолет – снаряд. Ну ничего, и они его теперь не спасут!
Да и, откровенно говоря, это вещь и не настолько страшная, как он думает… Туда, куда он хочет – никогда не попадет… Правда, воронку он делает такую, что спокойно влез бы дом средних размеров, а осколки летят аж на километры кругом… Но все равно ж ему будет крышка!..
Бью фрица и я. Как – ты знаешь. Увижу интересное что, открою таблицы логарифмов и конец ему.
Живу в общем спокойно. Блиндаж себе соорудил с накатом в 6–ть толстенных бревен – почти от любого снаряда спасет…Вот работы только много – писем писать время никак не выберешь… Так что не обижайся! И пиши сама. А то ведь я уж месяц как не получаю ни строчки…
20 апреля 45.
Вы уже, верно, слышали салют нашему фронту (я не в том, где был)… Я в самой гуще этого грандиозного, м.б., последнего на земле, сражения… Потому только сегодня и смог урвать минуту для письма.
Писать пока больше не могу, т. к., кажется, про нас еще не объявили официально. Но это сегодня, а когда ты письмо получишь, то увидишь где я был две недели назад… Так что, м.б., ты смотрела салют в честь Жукова, и не знала, что и мне тоже салютуют пушки Москвы…
Ну до свидания, теперь, должно быть недалекого… Авось те считанные дни не сыграют надо мной злой шутки…
25 апреля 45.
Пишу тебе из большого города, всемирно известного – если цензура не зачеркнет – Берлина. Сижу с своими ребятами на крыше, наблюдаю и командую огнем… Вдаль от меня уходит улица под красивым названием – «Unter den Linden» – это значит – «Под липами»…
В городе мне, как старому москвичу, воевать нравится больше, чем в траншеях посередь чистого поля…
Эх, рассказать мне тебе столько хочется! На днях водрузим знамя победы над этим треклятым городом, наверно – завтра к вечеру… А ты в Москве слушай салют нашему Жукову – хотя что я пишу – ведь когда ты получишь это письмо, этот салют уже будет позади… А как мне хотелось бы, чтобы сегодня, 25 апреля, ты знала, что я сижу на крыше на одной из берлинских улиц и завоевываю салют, что ты будешь слышать в далекой Москве завтра – послезавтра!..
Ну всего! Жди все же трех звонков!
6 мая 45. Берлин.
Сегодня у меня такое скверное настроение, что хоть вешаться впору; хоть и закончилась для меня война…
Произошла такая печальная история. Прислала мне Люб. Петровна письмо, и там была твоя фотография – увеличенная с той, где ты такая веселая. Сел я писать письмо в траншее, написал ей длиннющее письмище. А конверт ее письма только с твоей той фотографией, лежал рядом. Тут меня вызвали, вернулся я – нету конверта! А уж мы проехали километра три по улицам…
Всю радость мне эта история испортила. Во – первых – фотография – то единственная, к тому же насмотреться даже не успел, и столько ждал…
А во – вторых – попадет еще конверт с обратным адресом Л.П. и твоей фотокарточкой (больше там ничего не было) к какому – нибудь фронтовому Дон – Жуану, и начнет бедная Любовь Петровна получать ни с того, ни с сего, чувствительные письма…
Влез я в трактор, порвал со злости фотографии немецких киноактрис, которыми механики разукрасили всю кабину, и все таки легче не стало…
Вот такая то моя жизнь. А тут еще ты ни строчки не пишешь.
Хоть одно хорошо – Берлин взяли мы, вчера ездил на велосипеде по всему городу. Вернее по тому месту, где раньше был город… потому английские и наши бомбы дело свое сделали… Немногим больше осталось от него, чем от Сталинграда…
Теперь задач – попасть в Москву. Эх, поскорее бы…!
10 мая 45.
Третий раз принимаюсь писать тебе, и опять не знаю, удастся ли кончить. Два уже разорвал на клочки.
Тоскую по тебе сильно – сильно. Особенно теперь, когда кончился этот ад…
Настроение такое, что ни к чему не лежат руки, сорвался бы, плюнул бы на все, и бегом бы бежал до Москвы, из этого уже опостылевшего Берлина.
Ночью долго не могу заснуть, все представляю себе, как ворвусь я в парадное на Кузнецком мосту, как встретишь меня ты… Лежу на траве среди деревьев, и мне кажется, что ты сидишь рядом и молча ласково улыбаешься.
И хожу злой на все, чувствую себя так, как верно чувствует себя зверь, попавший в клетку…
А ты письмами меня не балуешь. Ну неужто ж тебе трудно раз хотя бы в три – четыре дня черкнуть?!
P.S. Приехал ли Сёмин в Москву? И видели ли меня в кино?
13 мая 1945 Берлин.
Два дня назад получил твое письмо с исключительной оказией – отцом, а сегодня – за 27 апреля.
Из писем этих с превеликим огорчением узнал, что ты почему – то не получала моих писем, а знала обо мне только из писем моих домой. Очень огорчило это меня. Я ведь писал тебе даже чаще, чем домой, а не только что реже…
Правда многие письма тебе так и не отправил… Напишешь, прочтешь, и призадумаешься – пройдет ли оно через цензуру?… Письма к тебе я всегда ведь садился писать, когда появлялась необходимость поделиться с кем – то близким чем – то волнующим и важным, а это часто, да и пожалуй чаще всего, шло вразрез с интересами цензуры…
Так что черт его знает, м.б., те, что я отправил, попали вместо тебя, да в окр…
Писал я тебе и из Данцига, и из – под Берлина, и из Берлина…
Ты пишешь, Иринка, что чуть недовольна тем, что я описываю тебе то, что ты можешь прочесть и в газетах, а о себе совсем мало…
Так в этих боях, которые по грандиозности своей не имеют себе подобных, как – то все личное, маленькое, действительно – таки подавлялось фантастическим видением непостижимо огромной катастрофы, какого – то феерического величия событий, так что я уже сейчас не могу толком рассказать о себе, как о личности в этих событиях… Это действительно так…
Вот сидим с отцом сейчас, и ему интересно именно это тоже…А я вместо того, описываю ему картину прорыва обороны на Одере, или крушения Берлина. Эти картины были настолько потрясающими, что вспомнить свою роль, роль всего – навсего человека – кажется и смешным и глуповатым…
Вот представь себе…
Мы сидим в траншее седьмые сутки, под непрерывным обстрелом. Все надоело страшно. Развлекаешься иногда ночью тем что смотришь на горизонт, где должен быть Берлин. И иногда видишь тонкие слабые лучи прожекторов, какие – то колоссальные вспышки… Иногда «мессершмидты» приведут и бросят пять – шесть самолетов – снарядов. Огрызаются во тьме пушки… А земля, вся до последнего кусочка изрытая и истерзанная, пуста… И охватывает чувство, которое изредка испытывал я и раньше, чувство ничтожности и хрупкости своего существа перед каким – то непонятным, таящим свою силу, всю огромность которого и представить как – то жутко, существом. Это иногда приходилось мне раньше испытывать во сне…
Это чувство, конечно, охватывало в обороне лишь минутами, даже мгновениями, чувство подсознательное, когда находишься один, когда не занят тем, что готовишь и сам все то, что должно произойти со дня на день, когда не рассматриваешь все это, как человек, которому весь механизм этого существа, известен до последних винтиков…
Но вот в 3 часа утра 16 апреля, когда чувствовалось, что все уже готово, нас разбудили, и вполголоса зачитали обращение маршала Жукова и приказ. – «На вас выпала честь разгромить войска противника на ближних подступах к столице фаш. Герм. – Берлину и в короткий срок закончить войну!..» И вот все, что таилось во тьме и в земле, вдруг развернулось и ожило в 5–00 утра 16–го апреля…
Был густой туман. Земли врага не видно. Но все траншеи заполнены артиллеристами со стереотрубами. Все поглядывают на часы, стрелки которых идут очень медленно… И вот когда стрелка стала на место, вся, казалось, вселенная, вдруг наполнилась багрово – красным светом, туман весь окрасился будто краской, и через несколько секунд в уши ударил обвалоподобный грохот, в котором отдельных выстрелов разобрать было нельзя… Ты слышала салют из 1000 орудий? Ну а здесь их было, чтобы не соврать, многие и многие тысячи…
И этот свет и грохот, длился не больше не меньше, как 2 1/2 часа. Тут для любого это зрелище очень ошеломляюще…
Там, куда летели все эти сотни тонн стали и тола, куда мчались метеоры «катюши» и «Луки М – ва» (эту штуку на фронте прозвали чуть – чуть неприлично), разрасталось новое зарево… Тянуло дымом и гарью…
Ну вот и представь, что может чувствовать человек при виде такого дела… Тут и гордость, и радость участника, и восторженный ужас просто человеческой души, и еще много такого, чего не передать словами…
А потом в этот ад ушла пехота, а за ними мы…
Земля растерзанная, битый камень бывших домов, гарь пожара, и в дыму, черно – багровом, чудом уцелевшая вся в белом цвету, яблоня…
И над всем этим рев сотен моторов в воздухе, треск пулеметов, хлопанье пушек и удары разрывов… Сгоревшие трупы людей и танков, домов и деревьев…
Обо всем этом нельзя рассказать спокойно… Поневоле срываешься чуть ли не на стихи…
И безудержное движение танковой лавины в прорыв, очень рискованный, когда всё валит по шоссе, а по обеим обочинам стоят пушки и бьют в обе стороны напропалую… Вперед, на Берлин, вот он, конец войны, хватай его, скорей, скорей… Все черные, перемазанные, а радостные такие, как в праздник не бывали…
А потом – пламя дожирает в Берлине все, что не успели разбить англичане бомбами…
…Я сижу на высокой колокольне, и передо мной он, Берлин… Вниз смотреть жутковато, кажется что она вот – вот рухнет от случайного снаряда, а до земли черт знает сколько лететь – люди внизу как муравьи… и, откровенно, только усилием воли, довольно напряженным, заставил себя не слезть вниз…
Бой днем и ночью. Грохот, треск, пламя и гарь, кровь и трупы… И финал – на трех аэростатах поднимается кверху над городом огромное знамя…
И вот – странное дело: никакого бурного чувства радости… Война кончилась… Как – то спокойно все это воспринялось… Сели покурили… – «Ну что ж, кончилась, что ли?» – ласково улыбаясь, скажет один; «Да что – то вроде…, ну – ка, дай прикурить…» Совсем по иному, чем в Москве, судя по фотографиям и рассказу отца… Это уж какая – то привычка, идущая, верно, оттуда, что после жаркого боя солдат вспоминает, что у него еще вчера оторвалась пуговица, и очень досадует на то, что потерял иголку, и нечем пришить… Сразу появилось столько вещей, требующих внимания, что для того, чтобы осознать всю неповторимую великую радость момента, не осталось в душе места… А самое важное – остался живой, для живого человека мысль неудивительная, потому что иным он и не бывал…
Так что требуется какой – то взгляд со стороны, чтобы обрадоваться…
Еще мои личные переживания: очень жаль берлинских детишек и стариков, которые приходят просить хлеба… Для меня война кончилась, а для них началась другая, м.б., более жестокая.
А главное теперь, когда уже не рвутся снаряды, все это кругом, эти тряпки на плечах и все прочее, кажутся таким постылым, что готов бы плюнуть на все и бегом бежать в Москву.
Теперь эта и ближайшая, и единственная в жизни моей задача… И вбежать в твой подъезд, распахнуть двери, ворваться к тебе… Вот только тогда, верно, почувствуется радость, которую Москва познала 9 мая…
Если ты не получала писем моих, Иринка, то не думай ради бога, что я забывал тебя хоть на минуту… Вот здесь же вложу письмо, которое написал и не отправил, а таких ведь не одно и не два…
22.5.45.
Вот уезжает отец… После этого проклятая заграница, чертов берлинский лес, станут верно, еще постылее…
Не знаю, как буду служить теперь… Чем кончится вся эта мирная военная служба для моей «саботажной» натуры, если она затянется на некоторый еще срок… Прямо гадать боюсь… Уж, кажется, лучше бы опять воевать…
Эти равнения, однообразие, как высший идеал, к которому должны стремиться все помыслы, вызывают у меня чуть ли не физическую тошноту. А тут я их еще должен сам устанавливать и «воспитывать» в этом духе людей…
Так что настроение мое представить не трудно… Одна надежда, без которой хоть в петлю впору лезть, что что – нибудь выйдет с увольнением в запас на учебу…
Ну а ты как думаешь дальше? Если бы ты, Ирка, могла избавиться от вечной угрозы «кочевого образа жизни»! Это еще один тяжелый камень, что лежит у меня на сердце.
Я тебе уже раз написал письмо в таком духе, но отправить не решился, ибо контрразведка за такие речи по головке не погладила бы…
Лес около Берлина, 22 мая.
п/п 07056–Ш
10 июня 45.
Прости, что не писал тебе, я так был занят, увлечен одним делом, увлечен и сейчас, что забыл из – за него все на свете, даже тебя! Не удивляйся, и не обижайся только!
Что такое – я в письме боюсь об этом говорить… Меня увлекла одна очень интересная мысль, такая интересная, что я занят ей все 24 часа в сутки… И в каждой мелочи, всякой, казалось бы, безразличной вещи я вижу только ее, эту мысль, ее проявление. В связи с ней перечитываю и Маркса, и Толстого, и она становится все интересней и отчетливей.
Это со мной впервые такое состояние за всю войну. Правда, это очень мешает работе, даже с генералом я разговаривал очень рассеянно и не так, как любят генералы… Вышла неприятность, и я во всем, кажется, соединении приобрел скандальную известность, чего мне не хотелось… Переспорить – то я его переспорил, но…
P.S. Получил я приказ на орден «Отечественной войны 2 ст.». А сегодня еще и медаль «За Берлин»… Да! Только не подумай ради бога, что увлекся я чем – нибудь вроде Frau какой – нибудь… Совсем, совсем не тем…
16 июня 45.
Ты уже, верно, успела обидеться на меня, что долго молчу? Не обижайся, пойми моё состояние теперешнее: живу в прескучнейшемлесу, вижу одни и те же физиономии, с большинством которых отношения у меня холодные и равнодушные… И все это после таких несоизмеримо богатых смыслом и красками событий, как Берлинский фронт и штурм Берлина… Совсем как в известных стихах – «труды, заботы ночью и днем – все, размышлению мешая, приводит в первобытный вид больную душу – сердце спит, простора нет воображенью и нет работы голове… зато лежишь в густой траве… и т. д.». К числу последних забот прибавилась еще тревога за отца, который уехал от меня давно, но до сих пор (вот уже 20 дней) не шлет писем, и нет намека ни от матери, ни от тебя, что он благополучно добрался домой…
Кроме всего прочего меня очень занимают некоторые мысли, которые мне не дают покоя ни днем, ни ночью, а это, естественно, сказывается на работе; ведь работа эта такая, что не допускает никаких других мыслей и намерений, а в противном случае сыпятся взыскания за взысканиями.
И это при таком положении вещей, что довольно часто работа заключается в том, что без определенного для головы и мысли дела, и в то же время помыслить о другом совершенно невозможно…
Все это создает такое для меня тяжелое моральное состояние, что делиться им с тобой не позволяет совесть…
И чтобы окончательно не затосковать, не принять образ, подобный большинству окружающих, я жертвую деньгами из зарплаты, в виде вычетов за арест, и кое – что делаю и для себя. Что именно – в письмах об этом распространяться не считаю возможным, а расскажу, когда приеду совсем… Во всяком случае, дело для меня значительное, спасительное и полезное. Об нем я уже писал отцу довольно подробно… И просил рассказать и тебе.
Привез ли отец мой тебе маленький подарок из Берлина?
23 июня 45.
Писем от тебя уже очень давно не получаю, а в проклятом этом лесу дни тянутся годами; особенно это тягостно после жизни, так богатой событиями, как последние дни Войны…
Скучно, до чертиков тоскливо, и даже водки нет, чтобы напиться… Спасаемся (а ребят вроде меня тут есть человека три) от тоски тем, что часов до 3–х утра болтаем обо всем, кроме строевой подготовки и уставов…
Кстати: очень тебя прошу узнать в твоем институте, насколько возможно о нем мечтать одному моему замечательному другу (очень, кстати, напоминающему Яшку). Он в чине капитана, с пятью орденами, лет ему от роду 24, учился раньше в ИФЛИ, а теперь единственный для него выход – поступить в институт, подобный Вашему. Он написал официальный запрос – но к нему могут отнестись по – бюрократски. Напиши, пожалуйста, что ты насчет этого можешь посоветовать! Для человека это – м.б. единственная и последняя надежда в жизни…
Собрал я такую богатейшую коллекцию музыки на грам. пластинках, что в Москве за золото не достать – Бетховен, Вагнер, Лист, Бах, Гендель, Брукнер, Шуберт и масса других, столько, что один поднять не могу. Но мечтаю все их в конце концов довезти до Москвы.
Вот так то…
Берлин. 2 июля.
Пишу тебе, хоть давно уже мои письма остаются безответными… Ломать голову над причиной такой немилости (мне все таки кажется, незаслуженной), не хочу, но все – таки грустно от того, что каждый раз мои отчаянные поиски в пачках прибывших писем оказываются безрезультатными…
Письма от отца получаю, но ничего определенно утешительного в них пока нет. А надежд – этого добра у меня у самого хватит… Конечно состояние, в котором я в настоящее время пребываю, чуть посложнее того, что я описываю в письмах отцу. По правде говоря, неприятного в моей жизни сейчас чуть побольше, чем хорошего, о чем я ему расписываю…
Выход из всего этого, конечно, один – как можно скорее попасть в обстановку родную для меня. А так как он это знает, то я и не расстраиваю его родительского сердца лишними подробностями…
Это пишу я тебе не для того, чтобы оправдаться за свою, ставшую весьма неаккуратной, корреспонденцию, но затем, чтобы ты все – таки не подумала, что с отцом я делюсь всем, что думаю и чувствую, а с тобой считаю лишним… Дело просто в том, что помочь мне в этом всем невозможно ничем, кроме того, что предпринимает отец.
А в этой жизни я нашел себе дело по душе, которое не дает мне впасть в полное отчаяние. Я уж писал об этом отцу. Если интересовалась – знаешь.
Как твоя жизнь? Надеюсь, никаких сногсшибательных фокусов не проделывала над тобой больше судьба? Дай то Бог!
А я себя чувствую так, как вероятно, чувствует себя рыба в сети, видящая так близко свою родную стихию, и ничего не могущая поделать кроме мольбы, немой мольбы…
Ничего мне на ум не идет, худею день ото дня… Репутацию чудака себе заработал, которой, откровенно говоря, не очень – то опечален, ибо чудаку часто прощается то, что не простилось бы не чудаку…
Ночь с 5 на 6 июля 1945 г.
Пишу тебе, находясь под властным впечатлением одной чудесной вещи Массне… Может быть, ты знаешь ее – «Таис».
Скрипичная мелодия в сопровождении едва слышно звучащих арф и оркестра – звучит как мечта, такая хрупкая, нежная и дорогая, как тонкий хрусталь, который страшно тронуть… и полная страшно невыразимой в словах нежной грусти… То ли о том, что она, эта мечта, так хрупка, то ли оттого, что она мечта… Красивая, но всего лишь мечта…
Грустнее становится мне оттого, что кругом на целые тысячи верст нет человека, с которым всем этим можно было бы поделиться.
Люди меня окружают большей частью простые, хорошие и добросовестные в делах службы, но с которыми о многом не стоит и начинать разговора.
Когда сравниваю сейчас настроение свое с настроением на фронте, то хоть горько сознавать, однако приходиться, что тогда я чувствовал себя гораздо лучше. Тогда я шел навстречу своей мечте, рискуя не дойти, но все таки шел.
Вероятно, так оно и есть, что движение к счастью и радости счастливее и радостнее, чем сами счастье и радость… Хоть я их то, собственно и не испытывал еще…
Иринка, напиши мне, что же ты молчишь?
Этим ты доставила бы мне счастливые минуты, которых я давно не знаю…
список
литературы для философского самообразования, продиктованный Э.В.Ильенковым студенту философского ф – та МГУ Шулевскому Н.Б.
1. Платон – читать и прочитать с карандашом все, все.
2. Аристотель. «О душе», «Метафизика», «Физика», «Категории», «Аналитики», «Никомахова этика».
3. Марк Аврелий. «Наедине с собой».
4. Декарт. «Правила для руководства ума», «Рассуждение о методе», «Метафизические размышления».
5. Спиноза. «Этика», «Трактат об усовершенствовании интеллекта».
6. Локк. «Опыт о человеческом разумении».
7. Лейбниц. «Новые опыты о человеческом разумении», «Монадология».
8. Дидро. «Письмо слепых, предназначенное зрячим», «Парадокс об актере».
9. Гельвеций. «Об уме».
10. Кант. «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности и суждения». (Лучше изучить все сочинения Канта).
11. Фихте. «Наукоучение». (Лучше изучить все работы).
12. Шеллинг. «Философские письма о догматизме и критицизме», «Система трансцендентального идеализма».
13. Гегель. «Эстетика», «Малая логика», «История философии», «Наука логики». (Перелопатить, изучить все написанное, сказанное Гегелем).
14. Фейербах. «Основные положения философии будущего».
15. К.Маркс. «Экономическо – философские рукописи 1844 г.», «Экономические рукописи 1857—58 гг.» (Грундриссе), «Капитал».
16. В.И.Ленин. «Философские тетради», «Материализм и эмпириокритицизм».
17. И.А.Ильин. «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и Человека».
«Только тогда, когда мы научимся смотреть на мир, на себя и на мышление глазами основных философских систем, образующих азбуку разума, можно читать, изучать любые учения и книги, не беспокоясь о своем духовном здоровье».
Октябрь – ноябрь 1970 г.