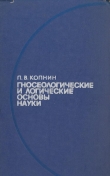Текст книги "Драма советской философии. (Книга — диалог)"
Автор книги: Эвальд Ильенков
Соавторы: Валентин Толстых
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Литература
1. Весьма определенно такой взгляд выражен в статье М.Н.Алексеева «Диалектическая логика» (см.: Вопросы философии. 1964. № 1) в учебнике М.Н.Руткевича, в работах В.П.Рожина и ряда других авторов. Из новейших публикаций такой взгляд наиболее резко представлен в редакционной статье Д.П.Горского и И.С.Нарского «О природе и сущности закономерностей диалектики познания как науки» (Диалектика научного познания: Очерк диалектической логики. М., 1978).
2. Розенталь М.М. Ленин и диалектика. М., 1963. С. 64.
3. Кедров Б.М. Единство диалектики, логики и теории познания. М., 1963. С. 168–169, 173.
4. Розенталь М.М. Принципы диалектической логики. М., 1960. С. 78.
Эвальд ИЛЬЕНКОВ Письма с фронта (Ноябрь 1943 – июль 1945)
Письма с фронта молодого Эвальда Ильенкова – человеческое свидетельство поразительной искренности и духовной зрелости. В них запечатлен, может быть, самый важный момент «подземного роста души», как называл Александр Блок процесс становления личности. Доя тех, кто знал Эвальда Васильевича лично и близко, в письмах как бы отраженным светом высвечиваются знакомые черты и особенности человеческого облика будущего крупного ученого – философа. Дя тех, кто знает Эвальда Васильевича лишь по его философским сочинениям, открывается возможность лучше понять, из какого «варева» жизни рождаются мудрая мысль и проблематический характер.
Письма фронтовика Ильенкова к своей «Беатриче», Ирине О., тоже вкусившей порох войны – это история любви, которая, как часто бывает, получилась «неспетой песней», оборвалась в самом ее начале. Встретившись сразу после войны, они пошли каждый своей дорогой жизни, обретая новых друзей и близких.
Письма с фронта молодого Эвальда Ильенкова – человеческое свидетельство поразительной искренности и духовной зрелости. В них запечатлен, может быть, самый важный момент «подземного роста души», как называл Александр Блок процесс становления личности. Доя тех, кто знал Эвальда Васильевича лично и близко, в письмах как бы отраженным светом высвечиваются знакомые черты и особенности человеческого облика будущего крупного ученого – философа. Дя тех, кто знает Эвальда Васильевича лишь по его философским сочинениям, открывается возможность лучше понять, из какого «варева» жизни рождаются мудрая мысль и проблематический характер.
Письма фронтовика Ильенкова к своей «Беатриче», Ирине О., тоже вкусившей порох войны – это история любви, которая, как часто бывает, получилась «неспетой песней», оборвалась в самом ее начале. Встретившись сразу после войны, они пошли каждый своей дорогой жизни, обретая новых друзей и близких.
14.11.43.
Здравствуй, Ира! я сижу сейчас в землянке, среди развалин. Когда – то большой и красивой Вязьмы. Трудно поверить, что недавно здесь был город. Холмы, из которых торчат остатки стен, трубы… а люди ютятся в норах, лишь кое – где возводят постройки из старого кирпича…
Все это. правда, мало занимает меня. Как только сяду сразу на все наплывают мысли о тебе. Грусть охватывает какими – то волнами. Мне все казалось в поезде, что ты совсем недалеко, что стоит только вылезти из вагона, и я сразу встречу тебя. И мне больших усилий стоило убедить себя, что поезд несется уже далеко – далеко от Москвы.
Рядом в купе сидела какая – то девушка, голос которой удивительно походил на твой. Я нарочно не смотрел в ее сторону, чтобы не разрушить это очарование. Будто ты сидишь рядом и что – то рассказываешь, и смеешься…
Позавчера еще мне было безразлично, буду ли я воевать месяц, полгода или год; а сегодня мне хочется кончить эту треклятую войну как можно скорее, и скорее приехать в Москву. С родителями я расставался без всякого сожаления, и грусти по ним не испытываю сейчас нисколько. Это, верно, потому, что у меня сейчас есть ты, Ира, которая мне дороже и ближе всех на земле…
Если бы я был для тебя тем же, чем ты для меня! Я пронесу свою любовь через боль и страдания войны – это я знаю. Если ты чувствуешь тоже – пиши не стесняясь, забудь, что письмо будут читать чужие люди – цензура.
Ира! Может быть я обижаю тебя этими предположениями – прости. Я ведь в этом опыта не имею.
А все, что произошло, случайностью, тем более грязной, назвать никак нельзя…
Если ты меня знала раньше мало, то в моем представлении ты всегда жила серьезной и думающей девушкой. Я за людьми всегда наблюдал. И говорил это другим не раз.
А так скоро все произошло, очевидно, потому, что теперешняя жизнь делает отношения между людьми искреннее и проще. С тобой, насколько я могу теперь понять, происходило приблизительно то же. Ну, слово за тобой, Ира! Жду твоего письма, хоть адреса еще своего не знаю.
24.11.43.
Здравствуй, Ира!
Я все еще не определился окончательно. Нахожусь в небольшом прифронтовом городке и жду, когда, наконец, меня направят в часть. Может быть, пройдет неделя, может быть месяц… Никто ничего толком сказать не может. За эти десять дней я перевидал столько интересных людей, так много любопытных событий, что не уместишь всего в десяти письмах… Я проехал больше двух сотен километров вдоль фронта, все по местам, где еще совсем недавно хозяйничали немцы. Все еще хранит на себе отпечатки их ига… Сожженные дотла деревни, надписи на уцелевших стенах, масса немецких слов в разговоре людей, ходики на стене, которые стоят, потому что какой – то бравый фриц сорвал, уходя, цепочку с гири… А рассказов, историй! И печальные и смешные… И сами действующие лица этих комедий, а чаще трагедий…
Но до чего же замечательные люди! Это особенно бросается в глаза после Урала. Придется остановиться в какой – нибудь хате у дороги – так тебя ни за что не отпустят, не угостив всем, что сами едят, и обижаются если предложишь за это заплатить. У меня по всему моему маршруту в каждой деревне такие знакомые…
Жаль, что трудно в письме передать хотя бы частицу того, что я слышал и видел… Многое и нельзя сейчас писать по почте.
Я попытаюсь сегодня – завтра узнать, нельзя ли будет съездить в Москву, если пребывание в этом городе окажется более или менее продолжительным. Тогда на машине по шоссе я махну до Москвы меньше, чем за сутки. Трудно представить себе, до чего точно и строго организовано здесь везде автомобильное движение!
Пойду, наговорю с три короба. Может быть отпустят дней на 5–6…
Досадно, что сейчас трудно наладить регулярную переписку. Но так или иначе – или я в ближайшие же дни добьюсь направления в часть, или отпрошусь на неделю в Москву.
Ира! Если случится, что изменится твой адрес, или еще что – либо вроде – то сообщи это моему отцу. Он знает, где я нахожусь и буду находиться, и даже хочет навестить меня здесь. У него возможности такие имеются.
Сейчас уж я мечтаю о том дне, когда мне снова удастся вернуться в университет. Этого мне особенно хочется теперь. Может быть, будем учиться там вместе… Крепко надеюсь, что случится это никак не позже, чем осенью 1944.
Жду фотографии твоей. И, ведь черт возьми, как досадно все обстоит пока с адресом. Хоть бы строчку, хоть бы одно слово получить от тебя, Ирка!
Да! Ведь мы с тобой встретились не 13–го числа… Не в чертово число. Это было 12–го – священное число древне – восточных философов…
Передали ли тебе фотографию мою у радиоприемника? Это я в пору увлечения моего Рихардом Вагнером.
Сухиничи. 7.12.43.
Застрял на пол дороге. Жду уже 12 часов, и еще, видно, придется не меньше. Сегодня не везет. Наверно потому, что удаляюсь от Москвы, от тебя…
Ехать было тесно, все время открывали дверь, и меня обдавало холодом, не давали уснуть. Всю эту ночь мне, откровенно говоря, было грустно, несмотря на наше хорошее, спокойное прощание. Стоило мне заснуть на миг, как ты была снова рядом… Ласковая, любимая… а просыпался – опять холодный вагон, чужие люди…
Сейчас день. Не так грустно. Мне особенно жаль, что вчерашний наш разговор остался неоконченным. Так много осталось недосказанного, не разъясненного. Вчерашний наш день был так хорош! И оборвался посередине… И я ведь прав был, когда хотел остаться еще на сутки. Эти сутки я все равно теряю даром в тесноте и грязи здесь, в Сухиничи. Целые сутки. Они были бы еще лучше, чем те…
Чем больше мы знали друг друга, тем лучше нам было вместе. С каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой.
А это очень хорошо, Иринка. Это много значит. Тогда, в 1941–м у меня было совсем обратное.
Людей я постигаю больше не рассудком; я как – то их чувствую. Рассудок у меня в этом отношении играет роль второстепенную, оформляя и уясняя для себя это особое чувство. И я, насколько я помню, ни разу не ошибся в человеке. Если я близок кому – нибудь больше, чем неделю, это и сейчас мой хороший товарищ. Правда, таких немного. Я могу их пересчитать на пальцах. Один из них – Яшка. В армии я за полтора года такого человека не нашел.
И если сейчас мне приходится вместе с хорошим человеком ехать, есть из одной тарелки, спать под одной шинелью – то это все таки что – то не то… А ты, Иринка, мне ближе всех. Какой – то особенной близостью. Как будто я знаю тебя всю – всю, больше, чем самого себя.
Когда я пишу это, у меня такое чувство, что все это ты уже знаешь, что у тебя совсем такие же мысли и чувства. Что будто я оставил у тебя часть себя, своего мозга, своего сердца… Что ты не можешь не ждать меня, как мать не может не ждать сына, как сын не может не ждать отца. Любовь моя такая хорошая, спокойная, твердая, что ее не погасят годы. И за тебя я так же крепко уверен. Я знаю тебя, Иринку.
Иринка, когда будешь знать мой адрес, пришли мне в письме локон твоих волос!
Ну, до свиданья, Иринка, Ирка!
Вадька. 7.12.43.
P.S. Иринка! Позвони моим – скажи что доехал благополучно, им писать может не смогу.
10.12.43.
Письмо из Сухиничей не отправил. Еле добрался до Кричева. Ехал в товарных вагонах, пришлось даже ночью висеть на буфере, чуть не попал в контрразведку из – за своих документов… Ну, ничего – береженого бог бережет. Кажется так? Сегодня поеду к большому начальнику, а там, м.б., снова поеду в Москву за машинисткой и бумагой. Но это постараюсь уж на машине. А то так ехать – с поезда на поезд, с машины на машину – одна мука. Сейчас уже очень холодно, особенно ночью. Да и провезти все равно ничего нельзя. Смотришь больше за тем, как бы самому не сорваться под колеса – не то что за чемоданом…
Иринка, любимая… Для того чтобы тебя увидеть, я готов еще в десять раз больше мерзнуть и путешествовать. Ты разбудила во мне такую жажду действия, какую я никогда в себе не ощущал. За одно только это я должен быть тебе благодарен. Ведь как раз этого мне в армии часто не хватало.
Если я для тебя так же дорог, как ты для меня, Иринка, то я не могу не вернуться… «Жди меня, и я вернусь! Только очень жди…» Хороший поэт! Родина для меня – это ты. За нее, за тебя я буду драться, не жалея ничего. Меня нисколько не пугают теперь трудности борьбы – холод, голод, смерть. Я знаю, что вытерплю все это, потому что так надо, потому, что ты меня ждешь. И я вернусь целым, невредимым.
Иринка! Я тебя очень прошу – заходи хотя бы изредка к моим родным, особенно к отцу. Я сказал ему тогда: «пусть Иринка будет тебе таким же дорогим человеком, как я сам». Он понял меня, как всегда понимал, он поймет и тебя. Даст хороший совет, если будет нужно. Рассказывай ему все, как мне. С ним очень интересно поговорить обо всем – о жизни, о людях. До тебя он был мне самым близким человеком, кому я рассказывал все; вернее почти все. Впервые я говорил с другим человеком, как с самим собой, только в самые лучшие в моей жизни дни – с 29 ноября по 6 декабря. Но ты – это не другой человек. Это я сказал плохо. Ты – это я, Иринка, моя Иринка!
Какое же это большущее счастье!
Я, как верующие крест, ношу на груди твою звездочку. Она мне кажется такой теплой, ласковой – эта маленькая желтая звездочка… Твоя звездочка, кусочек Иринки…
P.S. Через два дня – месяц, как мы встретились… Год пройдет так же быстро!
30.12.43.
Жаль, что новый год не удалось встретить вместе. Но ничего. Он все равно будет нашим годом. Обязательно.
Хорошо, Иринка, быть так уверенным в тебе, как я уверен.
Такие отношения, как у нас с тобой, в большинстве случаев зависят не от шальных гранат и пуль, с которыми имеет дело «он», а от того, сумеет ли «она» ждать… Ждать так, как ждет она – труднее. Это подобно тому, что легче идти до следующей остановки поезда или трамвая, рискуя опоздать на тот самый поезд, который идет где – то далеко, чем сидеть и ждать его сложа руки… Между твоим и моим ожиданием сейчас как раз такая разница…
Я опять достал книжечку Симонова, и весь день что была она у меня читал ее и перечитывал. Очень много невольно запомнилось, хоть и не старался я заучить нарочно. Хорошее это? —
Я очень тоскую, Я б выискать рад, Другую такую, Чем ехать назад.
Но где же мне руки Такие же взять, Чтоб так же в разлуке Без них тосковать?
Где с тою же злостью Найти мне глаза, Чтоб редкою гостьей Бы1ла в них слеза…
Как поживают ребята? Видела ли ты их? Передала ли адрес? Ну, до свидания! Жду писем.
Вадька.
5.1.44.
Иринка, Здравствуй!
Сегодня вручили мне твое письмо от 25–го – со сказкой… подают и улыбаются – вот тебе, говорят долгожданное… Догадываются, что за такая товарищ О. Маленький твой подарок до меня не доехал. Какой – то чересчур подозрительный цензор взял на память. Только одна золотистая паутинка случайно приклеилась к конверту…
Ни разу я так не грустил и не радовался от писем, как сегодня от твоего. Бедная моя, ты болела, оказывается, и все думала обо мне… Ну, ты смотри не грусти! Это, верно, всегда так.
Теперь мы, кажется, переменились ролями – я уж тебя утешаю. Хоть не большой я в этом деле мастер… Трудно это. Да и стоит ли? Она, любовь, ведь и в том, «чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук»…
А зато, как радостна будет встреча… А она будет… Сталь и крепка только тогда, когда ее, бедную, – из жаркого пламени – да в ледяную воду… да еще и молотом. Потерпи, зато будешь крепкой и красивой… Ромео с Джульетой, Франческа с Паоло, Изольда с Тристаном – счастье, хоть и со страданием у них, а не в мирном топком болоте.
Ты не помнишь вагнеровского «Тристана»? Вот что я бы хотел послушать вместе с тобой (о нем очень хорошо написал Р.Роллан – в той книжке, что лежала месяц назад у тебя на столе).
Обязательно послушаем его и вспомнятся эти дни. Там особенно сильный эпизод – «ожидание Изольды» – оно мне вспомнилось, когда я читал твое письмо.
И вот вдали появляется корабль… Дальше, правда, слишком грустно.
Может быть, конечно, ты и права, когда себя «нехорошей» называешь. Человек так устроен, что чаще жалеет о том, что чего – то не сделал, чем о том что, сделал что – то. А вообще – то говоря, я больше «нехороший». Ты понимаешь.
Но это уж такая область, где рассуждения не помогают, а только мучают понапрасну и я зря начал философствовать.
Если плохо сказал – прости.
Обязательно присылай свою фотокарточку. Я много бумаги перепортил – все пытаюсь нарисовать тебя. Получается хоть и похоже – но – не то… не Иринка…
Живу я по – прежнему. Посижу на занятиях, а потом отправляюсь домой – сны смотреть. Как в кино.
Вот что забавно. Я за эти два с половиной года начал забывать школу. Другое ее заслонило – университет, армия… А вот ты мне так ее напомнила! Снятся мне сейчас всякие глупости.
Да и вообще – то я плохо представляю, как это могло бы быть, что мы с тобой незнакомы.
Так то, товарищ младший лейтенант. Я тут обрядился, наконец, по – человечески. Шинель хорошую получил, валенки, рукавицы и прочее. Хожу, как ведьмедь. Это ты скажи моим. Им я не пишу, как – то нет охоты…
Жду письма с твоей фотокарточкой. Только боюсь, опять тот цензор, что успел влюбиться в твои волосы, опять не пропустит…
7.1.44.
Хотел я вчера отправить тебе письмо, и по дороге на почте отдали мне твое новое – от 29. Оно меня сильно взволновало, на почту я не пошел – письмо, которое я нес, показалось мне совсем не таким, какое нужно тебе написать.
Бедная моя, ты сильно тоскуешь. Так досадно мне, что ничем не могу я помочь твоему горю! Письма мои, я вижу, только еще больше расстраивают тебя… Так мне хочется приехать к тебе! Прямо хоть пиши рапорт с приложением твоего письма вместо документа…
Даже плакать ты научилась… Ну, что же мне с вами делать, товарищ младший лейтенант?… Нельзя так. Очень тосковать, кроме шуток, не нужно. Немножко, конечно, разрешается. Ведь любовь и была всегда органическим единством радости и страдания. Одно без другого не понять, одно без другого не было бы тем, чем оно есть.
Видишь, я невольно стал говорить то, что давно давно сказали и Гегель, и Маркс. Диалектика оказывается и тут верна… Значит это правда, и не надо плакать, раз это страдание – та же радость, необходимо переходящая «в свое другое», по гегелевски выражаясь…
И чем больше противоположность между одним и другим – тем красивей и больше то целое, что они образуют в своей борьбе и своем единстве – любовь.
Так что, товарищ младший лейтенант, не относитесь к своему горю метафизически, только как к горю «в себе», самому по себе взятому. Мыслите и чувствуйте диалектически, постигайте одно через другое; в их единстве созерцая целое…
Жизнь, конечно, не схема. Но в ее разнообразии форм и явлений надо видеть закон, всем управляющий, и делающий пеструю неразбериху понятной и ясной.
Ну, довольно философии? («далекая снежная принцесса, ледяная и не тающая Снегурочка»?) Довольно. Давай теперь помечтаем… О том дне, когда зарастут густой травой траншеи и могилы, когда в опустевших блиндажах будут играть ребятишки, когда можно будет радоваться сегодняшнему дню и завтрашнему, который будет еще лучше… О том дне, когда мы улыбнемся друг другу и голубому небу… О том дне, когда я скажу тебе – видишь, все о чем мы мечтали – сбылось. А ты горевала… И ты ничего не скажешь, а только улыбнешься, счастливая… Иринка, посмотри на те фонари вдоль переулка. Они сейчас пылают радостным ярким светом, и их так много, что не сосчитать… А тогда, в 1943–м, их было четыре, и эти четыре едва светили в снежной воющей вьюге… Где они, те, четыре? Давай завтра, ведь завтра – выходной день – будем ходить по Москве с 8–ми часов до 3–х – по тем улицам как тогда, зайдем в тот переулок, где поцеловал я тебя первый раз, где сказал я тебе, сам не веря своей смелости, те два слова, на которые ты счастливо улыбнулась, которых ты так ждала…
А потом будем читать вместе наши старые пожелтевшие письма, которыми мы утешали, как умели, друг друга в те холодные вьюжные дни, когда война раскидала нас в разные концы страны.
Иринка, знаешь, я тут своим случайным друзьям всем говорю, что у меня есть жена. Ты не обижаешься? «По праву тех, кто может не вернуться»… Хоть я то вернусь. Это так, для красного словца.
(20–е числа января 1944)
Иринка, я сижу с тех пор, как оставил тебя у остановки троллейбуса, и у меня все навертываются на глаза слезы. Я сижу вот до сих пор – сейчас половина первого.
Я верно скоро дойду до того, что где – нибудь при всех обниму тебя и зарыдаю. Это не шутка, Ирка, противиться этому я не могу.
Одно я тебя прошу, Ирка стань моей женой – иначе все это кончится для меня черт знает чем. Я никогда не думал, что смогу любить так.
Пусть будешь ты женой мне всего один день – этого счастья хватит мне на всю жизнь. Пусть ты потом уедешь, пусть потом весь мир перевернется вверх ногами – я буду жить только этим счастьем. Я разорву потом все, что будет связывать меня, когда увижу тебя снова. Сейчас я для тебя все готов отдать – и жизнь, и счастье – все к черту. Пойми же меня, Ирка!
Только не подумай ради бога, что я хоть капельку выпил.
(20–е числа января 1944)
Иринка!
Я стал совсем, совсем сумасшедшим. Меня дома спрашивают о чем – нибудь, а я сижу глядя в одну точку и не понимаю, о чем они говорят. Они уже привыкли к таким моим фокусам, как вчера – когда я вдруг в 11 часов встал и ушел из дома. И с каждым днем я становлюсь все более безумным. Я не знаю, чем все это может кончиться. Не могу я противиться тому, что со мной происходит.
Иринка, ты одна меня поймешь. Вижу, этому не поможешь холодно – рассудочными советами. Иринка, может быть, лучше будет, если, забыв все, мы крепко свяжем навсегда наши жизни?
Ты скажешь, что это может помешать нам в будущем? Мне думается наоборот. Это только немного отрезвит нас, заставит немного практичнее думать. Сейчас я ведь ни о чем не думаю, ни к чему не стремлюсь, только придти через год и сказать: «Иринка, я сдержал свое слово. Сдержи свое». А в остальном ведь ничего не изменится.
Вот одно досадно. То, с чем я не могу примириться. Может ведь случиться так, что я не вернусь. Все – таки война. Тебе это будет в сто раз тяжелее. Нет, это я уже говорю глупости.
Я вернусь, всем чертям на зло, вернусь! Хочу так, и знаю. Не может быть по – другому.
А мамаша думает, что я заболел. Все уговаривает не ходить на улицу. Чудная! Вадька.
25.1.44.
Вот и все. Теперь я не боюсь тебе писать все, как тогда, несколько часов назад. Это – последнее – уже никогда не покажется глупым.
Так стало все пусто, просто. Как будто прозвучал «подъем», и из красивого сна попал в яркий свет, делающий все до боли ясным.
Вот, Ирина, случилось то, что и должно было случиться. Я сдался легко? – да. Это уж я такой. Теперь я тебе расскажу про себя и ты поймешь, почему.
Если бы ты сказала все что угодно, равнодушное, злое – я бы не ушел. Но ты сказала, что не веришь больше в меня. А это самое страшное. Ведь меня не за что больше любить. У меня было только одно хорошее, за что меня могли любить, – это та самая слепая и очень, наверное, глупая верность тому, что люблю. Это у меня было самое лучшее. А ты полюбила меня не за это. Значит ты ошиблась. Больше у меня ничего хорошего, честное слово, нет…
Я, Иринка, очень плохо приспособленный к нашей жизни человек. Я не могу жить так легко, как многие мои друзья. Те удовольствия, то нехитрое счастье, которое они, постоянно встречая на дороге, испытывают, и бывают им довольны, мне непонятны. Я им завидую. Для них счастье бывает здесь, в жизни, и осязаемо, реально… А я всегда все приносил в жертву далекой и глупой, несбыточной мечте. Мне из – за этого очень тоскливо бывало, когда задумывался. Но мечте изменить был не в силах. И по своему был счастлив. Был, Был, Был!!! Я всегда был такой. До тебя были другие стремления и мечты, и я всегда больше жил будущим, чем настоящим. В тебе впервые мечта и жизнь были вместе. С тобой я испытал минуты, впервые в жизни, про которые я не думал – скорее бы прошли – для того, чтобы быть ближе во времени к лучшему…
А сейчас – страшно и пусто, пусто. Мечты нет. Ушла. А кругом – что я могу найти хорошего?
Для меня только и осталось одно теперь – отбывать повинность жизни, как говорит Шопенгауэр, с надеждой на то, что м.б. да и встретится когда – нибудь островок хоть какого – нибудь счастья.
Даже сейчас, неисправимый осел, я пишу, а сам в душе надеюсь – а вдруг еще не все… Прости меня, я не затем пишу, чтобы сохранить какие – то надежды на отступление – не затем. Это уж я такой, нездешний…
Но зачем, зачем ты такая хорошая и родная, не поняла меня, отняла у меня мечту? Зачем ты не могла обмануть меня? Ведь я бы скоро уже уехал и может не вернулся бы. Тебе ведь ничего не стоило обмануть! А теперь я уезжаю с такой болью, за тебя, за то, чему бы я принес с радостью в жертву все – все. Лучше бы ты сказала, что не любишь, чем хоть чуть усомнилась в моей верности и любви. Здесь уже я бессилен. Можно вернуть ушедшую любовь, но никогда – веру, если она хоть раз поколебалась.
Больно, больно. Ведь я так тебя любил! Может быть, ты вспомнишь когда – нибудь, может быть увидишь, что была не права и жестока.
Ирка, Иринка, родная, прощай! Вспомни меня потом хоть раз, когда будешь любить кого – нибудь, кто будет лучше меня. Такого не люби никогда больше. Ты слишком хорошая для такого как я. Вспомни меня, ленивого, который жил больше будущим, а выйти на улицу не хотел, чтобы встретить.
Если бы ты стала моей – я не знаю, был бы я счастливее, чем так, только мечтая об этом, и стремясь.
Иринка, родная, до боли любимая, прощай!
конец января 1944 (?)
Здравствуй, Ира!
Я уже подъезжаю к городу, которому обязаны рождением ты и я. Кругом – следы недавних боев: сожженные деревни, укрепления, остатки эшелонов под откосами, брошенное оружие…
Радует, что мы попадем сразу ближе к делу. Фронт уже чувствуется по всему.
Ира! Я день и ночь думаю о тебе, моя любимая. Ни на чем больше я не могу сосредоточиться.
Одна мысль мучит меня все время: я так нескоро смогу обменяться с тобой мыслями… Что ты думаешь сейчас обо мне, о нашей любви…
Снова приняться за письмо удалось только сейчас, в городе, к которому ехал. Побывал на улице, где родился. Город все же можно узнать: стены домов почти все сохранились, и, хоть содержимого не осталось, это все же дома, улицы, площади… Не то, что Вязьма, от которой остались одни холмы.
Так мне много хочется сказать тебе, Ира, и все не могу толком. По совести сказать, это уже третье письмо, которое я пишу за последние сутки. Сейчас убеждаюсь, как беден наш человеческий язык…
Когда – нибудь, надеюсь скоро, мы прочитаем вместе эти недоконченные письма. Сейчас, здесь в холодном вокзале (если стены без потолков и окон можно назвать вокзалом), в толчее и дыму костров, трудно писать. Сейчас я двинусь дальше. Как только доберусь до более определенного места, сразу напишу, приведу в порядок все бродящие в голове мысли.
Вадька. Смоленск.
(лист из блокнота со стихами) (часто несоответствие с оригиналом текста: пунктуация, оформление…)
Я ночевал в гостиницах,
Лицо твое усталое,
Слезал на дальних станциях.
Несхожее с портретами,
Что впереди раскинется —
От снега губы талые,
Все позади останется.
С мороза мной согретые.
Я не скучал в провинции,
Довольный переменами,
Все мелкие провинности
Не называл изменами.
Искал хотя б прохожую,
Далекую, неверную.
Хоть на тебя похожую,
Такой и нет наверное.
Такой, что вдруг приснятся мне
То серые, то синие,…
Глаза твои с ресницами
В ноябрьском снежном инее,
И твой лениво брошенный,
Взгляд, означавший искони
– Не я тобою прошенный,
Не я тобою исканный…
Я только так, обласканный,
За то, что в ночь с порошею,
За то, что в холод сказкою
Согрел тебя, хорошую…
И веришь ли, что странною
Мечтой себя тревожу я —
И ты не та, желанная,
А только так, похожая…
* * *
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло. —
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
* * *
Не сердитесь – к лучшему,
Что, себя не мучая,
Я пишу от случая До другого случая…
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сыт и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
В письмах все не скажется И не все услышится, В письмах все нам кажется, Что не так напишется.
Чтобы вам не бедствовать, Не возить их тачкою, Будут путешествовать С вами тонкой пачкою.
Письма пишут разные: Слезные, болезные, Иногда прекрасные, Чаще – бесполезные.
Коль вернусь – так суженых Некогда отчитывать, А умру – так хуже нет Письма перечитывать.
А. замужней станете, Обо мне заплачете – Их легко достанете И легко припрячете.
От него, ревнивого, Заперевшись в комнате, Вы меня, ленивого, Добрым словом вспомните.
Скажете, что к лучшему, Память вам не мучая, Он писал от случая До другого случая.
* * *
Пусть нас простят за откровенность В словах о женщинах своих За нашу злость, за нашу ревность, За недоверье к письмам их.
Да, мы жестоко говорили, Собравшись в тесном блиндаже, О них, которых мы любили, И год не видели уже.
Да, мы судили их поступки, Так что захватывало дух, Да, мы толкли, как воду в ступке, До нас дошедший скверный слух.
Слова ласкающие, птичьи, На ум не шли нам. Вдалеке Мы толковали по мужичьи На грубом нашем язык
О белом полотне постели, О верхней вздернутой губе, О гнущемся и тонком теле, На пытку отданном тебе.
О белой и прохладной коже, И о лице с горящим ртом, О яростной последней дрожи И об усталости потом.
Нет, я не каюсь, что руками, Губами, телом встречи ждал. И пусть в меня тот бросит камень, Кто так, как я не тосковал.
А если вдруг такой найдется, От нашей грубости храним, Той, что с войны его дождется, Я не завидую – бог с ни
10.2.44. 6 ч. вечера.
Вот я и на месте. Мне всегда везет. Потому, верно, что ты ждешь. Из Сухиничей письмо не отправил, хоть и написал. Потом как – нибудь расскажу – почему.
Жаль что ты не поехала на вокзал. Все обошлось тихо – мирно, мы даже пообедали там. И, грешным делом, хлебнули с горя немножечко. И без всяких треволнений доехали до места.
Ирка, родная! Какой ты была хорошей в последний день! Все время чудишься ты мне такая – веселая, радостная – и только глубокоглубоко – грусть разлуки…
Захочешь – не забудешь такую..
Сильно тоскливо было мне, когда полетели назад, в ночь, телеграфные столбы, когда уносился вдаль жалобный крик паровоза. Только в такие минуты понимаешь, как сильно любишь.
Вот сказал Симонов – «необходим нехитрый рай для тех, кто послабей душою». А я в те минуты понял – у меня наоборот, не хватит сил забыть Тебя хоть на минуту. До чего же ты, сатана, хорошая! Иринка, я не буду считать письма – буду писать тебе сразу, как станет очень тоскливо. И от этого немного легче становится.
А ты тоже, наверно, успела соскучиться? Это хорошо. Люби, тоскуй и жди. Тогда обязательно дождешься. И пришли мне непременно твою фотографию. Мне так ее не хватает! Пришли, очень прошу, пришли!
Ирка! Одно запомни: чтобы ни случилось с тобой – обязательно приди. Я ничуть не меньше тебя любить буду. А постарайся все таки не ехать. Ладно?
15.2.44.
Так соскучился я без тебя, без твоих писем…В Москве ты, или уже далеко, напрасными оказались все опасения, или все таки уедешь? Все это очень меня тревожит. Пиши скорее мне, как все уладилось. Очень жду хоть бы строчку.
О себе писать нечего. Сижу на канцелярской работе, скучно до чертиков. Обещали скоро направить в часть, но недели две, верно, придется быть чиновником…
Позавчера сидел я и писал что – то. Вдруг является какой – то старший лейтенант – и докладывает. Слышу – голос какой – то знакомый. Я пригляделся – определенно видел где – то. И вспомнил. Где, когда, он назвал фамилию. Это Алексеев – из нашей, 170–й школы. Я подошел и спрашиваю: «старший лейтенант, это тобой Зою Комскую дразнили?»