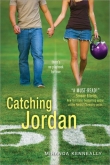Текст книги "По ком звонит колокол"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
9
Они столпились у выхода из пещеры и следили за ними. Звенья бомбардировщиков, напоминавшие грозные разлатые наконечники стрел, шли теперь высоко и быстро, раздирая небо ревом своих моторов. Они, правда, похожи на акул, подумал Роберт Джордан, на акул Гольфстрима – остроносых, с широкими плавниками. Но движутся они, сверкая на солнце серебром широких плавников и легкой дымкой пропеллеров, – эти движутся совсем по-другому, чем акулы. Их движение не похоже ни на что на свете. Они как механизированный рок.
Тебе надо писать, сказал он себе. Что ж, может быть, когда-нибудь опять примешься за это. Он почувствовал, как Мария взяла его за локоть. Она смотрела в небо, и он сказал ей:
– Как по-твоему, guapa[20]20
красавица, милая (исп.)
[Закрыть], на что они похожи?
– Не знаю, – сказала она. – Должно быть, на смерть.
– А по-моему, просто на самолеты, – сказала жена Пабло. – Куда же девались те, маленькие?
– Наверно, перелетают через горы в другом месте, – сказал Роберт Джордан. – У бомбардировщиков скорость больше, поэтому они не ждут тех и возвращаются назад одни. Мы их никогда не преследуем за линию фронта. Машин мало, рисковать нельзя.
В эту минуту три истребителя типа «хейнкель», держа курс прямо на них, показались, покачивая крыльями, над самой прогалиной, чуть повыше деревьев, точно стрекочущие, тупоносые, уродливые игрушки, и вдруг с грозной стремительностью выросли до своей настоящей величины и умчались в подвывающем реве моторов. Они прошли так низко, что все, кто стоял у входа в пещеру, увидели летчиков в очках и кожаных шлемах, увидели даже шарф, развевающийся за спиной у ведущего.
– Эти могут заметить лошадей, – сказал Пабло.
– Эти и огонек твоей сигареты заметят, – сказала женщина. – Опустите попону.
Больше самолетов не было. Остальные, должно быть, перелетели через горы в другом месте, и когда гул затих, все вышли из пещеры.
Небо было теперь пустое, высокое, синее и чистое.
– Как сон, от которого очнешься среди ночи, – сказала Мария Роберту Джордану.
Больше ничего не было слышно, даже того почти неуловимого жужжания, которое иногда остается, когда звук уже замер вдали, – будто кто-то слегка зажимает тебе пальцем ухо и отпускает, зажимает и снова отпускает.
– Никакой это не сон, и ты лучше пойди убери посуду, – сказала ей Пилар. – Ну как? – Она повернулась к Роберту Джордану. – Поедем или пойдем пешком?
Пабло взглянул на нее и что-то буркнул.
– Как хочешь, – сказал Роберт Джордан.
– Тогда пешком, – сказала она. – Это полезно для моей печени.
– Верховая езда тоже полезна для печени.
– Для печени полезна, а для зада вредна. Мы пойдем пешком, а ты… – она повернулась к Пабло, – сходи пересчитай своих кляч, не улетела ли какая.
– Дать тебе верховую лошадь? – спросил Пабло Роберта Джордана.
– Нет. Большое спасибо. А как быть с девушкой?
– Ей тоже лучше прогуляться, – сказала Пилар. – А то натрудит себе всякие места и никуда не будет годиться.
Роберт Джордан почувствовал, что краснеет.
– Как ты спал, хорошо? – спросила Пилар. Потом сказала: – Болезней никаких нет – это верно. А могли бы быть. Даже удивительно, как так получилось. Наверно, бог все-таки есть, хоть мы его и отменили. Ступай, ступай, – сказала она Пабло. – Тебя это не касается. Это касается тех, кто помоложе. Кто из другого, чем ты, теста. Ступай! – Потом Роберту Джордану: – За твоими вещами присмотрит Агустин. Он вернется, тогда мы пойдем.
День был ясный, безоблачный, и солнце уже пригревало. Роберт Джордан посмотрел на высокую смуглую женщину, на ее массивное, морщинистое и приятно некрасивое лицо, в ее добрые, широко расставленные глаза, – глаза веселые, а лицо печальное, когда губы не двигаются. Он посмотрел на нее, потом на Пабло, который шагал, коренастый, грузный, между деревьями к загону. Женщина тоже смотрела ему вслед.
– Ну, слюбились? – спросила женщина.
– А что она тебе сказала?
– Она ничего не сказала.
– Я тоже не скажу.
– Значит, слюбились. Ты береги ее.
– А что, если будет ребенок?
– Это не беда, – сказала женщина. – Это еще не беда.
– Здесь для этого не место.
– Она здесь не останется. Она пойдет с тобой.
– А куда я пойду? Туда, куда я пойду, женщину брать нельзя.
– Как знать. Может быть, туда, куда ты пойдешь, можно и двух взять.
– Не надо так говорить.
– Слушай, – сказала женщина. – Я не трусиха, но по утрам я все вижу ясно, вот мне и думается, что многие из тех, кто сейчас жив, не дождутся следующего воскресенья.
– А какой сегодня день?
– Воскресенье.
– Que va, – сказал Роберт Джордан. – До следующего воскресенья еще долго. Если среды дождемся, и то хорошо. Но мне не нравится, что ты так говоришь.
– Нужно же человеку иногда поговорить, – сказала женщина. – Раньше у нас была религия и прочие глупости. А теперь надо, чтобы у каждого был кто-нибудь, с кем можно поговорить по душам, потому что отвага отвагой, а одиночество свое все-таки чувствуешь.
– У нас нет одиноких. Мы все вместе.
– Когда видишь такие машины, это даром не проходит, – сказала женщина. – Что мы против таких машин!
– А все-таки мы их бьем.
– Слушай, – сказала женщина. – Я призналась тебе в своих печальных мыслях, но ты не думай, что у меня не хватит решимости. Моя решимость как была, так и осталась.
– Печальные мысли – как туман. Взошло солнце – и они рассеялись.
– Ладно, – сказала женщина. – Пусть будет по-твоему. Может быть, это у меня от того, что я наговорила всякой чепухи про Валенсию. Или вон тот меня довел, – вон тот, конченый, что торопится посмотреть на своих лошадей. Я его очень обидела своими россказнями. Убить его можно. Обругать можно. Но обижать нельзя.
– Как это случилось, что вы вместе?
– А как это всегда случается? До войны и в первые дни войны он был человеком, настоящим человеком. А теперь его песенка спета. Затычку вынули, и все вино вытекло из бурдюка.
– Мне он не нравится.
– Ты ему тоже не нравишься, и не зря. Я ночью спала с ним. – Она улыбнулась и покачала головой. – Vamos a ver[21]21
посмотрим (исп.)
[Закрыть], – сказала она. – Я говорю ему: «Пабло, почему ты не убил этого иностранца?» А Пабло мне: «Он неплохой, Пилар. Он малый неплохой». А я ему говорю: «Ты теперь понимаешь, что командую я?» – «Да. Пилар. Да». Потом среди ночи слышу – он не спит и плачет. Некрасиво плачет, весь дергается. Мужчины всегда так, точно у них какой-то зверь сидит внутри и трясет их. Я спрашиваю: «Что с тобой, Пабло?» Взяла его за плечи и повернула к себе. «Ничего, Пилар… Ничего». – «Неправда. Что-то с тобой случилось». – «Люди, говорит, gente [22]22
народ, люди (исп.)
[Закрыть]. Они все от меня отступились». Я говорю: «Но ведь они со мной. А я твоя жена». – «Пилар, говорит, не забывай про поезд». Потом: «Да поможет тебе господь, Пилар». Я ему говорю: «Что это еще за разговоры? Разве можно бога поминать?» – «Можно, – говорит. – Да поможет тебе господь и пресвятая дева». Я говорю: «А ну их, и твою пресвятую деву, и бога! Что это за разговоры?» – «Я боюсь умереть, Пилар. Tengo miedo de morir. Понимаешь? Боюсь!» Я говорю: «Тогда вылезай отсюда. Тут нам места не хватит, в одной постели. Мне, тебе да еще твоему страху». Тогда ему стало стыдно, и он замолчал, а я заснула, но его дело кончено, друг, кончено.
Роберт Джордан молчал.
– Вот так у меня всю жизнь – нет-нет и вдруг станет грустно, – сказала женщина. – Но это не такая грусть, как у Пабло. Мою решимость она не задевает.
– Я в тебе не сомневаюсь.
– Может быть, это как у всех, женщин в известное время, – сказала она. – А может быть, так – пустяки. – Она помолчала, потом заговорила снова. – Я многого жду от Республики. Я твердо верю в Республику, вера во мне есть. Я верю в нее горячо, как набожные люди верят в чудеса.
– Я в тебе не сомневаюсь.
– А ты сам веришь?
– В Республику?
– Да.
– Да, – сказал он, надеясь, что это правда.
– Я рада это слышать, – сказала женщина. – А страха в тебе нет?
– Смерти я не боюсь, – сказал он, и это была правда.
– А чего ты боишься?
– Боюсь, что я не выполню своего долга так, как его следует выполнить.
– А того не боишься, чего тот, другой, боялся? Плена.
– Нет, – сказал он совсем искренне. – Если этого бояться, так больше ни о чем не сможешь думать и никакой пользы от тебя не будет.
– Холодный ты человек.
– Нет, – сказал он. – Думаю, что нет.
– Да. Голова у тебя очень холодная.
– Это потому, что я много думаю о своей работе.
– А все другое, что есть в жизни, ты разве не любишь?
– Люблю. Даже очень. Только чтобы это не мешало работе.
– Пить ты любишь, я знаю. Я видела.
– Да. Очень люблю. Только чтобы это не мешало работе.
– А женщин?
– Женщин я очень люблю, но это никогда не было самым главным.
– Они для тебя ничего не значат?
– Нет, значат. Но я еще не встречал такой женщины, которая захватила бы меня целиком, а говорят, это бывает.
– По-моему, ты лжешь.
– Может быть – немножко.
– Но ведь Марию ты полюбил?
– Да. Сразу и очень крепко.
– Я ее тоже люблю. Очень люблю. Да. Очень.
– Я тоже, – сказал Роберт Джордан и почувствовал, что голос у него звучит глухо. – Да. Я тоже. – Ему было приятно говорить это, и он еще раз произнес эту фразу, такую церемонную по-испански: – Я ее очень сильно люблю.
– Я оставлю вас вдвоем, после того как мы побываем у Эль Сордо.
Роберт Джордан помолчал. Потом ответил:
– Это не нужно.
– Нет, друг. Нужно. Времени осталось немного!
– Ты прочитала это у меня на руке? – спросил он.
– Нет. Забудь про свою руку – это все глупости.
Она хотела отбросить это, как и многое другое, что могло повредить Республике.
Роберт Джордан промолчал. Он смотрел, как Мария убирает в пещере посуду. Она вытерла руки, повернула голову и улыбнулась ему. Ей не было слышно, что говорила Пилар, но, улыбнувшись Роберту Джордану, она покраснела так густо, что румянец проступил сквозь ее смуглую кожу, и снова улыбнулась.
– Есть еще день, – сказала женщина. – У вас есть ночь, но еще есть, и день. Конечно, такой роскоши, какая была в мое время в Валенсии, вам не видать. Но землянику или другую лесную ягоду и здесь можно найти. – Она засмеялась.
Роберт Джордан положил руку на ее широкое плечо.
– Тебя я тоже люблю, – сказал он. – Я тебя очень люблю.
– Ты настоящий Дон-Жуан, – сказала женщина, стараясь не показать, что она растрогана. – Так недолго и всех полюбить. А вон идет Агустин.
Роберт Джордан вошел в пещеру и направился прямо к Марии. Она смотрела на него, и глаза у нее блестели, а лицо и шея снова залились краской.
– Здравствуй, зайчонок, – сказал он и поцеловал ее в губы.
Она крепко прижала его к себе, посмотрела ему в лицо и сказала:
– Здравствуй! Ох, здравствуй! Здравствуй!
Фернандо, все еще покуривавший за столом, теперь встал, покачал головой и вышел из пещеры, захватив по дороге свой карабин, приставленный к стене.
– По-моему, это очень неприлично, – сказал он Пилар. – И мне это не нравится. Ты должна следить за девушкой.
– Я и слежу, – сказала Пилар. – Этот товарищ – ее novio[23]23
жених (исп.)
[Закрыть].
– О, – сказал Фернандо. – Ну, раз они помолвлены, тогда это в порядке вещей.
– Рада слышать, – сказала женщина.
– Я тоже очень рад, – важно сказал Фернандо. – Salud, Пилар.
– Ты куда?
– На верхний пост, сменить Примитиво.
– Куда тебя черти несут? – спросил важного маленького человечка Агустин.
– Исполнять свой долг, – с достоинством сказал Фернандо.
– Долг! – насмешливо проговорил Агустин. – Плевать на твой долг! – Потом, повернувшись к женщине: – Где же это дерьмо, которое я должен караулить?
– В пещере, – сказала Пилар. – Два мешка. И сил моих больше нет слушать твою похабщину.
– Твою мать, – сказал Агустин.
– Своей-то у тебя никогда и не было, – беззлобно сказала Пилар, поскольку этот обмен любезностями уже дошел до той высшей ступени, на которой в испанском языке действия никогда не констатируются, а только подразумеваются.
– Что это они там делают? – теперь уже вполголоса спросил Агустин.
– Ничего, – ответила ему Пилар. – Nada. Ведь как-никак, а сейчас весна, скотина.
– Скотина, – повторил Агустин, смакуя это слово. – Скотина. А ты сама-то? Отродье самой что ни на есть сучьей суки. И плевал я на весну, так ее и так!
Пилар хлопнула его по плечу.
– Эх ты, – сказала она и засмеялась своим гулким смехом. – Все ругательства у тебя на один лад. Но выходит крепко. Ты видал самолеты?
– Наблевал я в их моторы, – сказал Агустин, утвердительно кивнув головой, и закусил нижнюю губу.
– Здорово! – сказала Пилар. – Это здорово! Только сделать трудно.
– Да, слишком высоко добираться. – Агустин ухмыльнулся. – Desde luego. Но почему не пошутить?
– Да, – сказала жена Пабло. – Почему не пошутить? Человек ты хороший, и шутки у тебя крепкие.
– Слушай, Пилар, – серьезно сказал Агустин. – Что-то готовится. Ведь верно?
– Ну, и что ты на это скажешь?
– Скажу, что хуже некуда. Самолетов было много, женщина. Очень много.
– И ты испугался их, как все остальные?
– Que va, – сказал Агустин. – Как ты думаешь, что там готовится?
– Слушай, – сказала Пилар. – Судя по тому, что этот Ingles пришел сюда взрывать мост, Республика готовит наступление. Судя по этим самолетам, фашисты готовятся отразить его. Но зачем показывать самолеты раньше времени?
– В этой войне много бестолочи, – сказал Агустин. – В этой войне деваться некуда от глупости.
– Правильно, – сказала Пилар. – Иначе мы бы здесь не сидели.
– Да, – сказал Агустин. – Мы барахтаемся в этой глупости вот уже целый год. Но Пабло – он не дурак. Пабло – он изворотливый.
– Зачем ты это говоришь?
– Говорю – и все.
– Но пойми ты, – старалась втолковать ему Пилар. – Изворотливостью теперь уже не спасешься, а у него ничего другого не осталось.
– Я понимаю, – сказал Агустин. – Я знаю, что нам пути назад нет. А раз уцелеть мы можем, только если выиграем войну, значит, надо взрывать мосты. Но Пабло хоть и стал трусом, а все-таки он хитрый.
– Я тоже хитрая.
– Нет, Пилар, – сказал Агустин. – Ты не хитрая. Ты смелая. Ты верный человек. Решимость у тебя есть. Чутье у тебя есть. Решимость у тебя большая и сердце большое. Но хитрости в тебе нет.
– Ты в этом уверен? – задумчиво спросила женщина.
– Да, Пилар.
– А Ingles хитрый, – сказала женщина. – Хитрый и холодный. Голова у него холодная.
– Да, – сказал Агустин. – Он свое дело знает, иначе его не прислали бы сюда. Но хитер ли он, я не берусь судить. А Пабло хитрый – это я знаю.
– Но теперь он ни на что не пригоден и от страху с места не сдвинется.
– Но все-таки хитрый.
– Ну, что ты скажешь еще?
– Ничего. Тут надо подойти с умом. Сейчас такое время, что действовать надо с умом. После моста нам придется уходить из этих мест. Нужно все подготовить. Мы должны знать, куда уходить и как уходить.
– Правильно.
– Для этого – Пабло. Тут нужна хитрость.
– Я не доверяю Пабло.
– В этом можно на него положиться.
– Нет. Ты не знаешь, какой он стал.
– Pero es muy vivo. Он очень хитрый. А если тут не схитрить, будем сидеть по уши в дерьме.
– Я об этом подумаю, – сказала Пилар. – У меня целый день впереди.
– Мосты – это пусть иностранец, – сказал Агустин. – Они это дело знают. Помнишь, как тот все ловко устроил с поездом?
– Да, – сказала Пилар. – Он тут был всему голова.
– Где нужна сила и решимость – это уж по твоей части, – сказал Агустин. – Но что касается ухода – это пусть Пабло. Отступление – это пусть Пабло. Заставь его подумать об этом.
– А ты не дурак.
– Да, я не дурак, – сказал Агустин. – Только sin picardia[24]24
без хитрости (исп.)
[Закрыть]. Где нужна picardia, там пусть Пабло.
– Несмотря на все его страхи?
– Несмотря на все его страхи.
– А что ты думаешь про мост?
– Это нужно. Я знаю. Мы должны сделать две вещи. Мы должны уйти отсюда, и мы должны выиграть войну. А чтобы выиграть войну, без этого дела с мостом не обойдешься.
– Если Пабло такой хитрый, почему он сам этого не понимает?
– Он слаб и хочет, чтобы все оставалось так, как есть. Ему бы крутиться на месте, как в водовороте. Но вода прибывает, его сорвет с места, и он волей-неволей пустит в ход свою хитрость.
– Хорошо, что Ingles не убил его.
– Que va. Вчера вечером цыган пристал ко мне, чтобы я его убил. Цыган – скотина.
– Ты тоже скотина, – сказала она. – Но не дурак.
– Да, мы с тобой оба не дураки, – сказал Агустин. – Но Пабло – у него дар.
– Только поладить с Пабло нелегко. Ты не знаешь, каким он стал.
– Да. Но у него дар. Слушай, чтобы воевать – достаточно не быть дураком. Но чтобы выиграть войну – нужен дар и средства.
– Я это все обдумаю, – сказала она. – А теперь нам пора идти. Мы и так уже запаздываем. – Потом, повысив голос, крикнула: – Англичанин! Ingles! Пойдем, нам пора!
10
– Давайте отдохнем, – сказала Пилар Роберту Джордану. – Садись, Мария, отдохнем.
– Нет, пойдемте дальше, – сказал Роберт Джордан. – Отдыхать будем на месте. Мне надо поговорить с этим человеком.
– И поговоришь, – сказала ему женщина. – Торопиться некуда. Садись, Мария.
– Пошли, – сказал Роберт Джордан. – Отдохнем наверху.
– А я хочу отдыхать сейчас, – сказала женщина, садясь у ручья.
Девушка опустилась рядом с ней в густой вереск, и солнце заиграло у нее в волосах. Один Роберт Джордан все еще стоял, глядя на горный луг и пересекавший его ручей, где, наверно, водились форели. Здесь вереск доходил Роберту Джордану до колен. Дальше он уступал место желтому дроку, среди которого торчали большие валуны, а еще дальше шла темная линия сосен.
– Далеко нам еще до лагеря Эль Сордо? – спросил Роберт Джордан.
– Нет, недалеко, – сказала женщина. – Пройдем этот луг, спустимся в долину, а потом вон в тот лес, что выше по ручью. Садись и забудь свои серьезные мысли.
– Я хочу поговорить с ним, и чтобы с этим было покончено.
– А я хочу вымыть ноги, – сказала женщина и, сняв сандалии и толстый шерстяной чулок, сунула правую ногу в ручей. – Ух, как холодно!
– Надо было ехать верхом, – сказал Роберт Джордан.
– А мне полезно прогуляться, – сказала женщина. – Мне этого как раз недоставало. Чего ты?
– Ничего, просто тороплюсь.
– Тогда успокойся. Времени у нас много. А день-то какой хороший, и как я рада, что здесь нет сосен. Ты даже не знаешь, как эти сосны могут надоесть. Тебе не надоели сосны, guapa?
– Я люблю их, – сказала девушка.
– За что же ты их любишь?
– Люблю запах, люблю, когда под ногами сосновые иглы. Люблю, когда ветер качает высокие сосны, а они поскрипывают.
– Ты все любишь, – сказала Пилар. – Такая жена прямо клад, особенно если еще подучится стряпать. В сосновом лесу скука смертная. Ты не видела ни дубняка, ни бука, ни каштанов. Вот это леса! В таких лесах все деревья разные, каждое дерево само по себе, и у каждого своя красота. А в сосновом – смертная скука. Ты как скажешь, Ingles?
– Я тоже люблю сосны.
– Pero venga?[25]25
Что это вы? (исп.)
[Закрыть] – сказала Пилар. – Будто сговорились. Я и сама люблю сосны. Но мы слишком засиделись здесь, в этих соснах. И горы мне надоели. В горах есть только два пути – вверх да вниз, а вниз – это только к дороге и к фашистским городам.
– Ты когда-нибудь ходишь в Сеговию?
– Que va. С моим-то лицом? Такое лицо раз увидишь, навсегда запомнишь. Хотела бы ты быть уродиной, моя красавица? – спросила она Марию.
– Ты не уродина.
– Vamos, не уродина. Я уродиной родилась. И всю жизнь была уродиной. Ты, Ingles, ничего не понимаешь в женщинах. Ты знаешь, каково это женщине – быть безобразной? Знаешь, каково это – быть уродиной всю жизнь, а чувствовать себя красивой? Чудное это чувство. – Она сунула в воду другую ногу и тут же отдернула ее. – Ух, как холодно! А вон трясогузка. – Она показала на серую пичужку, прыгавшую на камне выше по ручью. – Что за птица! И петь не поет, и в пищу не годится. Дергает хвостом, только и всего. Дай мне покурить, Ingles, – сказала она, взяла папиросу, вынула из кармана кофты кремень и огниво и закурила.
Она попыхивала папиросой и смотрела на Марию и на Роберта Джордана.
– Чудная штука жизнь, – сказала она и выпустила дым через ноздри. – Из меня бы получился хороший мужчина, а я женщина, и к тому же уродливая. Но меня многие любили, и я многих любила. Чудно! Слушай, Ingles, это интересно. Посмотри на меня, на уродину. Смотри внимательней.
– Ты не уродина.
– Que no?[26]26
Разве нет? (исп.)
[Закрыть] Не лги. Или… – она засмеялась своим грудным смехом, – или тебя тоже начинает пронимать? Нет. Я пошутила. Нет. Смотри, ведь я уродина. А все же и в уродине бывает что-то такое, от чего мужчина слепнет, когда полюбит. Слепнет и он, и ты сама тоже. А потом приходит день, когда ни с того ни с сего он вдруг видит, что ты уродина, как оно и есть на самом деле, и перестает быть слепым, и тогда ты тоже видишь себя такой, какой он тебя видит, и то, что в тебе было, уходит, а вместе с этим уходит и мужчина. Поняла, guapa? – Она погладила девушку по плечу.
– Нет, – сказала Мария. – Потому что ты не уродина.
– Ты головой рассуди, а не сердцем, и слушай, – сказала Пилар. – Я рассказываю интересные вещи. Ведь тебе интересно, Ingles?
– Да. Но нам нужно идти.
– Que va, идти. Мне и здесь хорошо. Потом… – продолжала она, обращаясь теперь к Роберту Джордану, точно учительница к классу, точно читая лекцию, – потом проходит немного времени, и вот у тебя, даже если ты такая уродина, как я, такая, что хуже и не придумаешь, опять появляется и потихоньку растет это «что-то» – дурацкое чувство, будто ты красивая. Растет и растет, точно кочан капусты. А потом, когда оно уже совсем окрепнет, попадаешься на глаза другому мужчине, и ему кажется, что ты красивая, и все начинается с самого начала. Теперь уж, я думаю, у меня это прошло навсегда, но кто знает, может быть, и еще раз так случится. Тебе повезло, guapa, что ты не уродина.
– Нет, я уродина, – возразила Мария.
– Спроси его, – сказала Пилар. – И не лезь в воду, ноги застудишь.
– Если Роберто говорит, что нужно идти, лучше пойдем, – сказала Мария.
– Подумаешь! – сказала Пилар. – Для меня это так же важно, как для твоего Роберто, но я говорю: мы можем спокойно отдохнуть здесь, у ручья, потому что впереди времени много. Кроме того, мне хочется поговорить. Это единственное, что у нас осталось от цивилизации. Чем же нам еще развлекаться? Разве тебе не интересно меня послушать, Ingles?
– Ты очень хорошо говоришь. Но есть многое другое, что меня интересует больше, чем разговоры о красоте и об уродстве.
– Тогда давай говорить о том, что тебя интересует.
– Где ты была, когда началось движение?
– В своем родном городе.
– В Авиле?
– Que va, в Авиле!
– Пабло сказал, что он из Авилы.
– Он врет. Ему хочется, чтобы ты думал, будто он из большого города. Нет, я вот откуда. – И она назвала город.
– Что же там у вас было?
– Много чего, – сказала женщина. – Много. И все страшное. Даже то, чем мы прославились.
– Расскажи, – попросил Роберт Джордан.
– Это все очень жестоко, – сказала женщина. – Мне не хочется рассказывать при девушке.
– Расскажи, – повторил Роберт Джордан. – А если ей не годится слушать, пусть не слушает.
– Я все могу выслушать, – сказала Мария. Она положила свою руку на руку Роберта Джордана. – Нет такого, чего мне нельзя было бы слушать.
– Не в том дело, можно или нельзя, – сказала Пилар. – А вот следует ли говорить об этом при тебе, чтобы ты потом видела дурные сны.
– От одних рассказов мне ничего не приснится, – ответила ей Мария. – Ты думаешь, после всего того, что с нами было, мне приснится дурной сон от одного твоего рассказа?
– А может быть, тебе, Ingles, будут сниться дурные сны?
– Давай проверим.
– Нет, Ingles, я не шучу. Тебе приходилось видеть, как все начиналось в маленьких городках?
– Нет, – сказал Роберт Джордан.
– Ну, значит, ты ничего не знаешь. Ты видишь, во что превратился Пабло, но поглядел бы ты, какой он был тогда!
– Расскажи!
– Нет. Не хочу!
– Расскажи.
– Ну, хорошо. Расскажу всю правду, все как было. А ты, если тебе будет тяжело, останови меня.
– Если мне будет тяжело, я перестану слушать, – ответила ей Мария. – Хуже того, что я знаю, ведь не может быть.
– Думаю, что может, – сказала женщина. – Дай мне еще одну сигарету, Ingles, и начнем.
Девушка прилегла на поросшем вереском берегу ручья, а Роберт Джордан вытянулся рядом, положив под голову пучок вереска. Он нашел руку Марии и, держа ее в своей, стал водить ею по вереску; потом Мария высвободила свою руку и ладонью накрыла руку Роберта Джордана, и так они лежали и слушали.
– Рано утром civiles, которые сидели в казармах, перестали отстреливаться и сдались, – начала Пилар.
– А вы брали казармы приступом? – спросил Роберт Джордан.
– Пабло со своими окружил их еще затемно, перерезал телефонные провода, заложил динамит под одну стену и крикнул guardia civil, чтобы сдавались. Они не захотели. И на рассвете он взорвал эту стену. Завязался бой. Двое civiles были убиты, четверо ранены и четверо сдались.
Мы все залегли, кто на крышах, кто прямо на земле, кто на каменных оградах или на карнизах, а туча пыли после взрыва долго не рассеивалась, потому что на рассвете ветра совсем не было, и мы стреляли в развороченную стену, заряжали винтовки и стреляли прямо в дым, и гам, в дыму, все еще раздавались выстрелы, а потом оттуда крикнули, чтобы мы прекратили стрельбу, и четверо civiles вышли на улицу, подняв руки вверх. Большой кусок крыши обвалился вместе со стеной, вот они и вышли сдаваться. «Еще кто-нибудь остался там?» – крикнул им Пабло. «Только раненые». – «Постерегите этих, – сказал Пабло четверым нашим, которые выбежали из засады. – Становись сюда. К стене», – велел он сдавшимся. Четверо civiles стали к стене, грязные, все в пыли и копоти, и четверо караульных взяли их на прицел, а Пабло со своими пошел приканчивать раненых.
Когда это было сделано и из казарм уже не доносилось ни стона, ни крика, ни выстрела, Пабло вышел оттуда с дробовиком за спиной, а в руках он держал маузер. «Смотри, Пилар, – сказал он. – Это было у офицера, который застрелился сам. Мне еще никогда не приходилось стрелять из револьвера. Эй, ты! – крикнул он одному из civiles. – Покажи, как с этим обращаться. Нет, не покажи, а объясни».
Пока в казармах шла стрельба, четверо civiles стояли у стены, обливаясь потом, и молчали. Они были рослые, а лица, как у всех guardias civiles, вот такого же склада, как и у меня. Только щеки и подбородок успели зарасти у них щетиной, потому что в это последнее утро им уже не пришлось побриться, и так они стояли у стены и молчали.
– Эй, ты, – крикнул Пабло тому, который стоял ближе всех. – Объясни, как с этим обращаться.
– Отведи предохранитель, – сиплым голосом сказал тот. – Оттяни назад кожух и отпусти.
– Какой кожух? – спросил Пабло и посмотрел на четверых civiles. – Какой кожух?
– Вон ту коробку, что сверху.
Пабло стал отводить ее, но там что-то заело.
– Ну? – сказал он. – Не идет. Ты мне соврал.
– Отведи назад еще больше и отпусти, он сам станет на место, – сказал civil, и я никогда не слышала такого голоса. Серый, серее рассвета, когда солнце встает за облаками.
Пабло отвел кожух назад и отпустил, как его учили, кожух стал на место, и курок был теперь на взводе. Эти маузеры уродливые штуки, рукоятка маленькая, круглая, а ствол большой и точно сплюснутый, и слушаются они плохо. А civiles все это время не спускали с Пабло глаз и молчали.
Потом один спросил:
– Что ты с нами сделаешь?
– Расстреляю, – сказал Пабло.
– Когда? – спросил тот все таким же сиплым голосом.
– Сейчас, – сказал Пабло.
– Где? – спросил тот.
– Здесь, – сказал Пабло. – Здесь. Сейчас. Здесь и сейчас. Хочешь что-нибудь сказать перед смертью?
– Nada, – ответил civil. – Ничего. Но это мерзость.
– Сам ты мерзость, – сказал Пабло. – Сколько крестьян на твоей совести! Ты бы и свою мать расстрелял!
– Я никогда никого не убивал, – сказал civil. – А мою мать не смей трогать.
– Покажи нам, как надо умирать. Ты все убивал, а теперь покажи, как надо умирать.
– Оскорблять нас ни к чему, – сказал другой civil. – А умереть мы сумеем.
– Становитесь на колени, лицом к стене, – сказал Пабло. Civiles переглянулись. – На колени, вам говорят! – крикнул Пабло. – Ну, живо!
– Что скажешь, Пако? – спросил один civil другого, самого высокого, который объяснял Пабло, как обращаться с револьвером. У него были капральские нашивки на рукаве, и он весь взмок от пота, хотя было еще рано и совсем прохладно.
– На колени так на колени, – ответил высокий. – Не все ли равно?
– К земле ближе будет, – попробовал пошутить первый, но им всем было не до шуток, и никто даже не улыбнулся.
– Ладно, станем на колени, – сказал первый civil, и все четверо неуклюже опустились на колени, – руки по швам, лицом к стене. Пабло подошел к ним сзади и перестрелял их всех по очереди – выстрелит одному в затылок и переходит к следующему; так они один за другим и валились на землю. Я как сейчас слышу эти выстрелы, громкие, хотя и приглушенные, и вижу, как дергается ствол револьвера и человек падает. Первый не пошевелился, когда к его голове прикоснулось дуло. Второй качнулся вперед и прижался лбом к каменной стене. Третий вздрогнул всем телом, и голова у него затряслась. И только один, последний, закрыл глаза руками. И когда у стены вповалку легли четыре трупа, Пабло отошел от них и вернулся к нам, все еще с револьвером в руке.
– Подержи, Пилар, – сказал он. – Я не знаю как спустить собачку, – и протянул мне револьвер, а сам все стоял и смотрел на четверых civiles, которые лежали у казарменной стены. И все, кто тогда был с нами, тоже стояли и смотрели на них, и никто ничего не говорил.
Так город стал нашим, а час был еще ранний, и никто не успел поесть или выпить кофе, и мы посмотрели друг на друга и видим, что нас всех запорошило пылью после взрыва казарм, все стоим серые от пыли, будто на молотьбе, и я все еще держу револьвер, и он оттягивает мне руку, и когда я взглянула на мертвых civiles, лежавших у стены, мне стало тошно; они тоже были серые от пыли, но сухая земля под ними уже начинала пропитываться кровью. И пока мы стояли там, солнце поднялось из-за далеких холмов и осветило улицу и белую казарменную стену, и пыль в воздухе стала золотая в солнечных лучах, и крестьянин, который стоял рядом со мной, посмотрел на казарменную стену и на то, что лежало под ней, потом посмотрел на всех нас, на солнце и сказал: «Vaya[27]27
ну (исп.)
[Закрыть], вот и день начинается!» – «А теперь пойдемте пить кофе», – сказала я. «Правильно, Пилар, правильно», – сказал тот крестьянин. И мы пошли на площадь, и после этих четверых у нас в городе никого больше не расстреливали.
– А что же случилось с остальными? – спросил Роберт Джордан. – Разве у вас больше не было фашистов?
– Que va, не было фашистов! Их было больше двадцати человек. Но никого из них не расстреляли.
– А что стало с ними?
– Пабло сделал так, что их забили насмерть цепами и сбросили с обрыва в реку.
– Всех? Двадцать человек?
– Сейчас расскажу. Это все не так просто. И пусть мне никогда больше не придется видеть, как людей бьют до смерти цепами на городской площади у обрыва.