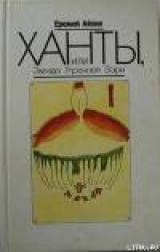
Текст книги "Ханты, или Звезда Утренней Зари"
Автор книги: Еремей Айпин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Искание – это тоже смысл. Искание – это хорошо. Главное, это чтобы пустоты не было…
– А пустота, что это такое?
– Есть еще такое дело: пустота, – пояснил Демьян. – У человека отняли простую веру, бога отняли, а взамен ничего не дали. Ему говорят про ученую веру, а он не может ее принять сердцем, не может подняться до ее высот. Вот тут получается самое страшное – пустота в душе человека…
Это люди совсем пропащие, – размышлял Демьян вслух. – Их называют «назад живущими» или «обратно живущими», ибо они не думают о будущем, не думают о своем народе, не думают о других людях. Они бывают разные, эти обратно живущие. Одни начинают жить только для себя. Другие – немало их – начинают поклоняться одному богу – вину. Третьи вообще ничего не хотят делать или все делают через пень-колоду, кое-как, словно утрачивают вкус к жизни. Четвертые мечутся, бросаются от одной крайности к другой, вибрируют на острие, что разделяет жизнь от смерти; они очень остро чувствуют, что им чего-то не хватает, чего-то очень нужного, совершенно необходимого для жизни, ибо без этого «чего-то» жизнь становится бессмысленной. Они мечутся, ищут, но ищут, как правило, не там, где нужно. У них просто нет времени остановиться на мгновение, остановиться и призадуматься о прошлом и будущем и ощутить свое «я» в извечном движении дней, лет, веков. Но у них нет этого мгновения. Они все бегут и бегут – и преждевременно проваливаются за черную черту горизонта в потусторонний мир…
Это самые несчастные люди земли.
Люди без веры. Их можно Направить и назад и вперед, и вкривь и вкось. Их руками можно грабить, сжигать селения-города и убивать людей. Люди без веры идут на все, ибо в их душах нет грани между добром и злом, все у них порушено безверием…
– Есть вот такая пустота в нашей жизни, – тихо закончил Демьян.
– Не ожидала от вас! – призналась девушка. – От бога пошли – в пустоту пришли. Впрочем, все логично… Откуда все это у вас, Демьян Романович?..
– Как откуда? – удивился он. – От жизни, от дорог, наверное.
– Но вы так еще молоды!..
– Верно, жил мало, а ездил много, – сказал он. – А когда ездишь – много думаешь. Зимой на оленях едешь – дорога длинная. Мысль приходит: зачем я живу? Летом по реке плывешь, по воде. А вода и вовсе бесконечна. Разве с зимней дорогой сравнишь! Опять думаешь: как я живу? Правильно ли живу? Одна дума кончится, приходит другая. Начнешь обдумывать жизнь людей своего рода, потом жизнь людей Реки. Думы, как и дороги, бесконечны…
– А начало дум… откуда идет? Кто научил, что ли, думать? – спрашивала девушка.
Демьян взглянул на небо. Дождь все моросил.
– Многих людей я слушал. Первый, конечно, отец был…
С людьми нужно хорошо жить, говорил ему отец. Для чего? Человек, прожив на земле отведенные ему дни, уйдет в потусторонний мир. И коль он оставит о себе добрую память, люди с благодарностью будут вспоминать его. А это приятно его потомкам – детям, внукам и другим родственникам и близким. Поэтому нужно думать, как ты прожить должен свою жизнь. Ведь после ничего уже исправить нельзя… После пришел крестный отец, старец Ефрем, объяснявший все явления природы и жизни. За свою долгую и трудную жизнь он многое постиг и обдумал. Он был думающим человеком. Быть может, поэтому Кровавый Глаз одним из первых отправил его туда, откуда никто не возвращался. Но прошли годы, и он оказался единственным на всю Реку, кто вернулся с мест, откуда не было возврата.
– Может быть, ему крепкая вера помогла, – проговорил Демьян. – Не ученая, конечно, а простая…
– Вот об ученой вере, – заговорила девушка. – Почему вы не доучились?
– Не знаю… – признался Демьян. – Как-то не до учебы было. В сорок втором мое учение кончилось.
Отец и братья ушли на фронт. Мать посадила его гребцом на нос лодки – ездила так на рыбалку. А зимой взяла его погонщиком оленей, когда стала водить аргиши с рыбой в районный центр. Все же помощник. Он мог бы, конечно, учиться – никто не принуждал работать. Но он видел, как тяжело матери без него. Только по прошествии лет он понял, что матери тяжело было, быть может, не столько физически, сколько от одиночества, от потери самых близких людей. И последний сын своим присутствием облегчал ее душевные и физические муки, помог выдержать тяжесть военных лет.
К концу войны он уже самостоятельно выезжал на рыбалку и охоту. Какая тут учеба, побыстрей бы до победы!
– Другие же учились? – спрашивала девушка.
– Кто учился, кто работал. По-разному все было…
Он призадумался, потом улыбнулся грустно, сказал:
– И грех смеяться, и смешно. В школе-то, в интернате одежда на нас просто горела. А материи-то, видно, не привозили – время военное. Так нам сшили штанишки из занавесок оконных. Белые занавески были, тоненькие такие. Ну, кто их пораньше получил, кто попозже. Кто как без штанов оставался – получал их. Вот первых белоштанников мы стали дразнить «белогвардейцами». И даже стали поколачивать их как следует… А потом и я стал белоштанником, побывал в шкуре «белогвардейца»…
Он помолчал немного, потом взглянул на девушку и вспомнил начало разговора.
– Учение мимо меня прошло, – сказал он. – Если бы я постиг ученую веру, тогда бы, может быть, о боге сказал бы по-другому, по-ученому, что ли…
– Богу мы, конечно, дали большую поблажку, – сказала девушка. – Мы же комсомольцы…
– Не все комсомольцы ученые, – возразил Демьян. – Значит, неученым комсомольцам нужна простая вера.
– Если бы наши комсомольцы в поселке услышали сейчас наши разговоры о боге, крепко бы нам досталось вместе с богом! – засмеялась девушка. – Вздернули бы на одной веревке!..
– Так и вздернули бы?.. – пробормотал Демьян и, взглянув на смеющиеся золотисто-зеленые глаза девушки, сам засмеялся и сказал: – Наверное, приятно висеть на одной веревке… с такой девушкой!
– А как повисишь – так больше не захочешь! – сквозь смех ответила она.
– Ну, один раз в жизни все можно… – многозначительно сказал он.
– Так второго-то раза ведь не будет! – смеялась она. – Второй-то жизни!..
– Ну и что, – невозмутимо проговорил он. – Одной жизни должно хватить!.. К чему вторая-то?
День клонился к вечеру, хотя это было не так просто уловить – все небо затянуто облаками. Но Демьян знал, что перед закатом дождь прекратится ненадолго: можно съездить за карасями в глухое лесное озерко невдалеке от стоянки. Совсем без дела он не мог сидеть.
Когда дождь начал утихать, он взял топор и нарубил дров. В такую погоду всегда должен быть запас. Потом объяснил девушке, как нужно поддерживать огонь, и, сказав, что скоро вернется, поехал ловить карасей. Но караси попадались плохо – то ли из-за непогоды они «спали в иле», то ли кончалось время икромета, и они не ходили, то ли сетешка его вконец обветшала.
Ему хотелось порадовать девушку крупными золотисто-оранжевыми карасями – одно загляденье! Поднимешь – словно солнце в руки взял! Так и горит, так и сверкает! Вот это царь-карась! Но такие не попадались. Поймал карасишек мелких и бледных. Вот и задержался допоздна. Все надеялся, что забредет в сеть чудо-карась.
К ночи еще плотнее сдвинулись тучи, и в лесу стало сумрачнее.
Подплывая к стану, Демьян в тусклом отсвете костра увидел встревоженную тень девушки. Она была явно чем-то обеспокоена. И когда он подошел к навесу, она схватила его за руку и почти шепотом сказала:
– Дема, там кто-то ходит!
– Кто же там ходит? – громко спросил он.
– Не знаю, – полушепотом ответила она.
– Видела?
– Нет, только слышала! – Она показала в глубину леса. – Кто-то там деревья и ветви ломает!
– Да к костру не подойдет, – успокоил ее Демьян. – Зверь, наверное, какой-нибудь ходит.
– Какой зверь? – быстро спросила она.
– Кто знает: может, заяц. Может, лиса.
– Нет, большой зверь шумно ходит!
– Наверное, лось, – согласился Демьян. – Он тяжело ходит иной раз…
– А я так напугалась! – призналась девушка. – Подумала: а вдруг к костру подойдет! Что бы я стала делать?
Тут в чаще послышался неясный говор: будто два человека, невнятно бормоча, о чем-то спорили между собой. Бормотание прервалось так же неожиданно, как и возникло.
– Люди?! – прошептала девушка и шагнула к Демьяну. – Откуда они взялись?!
Голос ее дрогнул.
Демьян повернул лицо в сторону чащи. Тут послышалось тявканье собаки, приглушенное расстоянием и низкими тучами.
– Понятно, кто к нам пожаловал, – проговорил Демьян, подкладывая дрова на огонь.
– Кто?!
– Старый пакостник филин…
– Филин?! – недоверчиво переспросила девушка.
– Да он иногда такое вытворяет – волосы дыбом встанут! – засмеялся Демьян. – Это он так развлекается, пугает людей. Особенно весной, когда настроение у него хорошее. Мастак он на всякие штуки…
– Уф-ф! – вздохнула и засмеялась девушка. – А ведь и вправду мурашки по коже бегут! И не подумаешь – филин!
Демьян повернулся в сторону филина и крикнул:
– Ты, старый разбойник! – и добавил еще несколько слов на родном языке.
– Что ты ему сказал? – спросила девушка.
– Что мы не боимся его и чтобы он шел по своим делам!
– И все?
– Еще сказал ему, если в покое нас не оставит, я возьму ружье и так напугаю его, что он дорогу домой не найдет…
– Ружья-то у нас нет! – улыбнулась девушка. – Чем его напугаешь!
– Я ему так уверенно сказал, что он поверил про ружье.
– Он понимает человеческий язык?
– Все лесные звери-птицы понимают человека. Ну, которые, может, не очень понимают, но все равно чувствуют по голосу, о чем их просит человек.
– А одному в тайге не страшно? Останавливаться, ночевать?..
– Тут главное – в сердце нельзя пускать страх, – отвечал Демьян. – Коль пустил в сердце страх – так и филин напугает, и сова прилетит – потешится, и заяц покажется медведем. Такое вот дело…
– Как удержать страх, если он живет в человеке?
– Нет, сердце человека чистое, – возразил Демьян. – Страх приходит со стороны. И все плохое приходит в сердце человека со стороны.
– Со стороны, значит? А человек – ангел? Так, что ли?
– Так, так, – кивнул он. – Ведь в сердце младенца нет страха и жестокости. Все приходит потом, от других людей, от плохой жизни…
– А с таежным страхом как быть?
– Тут все просто. Тут вот какое дело надо знать. В тайге все звери-птицы уважают человека, уступают ему дорогу. Стало быть, человеку совсем нечего бояться. Разве что по глупости пустит в сердце пустой страх…
– А медведь? По-моему, его все побаиваются.
– Да про него много говорят. А так зверь как зверь, со своими повадками.
– Пугают людей? Пустые страхи, считаешь?
– Можно так сказать… – в раздумье проговорил Демьян. – Вот в войну был один случай… А так наша Река не помнит ни одного смертного греха за медведем. И старики не слыхали от своих предков ничего подобного. Во всяком случае, за последние сто с лишним лет…
– Расскажи, интересно ведь, – попросила девушка.
– Потом как-нибудь, – уклонился он. – Дорога длинная, успею еще… А на сегодня филина достаточно, – усмехнулся он и, глянув в сторону чащи, добавил: – Видно, полетел по своим делам – не слышно теперь его.
– А ведь и вправду, будто послушался нас! – удивилась девушка.
– Он понял, что мы не боимся его. Не испугались. А коль пугать некого – так зачем зря шуметь. Разумная, однако, птица…
Оба замолчали. Демьян покуривал трубку. Девушка задумчиво смотрела на языки пламени.
Потом они сварили карасей и поужинали.
Шел дождь.
Глухо вздыхали кедры под порывами ветра.
Потрескивал костер.
Они сидели под навесом и молча слушали дождь. Дождинки звучно барабанили по бересте крыши.
Наконец девушка спросила:
– Что ты все молчишь, Дема?
– А о чем говорить? – осведомился он.
– Как о чем? – удивилась она и взглянула на него внимательными глазами. – О чем-нибудь. О чем-то ведь думаешь…
Он почувствовал, как тепло ее болотных глаз согрело его лицо и стало проникать в нутро.
Он молчал.
– О чем-то ведь думаешь, не правда ли? – спрашивала она.
После паузы он согласился:
– Думаю.
– О чем же?
Помедлив, он смущенно сказал:
– Я думаю о нас.
– О нас?! – Ее брови вздрогнули и, словно натягиваемый лук, изогнулись посередине.
– Может быть, о себе? – уточняла она.
– Нет, о нас, – упрямо повторил он.
– Что же о нас можно думать? – проговорила она.
– Разное.
– Любопытно… – только и сказала она.
А размышлял он о жизни, о превратностях судьбы. Вот пришли на землю два человека, примерно в одно и то же время. Жили на разных реках. Жили, ничего не подозревая, о существовании другого. И вот однажды судьба свела их. И жизнь стала больше, мир – шире, небо – выше. Удивительно преобразилась земля – все удвоилось в жизни, все повернулось к человеку только светлой стороной. Но в то же время все вдруг объединилось, все вдруг соединилось воедино. И все стало на двоих. На двоих.
Одна тайга.
Одна вода.
Одна дорога.
Одно небо.
Одно солнце.
Но придет время – и нарушится это изумительное единство мира и жизни. Повернут в разные стороны и, быть может, никогда больше не увидят друг друга. И уйдет в небытие один житель земли. И жизнь станет меньше, и мир снова сузится, а небо – снизится. И каждый что-то теряет. Что-то очень нужное. Что-то очень необходимое.
А время неумолимо…
Время неподвластно…
Одни потери…
Такие мысли бродили в голове Демьяна. Словно раз-бредшее стадо оленей, они, быть может, шли не в том направлении, в каком нужно было идти. Но он уже ничего не мог сделать.
Девушка долго молчала.
Было слышно, как звенела вода реки.
Шел дождь.
Наконец девушка подняла на него цвета весеннего болота глаза – в них была грусть. Она тихо сказала:
– Что-то ведь остается…
Он ответил не сразу, после небольшой паузы:
– Печаль потери остается…
– Значит, все бесследно не уходит. Значит, что-то все же остается.
Медленно, как бы взвешивая каждое слово, он сказал:
– Лучше бы ничего не оставалось…
– Нет-нет, – быстро и решительно перебила она. – Пусть хоть печаль остается! Разве это плохо?
– Пусть так, – согласился Демьян, чтобы не огорчать ее. – Пусть будет так.
Оба смолкли. Сгущались сумерки. Рвались искры огня в неведомую высь. Костер незаметно убаюкивал, но время сна еще не пришло. И девушка тихо заговорила. Демьян слушал ее мягкий певучий голос, похожий на мелодичный и чистый говор таежного родника. Такие родники встречались ему в урмане, на пологих склонах сопок, под сенью ельника и кедрача. Он останавливался и долго и ненасытно впитывал в себя говор родника, что завораживал его необыкновенной чистотой звуков и необъяснимыми переливами мелодии. После, спустя многие дни, он мог вспомнить весь напев и спеть его без слов: «Вов-во-во-во-во-вов…» В нескольких звуках будет столько нюансов, что невозможно их передать ни словами, ни нотами… Его заворожит мелодия, где нет ни одного лишнего и неверного звука. Что может быть искреннее и правдивее напева родника?! Что может быть искреннее и правдивее самой природы?! Но сейчас, позабыв обо всем, он смотрел на огонь и слушал мелодию, что, подобно родниковому ручью, струилась только для него. Будто наяву, он увидел город на берегу большой сибирской реки. Пристань, пароходы, вокзал, люди города. Большие и малые дома людей города. А вот и самый лучший дом города – это ее дом. Потому что родной дом всегда кажется лучше и краше, чем другие дома. Увидел ее деда – сидит за столом, обложился книгами со всех сторон, молча читает. Ученый, по счетной части, понял Демьян. Бабушка. Она что-то говорит на непонятном наречии. Ах да, она учит внучку польскому языку. Ей очень хочется, чтобы еще одно поколение в Сибири сохранило ее родной язык. Вот вторая бабушка. А дед, другой, уже ушел из жизни. И отец ушел… Мать одна. Она в деда, тоже по ученой части… А чем в городе плохо? Да просто хотелось начинать самостоятельно все, своими силами, без опеки бабушек и дедушек. В детстве вообще мечтала стать парикмахером и поехать куда-нибудь далеко-далеко. Разве плохо ездить по миру и делать людям прически, чтобы они красивее стали? Возможно, в этом проявился тот беспокойный дух, что был присущ многим ее предкам. В ее родословной удивительным образом переплелись судьбы разных людей – и польских политссыльных, и украинских переселенцев прошлого века, и венгерских интернационалистов, и сибирских чалдонов. «Полный интернационал», – заметила девушка.
– Ну а по паспорту кто? – спросил Демьян.
– Русская.
– Как так?
– В России – мы все русские, – улыбнулась девушка. – Вернее: интернационалисты.
– Ин-тер-на-ци-о-на-лис-ты… – повторил Демьян, как бы взвешивая каждый слог, словно пробовал на прочность. – Крепкое слово…
В ушах Демьяна все еще стояли удивительно завораживающие звуки ее голоса, что навевали родниковую чистоту и свежесть его земли.
Они снова замолчали. Они молча смотрели на огонь, и языки пламени рвались в мокрое небо, и отблески носились по их задумчивым лицам. Дождь все моросил. И под шум дождя они приняли ночь…
14
Демьян встряхнулся от дум, огляделся – подъезжал к реке Ягурьях.
Увидев впереди крутой подъем, вожак Вондыр заторопился, и упряжка пустилась галопом и легко вылетела на левый берег. Тут Демьян отвел влево хорей и натянул поводок – олени остановились под старым кедром. Пора остановку делать, решил он. Пусть дух переведут.
Жажда все мучила его, и он повернулся к реке, что дремала под покровом снега и льда. Но рубить прорубь не стал – кто из-за глотка воды станет тревожить спящую реку или озеро. Не принято такое у путников. Это одно. Но было и второе обстоятельство… Он взглянул на ствол кедра со следами старых зарубок и ран, со спекшейся смолой, с обломанными нижними ветками. Смеркалось. И под огромной кроной древнего кедра стало еще сумрачнее. Но в большой холод в сумраке всегда теплее, нежели на свету. Быть может, поэтому Демьян задержался у дерева, прикоснулся к замшелому стволу. Старый кедр на своем веку многое видел и многое помнит. Он видел, как у одноногого Курпелак Галактиона после войны, на этой переправе, на середине реки, замертво свалилась правая пристяжная важенка. По инерции вожак и средний протащили ее волоком десяток шагов. Курпелак Галактион остановил упряжку и, сунув под мышку самодельный деревянный костыль, проворно заковылял к важенке, приподнял ее голову и развязал недоуздок. Еще была надежда: она просто споткнулась, сейчас оклемается и встанет. Он стоял, низко нагнувшись над ней, и ждал. И, увидев мертвеющий глаз оленихи, понял: все кончено, никакой надежды. Он выпрямился и только теперь взглянул на Кровавоглазого. Тот, в тулупе, полуразвалившись, неподвижно сидел на нарте и, казалось, дремал. Сзади подъехал Коска Малый и, останавливая упряжку, крикнул Галактиону:
– Что с ней? – и устремил взор на олениху.
– Пала, – мрачно ответил Галактион.
– Выживет?
– Пала. Замертво пала, – глухо повторил каюр.
И тут Кровавый Глаз резко, взмахнув полами черного тулупа, словно поднимающийся на задние лапы медведь, вскочил, – видно, не дремал все же. Вскочил и бросился к одноногому каюру.
– Нароч-чна-а! – взвизгнул он. – Нароч-чна такого оленя запряг! Нароч-чна!..
Он подскочил к одноногому Галактиону и ударом ноги выбил костыль – каюр свалился в снег. И Кровавый Глаз принялся неистово молотить его ногами.
– Нароч-на!.. – рычал Кровавый Глаз. – Нароч-на – сын паскуды! Мало вас били на Казыме в тридцать четвертом?! Мало!
Каждый удар сопровождал криком.
– Выродок шаманов – нароч-на!
– Подонок кулацки – нароч-на!
– Вражина народна – нароч-на!
Рев, ударяясь о берега, покатился по унылой пустыне реки, покатился вверх и вниз.
Курпелак Галактион, извиваясь под ударами, подтягивая негнущуюся в коленном суставе, торчащую крючком ногу, полз к своему костылю. Пытался ползти. Но сыпавшиеся со всех сторон удары почти не давали ему возможности сдвинуться с места. А перекатываться с боку на бок не позволяла больная нога, которая при этом упиралась в снег. Приподымаясь между ударами, он падал в сторону костыля. Все ближе, ближе… Стиснув зубы, он молчал – не кричал, не извинялся за падшего оленя, не просил пощады. Он молчал. Молчал, инстинктивно прикрывая голову одной рукой, а второй подталкивал себя к костылю. Видно, его молчание еще больше разозлило Кровавоглазого: как он смеет молчать! Никто пред ним не молчит!.. И он еще ожесточеннее начал молотить одноногого каюра. Тот увидел краем глаза – костыль совсем рядом. Еще чуть-чуть – и можно дотянуться. Костыль самодельный, из крепкой смолистой сосны, с рукояткой на одном конце – ставится под мышку, для упора – и с круглым тяжелым набалдашником на другом конце, чтобы в снег меньше проваливался. И наконец схватил костыль. И замер на мгновение – примеривался. Обледеневшим набалдашником – в лоб Кровавого Глаза. Березовый кап набалдашника должен снести нависшее над Рекой чудовище. Снести, раздавить, изничтожить. И он выжидал удобный момент, ибо хорошо осознавал, что у калеки единственный удар. Всего один!
И удар должен быть сокрушающим. Иначе – конец.
И, вложив в набалдашник всю свою ярость и бессилие, размахнулся. Кровавый Глаз уклонился – костыль лег на его плечо и переломился пополам.
– Нарочч… – захлебнулся и остолбенел Кровавый Глаз.
Он застыл посреди реки с открытым ртом.
А одноногий Галактион сидел на снегу и тупо смотрел на обломок костыля, что двумя руками держал перед собой. Сначала в его взоре появилось недоумение, потом – удивление, а удивление сменилось безучастием. Понял: единственный шанс упущен, сражение проиграно, конец.
Он сидел с обломком костыля, и по лицу его катились то ли капли подтаявших снежинок, то ли капли пота.
Наконец Кровавоглазый пришел в себя, глухо рыкнул. Удар отрезвил его, и он будто даже повеселел: теперь есть повод – при исполнении служебных обязанностей… и так далее, и тому подобное…
– Собаке собачья смерть! – четко, словно прочитал приговор, отпечатал он – и рука его привычно потянулась к правому боку. – Жаль – не прихлопнул с отцом, кулацкое отродье!..
Все делал с замедленным удовольствием, не спеша, с шуточками-прибауточками, сквозь зубы скаламбурил о том, что на одного калеку меньше – так хлеба побольше достанется другим, и забормотал что-то о стране, о выгоде, о необходимости и бдительности…
Рука его привычно скользнула по боку и нашла в одеждах кобуру.
Он вытащил пистолет.
И равнодушно-холодный металл мушки нашел Безногого Галактиона.
– Ну, молись своему идолу! – милостиво разрешил он и с торжествующей ухмылочкой, почти весело добавил: – Пусть тебе местечко там уготовят! – Он ткнул дулом пистолета вниз, под ноги. – Пусть разворачивается! Срочно!
Мушка все стояла на одноногом каюре.
Кровавый Глаз не спешил. На его губах застыла ухмылочка торжества. Он растягивал удовольствие. Он ждал, когда каюр, неловко подволакивая торчащую крючком ногу, поползет к нему и начнет целовать его пимы. Подползет – куда денется. Не такие еще подползали. Не такие. Впрочем, всякие попадались. А такого, с вывертом-ногой, еще не было. Должно, забавно он станет волочить свою ногу-корягу. Поэтому Кровавый Глаз не спешил. Ждал. Ждал высшего мгновения своего торжества. Человеческое унижение его всегда возвышало в собственных глазах, утверждало в своей непогрешимости и могуществе. И после это долго тешило его самолюбие и согревало нутро. Согревало стынущее нутро. Поэтому без всего этого уже не мог существовать.
– Ну-ну, сволочь, шевелись! – почти ласково промычал он. – Молись идолу своему – авось поможет!
Он выставил руку с пистолетом.
И мушка приподнялась.
Рука дернулась.
Грохнул выстрел.
Пистолет вылетел.
Пуля дзинькнула об лед.
Эхо выстрела, перекатываясь по снегам, носилось по студеной реке.
Кровавый Глаз резко дернулся и… увидел черный наконечник хорея. Понял: Коска Малый хореем выбил из руки его пистолет.
– Брось! Брось хорей! – взвизгнул он, а рука машинально рванулась к поясу, но наткнулась на пустую кобуру.
Коска Малый, выставив перед собой хорей с металлическим наконечником, как с копьем, застыл в трех-четырех саженях от Кровавоглазого. Настороженный, бледный, весь напружиненный. Казалось, вот-вот сделает выпад и отскочит назад, как это принято у медвежатников, которые с копьем выходят на зверя. Видно, выбив пистолет, он так и поступил – отскочил на безопасное расстояние, чтобы нельзя было ухватить его хорей-копье.
– Брось! Брось! – еще раз взвизгнул Кровавый Глаз.
– Кто без хорея ездит? – удивился Коска. – Кто?
– Никто! – закричал Кровавый Глаз. – Брось! Сказано: брось!
И тут Коска Малый, словно готовясь к выпаду, на полшага отступил, а наконечник чуть выдвинул вперед и тихо, почти шепотом, приказал:
– Ссядь!
Кровавоглазый завертел головой: слева – пустынный лес на берегу, справа – пустынный лес на берегу, сзади – безногий каюр с обломком костыля, спереди – хорей с наконечником. Вскинул голову к небу – и там пусто. И правая рука перестала шарить по боку и замертво повисла вдоль туловища. Всем телом он почувствовал металлический привкус кованого наконечника и вмиг ослабел, будто жилы порвались вдруг. Так ему сподручнее, подумал он о Коске, увидев его побелевшие пальцы, сжимавшие березовый хорей с наконечником на нижнем утолщенном конце. Впился глазами в наконечник. Наконечник, кованый, с локоть длиной, теперь смотрел прямо на него. Этим наконечником проверяют толщину льда на переправах, проламывают головы нападающим на стадо волкам, продалбливают лунки на обледеневшей земле. С таким наконечником, как с копьем, можно на медведя выйти.
И ноги помимо его воли подкосились, и он тяжело плюхнулся на снег. Он хотел что-то сказать, но губы задрожали, потом их свело судорогой, и он не смог выговорить слово.
– Туда! – Коска показал хореем на нарту.
Кровавый Глаз не понял или не сумел подняться на ноги. В ожидании кованого наконечника не отрываясь следил за хореем в руках охотника.
– На нарту! – повторил Коска, и на лице его появилась досада.
Кровавый Глаз скорее понял по движению магического наконечника, нежели услышал голос и осознал значение слова «нарта». Наконец тяжело поднялся и поплелся к нарте. Когда он, укутавшись в тулуп, повалился на свое место, Коска Малый переложил хорей на правую руку, ногами разгреб снег и разыскал пистолет. Стряхнув снег, он деловито осмотрел «маленькое ружье», повертел в руках, затем сунул в качинг – меховой подсумок для спичек, бруска, ниток, иголки и другой мелочи – на правом боку и завязал тесемки крышки.
Теперь край одного глаза он все время держал на пассажире в тулупе. Тот пока неподвижно сидел на нарте. И он подошел к Курпелак Галактиону. И каюр, увидев Коску Малого, вдруг всхлипнул и тихо протянул:
– Ма невремлам…[44]44
Мои дети…
[Закрыть]
И по щекам ручьями побежали слезы.
Коска неловко потоптался возле него. Потом взял обломки костыля и направился к своей нарте. Вытащил из-под сиденья топорик, вытесал две реечки и, приложив их к излому костыля, крепко перемотал бечевкой. Затем вернулся к Галактиону, постоял немного молча, потом резко сказал:
– Мос![45]45
Хватит!
[Закрыть] – и хотел добавить, что у него тоже дети, но смолчал: у того одна нога, а у него – две. Вдвое больше.
И Галактион так же неожиданно перестал, как и начал. Он молча взял костыль. И Коска помог ему подняться, стряхнул снег с его малицы.
– Нунгнам курая немрэх? – спросил Коска. – Топ юх кура мурт?
– Немрэх, – усмехнулся Галактион. – Топ юх курам мурт…
– Юх курая варем. Пухел муцы пыкел, – улыбнулся и Коска.
– Нух туй – тулсахет морийэх. Алы ченыя куты ил юх цоп…[46]46
Собственная-то нога цела? Только деревянную сломал?
[Закрыть]
Кровавоглазый зашевелился на нарте, насторожился. Но люди, казалось, не обращали на него внимания, словно его вовсе не существовало.
Курпелак Галактион выпрямился, стряхнул снег с лямок павшей оленихи и взглянул на Коску Малого. Молча обменялись взглядами, и молча же Коска Малый распряг правого пристяжного бычка своей упряжки и подвел его к товарищу. Тот благодарно кивнул, надел на оленя недоуздок и лямки. И, развязав поводок, тронул вожака. Заскрипел снег под полозьями.
– Цела. Только деревянную сломал…
– Деревянную-то я залечил. До поселка выдержит.
– Сучок был – там поломалась. Так бы что ей, деревяшке…
Кровавый Глаз неподвижно сидел на своем месте.
Сзади впритык ехал на двух оленях Коска Малый.
«Есть повод, отцово золото „выжимать“ начнет», – подумал Галактион о своем пассажире. Но ничего тот не выжал. В поселке пробыл недолго – сказался больным и уехал. Обратно вез его другой каюр. На сей раз, к удивлению жителей Реки, он никого не забрал с собой. Видно, и вправду какая-то хворь нашла на него.
Это был его последний приезд.
Уехал. А смутные слухи о перебитой ноге – деревянной – и кованом наконечнике остались – упорно кочевали из селения в селение. Река вздыхала. Река ждала. Река чувствовала, что гроза нависла над Кур-пелак Галактионом и Коской Малым из сира Лося. «Тот», Кровавый Глаз, шутить не любил. Поэтому многие жители не без основания полагали, что земные дни несчастных сочтены…
Но вскоре пришла неожиданная весть – он «исполняет служебные обязанности» теперь в другом районе, на северо-западе края, в стороне заката солнца. То ли перевели его, то ли сам попросился. Это было неведомо никому. Но все поняли другое: наконец двинулся в сторону заката, и заката ему никак не миновать…
Река облегченно вздохнула: гроза миновала, обошла стороной почтового человека Курпелак Галактиона и Коску Малого. Люди-то в то время считали, что беда миновала Коску Малого. «А миновала ли?» – размышлял Демьян. Тогда – да, а позже? Ведь именно у этой переправы много лет спустя рука Коски потянется к ножу, и олениха-вожак изойдет кровью. Именно у этой переправы через Ягурьях, а не где-то на другом месте старой Царской дороги. Может быть, до сих пор бродит здесь, возле переправы, призрак сгинувшего Кровавоглазого? Видит призрак один Коска Малый. Никто об этом, кроме него, не знает. И каждый раз, как и много лет назад, проезжая здесь, он вступает в единоборство с призраком. Призрак, кривляясь и гримасничая, выглядывает из-за деревьев то справа, то слева, то впереди, то сзади. Призрак неуловим и мстителен, коварен и жесток. Его уже никак не достанешь кованым наконечником хорея, хотя и, дразня, вплотную подскакивает к нарте. По словам предков, призраки, как и все нечистые силы земли, очень живучи и боятся только «железа с острым краем» – ножа или топора. Если они пристают к человеку, то нужно пригрозить им ножом или топором. Коска, конечно, знал об этом. И когда, возвращаясь из Нефтереченска домой, призрак подскочил к оленихе-вожаку, ударил его ножом. Ударил, и показалось, что зацепил-таки острием ненавистный призрак и начал неистово колоть его. В затуманенном водкой мозгу остался только призрак. И Коска решил во что бы то ни стало избавиться от него. Избавить переправу через Ягурьях, избавить людей Реки, избавить себя…
Он хотел сделать добро и думал, что одерживает верх, а вышло все наоборот – призрак просто издевался над ним.








