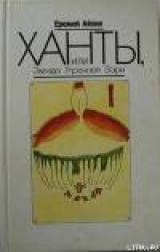
Текст книги "Ханты, или Звезда Утренней Зари"
Автор книги: Еремей Айпин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Быть может, в облике тех, кого избивал в поселке в пьяном угаре, ему мерещились какие-то едва уловимые черты призрака переправы. Он безошибочно улавливал эти черты. Ведь если внимательно присмотреться, то видно, что в каждом человеке есть что-то от бога и есть что-то от сатаны. Добро и зло всегда рядом, добро и зло ходят в одной упряжке. Уловив сатанинское, Коска сам сатанел и набрасывался на человека. Но первоначальным побуждением, первым толчком было добро. Все начинал этого ради. Потом попадал в заколдованный круг – и добро непременно оборачивалось злом. Отчего так получалось?
Значит, что-то сдвинулось в нем.
Коль так, кто сдвинул?
Призрак переправы?
«Видно, призрак, иначе как объяснить его болезнь», – рассуждал Демьян, обдумывая жизнь своего родственника. Бродит где-то здесь, возле переправы, несчастный призрак. Может быть, ходит мимо старого кедра. Мимо кедра, который в тот далекий год пронзила яростная брань Кровавого Глаза, – и он стал хиреть с тех пор. На самой верхушке в год отмирало по две-три плодоносящих ветви. Но кедр еще крепко держался за жизнь, и в нем скверны не было, ибо брань пронзила его насквозь – слишком близко стоял – и ругательства впечатались в другие деревья в глубине леса и висели теперь на них. Демьян чувствовал это.
Этих умирающих и мертвых деревьев в приречном лесу десятки, а может быть, и сотни. Кто знает, сколько проклятий и всякой скверны услышал тогда лес на этой переправе. Как уверяли старики всех сиров, каждое живое дерево, когда в него попадает скверна, тотчас же начинает хиреть и вскоре умирает. Все живое более чувствительно и ранимо, нежели человек, говорили старики. Поэтому надобно быть милосердным…
Демьяну это было ведомо.
Сгущались сумерки.
Он взял хорей, развязал поводок – олени отдышались, пора ехать.
И упряжка тронулась на восток, в сторону восхода солнца.
15
После Ягурьяха Демьян проехал кочкастое приречное болотце с редким сосняком, миновал неширокий горелый бор, лежавший вдоль реки, и спустился к песчаным озерам. Это были даже не озера, а приборовые озерки с белым песчаным дном – с одной стороны бор, с другой начиналось болото. Кое-где возле берегов торчали из-под снега стебельки пожелтевшего пырея. Демьян огляделся. Он любил с детства песчаные озерки. Они радовали глаз своей первозданной чистотой. Особенно хороши они летом. Вода в них до того светлая и чистая, что каждую песчинку видно на дне. Разве с мутной водой болотных озер и рек сравнить?! В детстве, бывало, через весь бор в жаркие дни ходили купаться на песчаные озерки. Те озерки на окраине домашнего бора назывались «Оленя Дома Песчаные Озера». Возле тех озер остались полуразрушенные строения, возведенные руками дедов и прадедов Демьяна. Зарастает деревьями-кустами старинное селение – пувыл[47]47
Пувыл (пауль, пухол) – селение ханты и манси в тайге.
[Закрыть] оленных предков. И осенью и весной уютны и тихи песчаные озерки. Возле них останавливаются путники на короткий привал, чтобы испить ароматной и сладкой водицы, вскипятить душистый крепкий чай. На таких стоянках Демьян всегда улавливал неразрывную связь с пространством – с уходящим за озеро лесом, с голубеющим в дымчатой дали небом, с солнцем, с луной, со звездами. И эта связь, и это пространство со всем, что в нем есть, словно родник, питало его чем-то живительным, и он становился большим и сильным. Он чувствовал себя частью этого беспредельного пространства. В такие мгновения ему казалось, что с его землей, с людьми этой земли ничего плохого не случится, что все невзгоды и беды пройдут стороной, развеются в этом удивительном пространстве или за его пределами, если они есть.
Если пространство беспредельно, значит, беспределен и человек, размышлял Демьян. То есть и он, Демьян, выходит, беспределен. И, выходит, не очень хорошо знает себя. Во всяком случае, не сможет постичь себя до конца. Как-то странно получается. Коли себя не можешь постичь, так другой и вовсе непостижим?! Такой вывод напрашивается…
Мысли в сгущающихся сумерках стали особенно четкими, ибо все остальное – деревья, снега, небо и дорога – сливалось постепенно воедино, в одно таинственно неясное и призрачное. Остались только мысли.
Задумавшись, Демьян не сразу заметил встречного путника. Упряжки сошлись на середине второго песчаного озерка. По привычке вожак Демьяна повернул вправо и остановился в снегу по самое брюхо, а вожак встречного влево.
Нарты встали друг против друга.
Демьян увидел торчащую из-под капюшона малицы копну белых волос и узнал густой певучий голос Седого:
– А-а, еем-ики, пэча вола, пэча вола![48]48
А-а, брат-старик, здравствуй, здравствуй!
[Закрыть]
Ничего Демьян еще не успел ответить, как Седой соскочил с нарты, чмокнул его в обе щеки и со словами «пэча-пэча» тряс его руку.
– Пэча, пэча![49]49
Здравствуй, здравствуй!
[Закрыть] – отвечал Демьян, вдохнув невольно запах водки от Седого.
– Брат-старик! – кричал Седой. – Дорогой брат-старик! Я ведь выпил! Я ведь пьян!.. Твой бестолковый брат пьян! Твой плохой брат пьян! Ох, пьян и плох!..
– Бывает, – сказал Демьян. – Все пьяными бывают.
– Як детям ездил. В интернат. У детей гостил! – громко говорил, почти кричал, Седой. – Разве сразу от них уедешь?! Разве уедешь, не погостив?!
– Так, так, – кивал Демьян в знак согласия.
– Разве так просто уедешь, когда втроем, вцепившись в тебя, ходят за тобой?! Куда тут деваться?!
– Знаю, знаю. У меня у самого двое учатся.
– Так, брат-старик, так! – кричал Седой. – Ты сам знаешь. Что я болтаю? Ты все сам знаешь!.. Погоди, я счас…
С этими словами Седой наконец выпустил руку Демьяна и, замолкнув на миг, полез за пазуху. Оттуда он извлек бутылку и, вынув пробку, снова подступился к брату-старику.
– Брат-старик, я знаю, ты не жалуешь эту водицу. Но за-ради меня один глоток сделай! За-ради меня, за-ради мою жизнь! За-ради мою проклятую жизнь!..
Демьян молча взял протянутую бутылку. По тяжести он понял – бутылка почти полная. Как бы в нерешительности он подержал ее секунду-другую в правой руке. Седой, видно, уловив его колебание, крикнул:
– Пей. За-ради…
– Ладно-ладно, – остановил его Демьян. – Сейчас выпью. Погоди малость.
Он знал, что Седой так просто не отстанет. И, запрокинув голову, честно сделал один или два глотка. Можно было, конечно, зажать горлышко бутылки языком и ни капли не выпить: все равно в темноте ничего не видно. Но обмануть Седого… у кого повернется язык! Кого будет земля держать! Да лучше самому в преисподнюю!..
– С удачей-здоровьем! – сказал Демьян обычный хантыйский тост.
– Так-так: с удачей-здоровьем! – живо откликнулся Седой. – Милый Торум, удачу-здоровье нам сохрани! Так-так!
Он взял из рук Демьяна бутылку и, поворачиваясь по солнцу, чуть приседая и кланяясь, взмахивая в такт движению левой рукой, высоко вскинув голову с кочкой белых волос, громко говоря-причитая, пустился в магический танец. Переступал ногами, стряхнул снежинку, одернул малицу, сдвинул на правый бок деревянные ножны с ножом, качнулся влево, качнулся вправо – все это был танец, ибо не было ни одного лишнего движения, и, казалось, вместе с ним танцевали и хрусткие снега, и заиндевевшие деревья, и звездное небо, и песчаное озеро, и таинственно-черная ночь. Все вокруг него двигалось, хрустело, приплясывало. А он каждому богу ли, человеку ли, каждой стороне горизонта посылал свои слова-причитания, слова-молитвы.
На восток:
– Э-э-эй, милый Торум!
На юг:
– Эй, боги и богини!
На запад:
– Э-э-эй, люди Земли и Неба!
На север:
– Дайте жизнь! Ребятам-детям дайте удачливую-здоровую жизнь!
Перевел дух, вскинув белую голову, крикнул:
– Эй, вы слышите меня?! Слышите меня?!
Потом он увидел Демьяна, словно только что вспомнил о нем, пробормотал:
– А, ты здесь! Счас и я выпью! Ну, с удачей-здоровьем!
– Удачи-здоровья! – пожелал Демьян.
Седой запрокинул голову. Стало слышно, как забулькало из бутылки.
Пока он пил, Демьян оглядел его упряжку. Вернее, это была даже не упряжка, а пол-упряжки: половину нарты тянул махонький олененок с одним крохотным рожком на голове. Как только нарта остановилась, он, высунув язык, тяжело дыша, лег на снег. Кое-как, видно, дотянулся до остановки. «Бедняжечка, – пожалел его Демьян. – Крепко устал». И он поднял олененка, чтобы тот, разгоряченный, не простыл на холодном снегу. Тот встал на дрожащие ноги, потерся мордочкой о бок важенки-вожака – очистил ноздри от сосулек, – и когда Демьян отошел, снова лег. Чернобокая важенка-вожак лизнула его в макушку возле единственного рожка. Демьяну показалось, что она поцеловала олененка. «Видно, мать», – решил он. Тоже жалеет малого. Никак полнарты тянет, а в нарте, кроме хозяина-каюра, еще целый мешок муки белеет в темноте.
– Оленей моих смотришь? – спросил Седой, оторвавшись от бутылки.
– Бык твой где? – поинтересовался Демьян. – Чего ж ты малого оленя мучаешь?
– Бык мой сурал![50]50
Сурал – скончался. Так обычно говорят о людях, но не о животных.
[Закрыть] – как-то неестественно, через силу хохотнул Седой. – Все. Конец ему. Сурал.
– Не слыхал эту весть, – смущенно пробормотал Демьян.
– Бык-то мой еще осенью захворал, – заговорил громко Седой. – Кое-как дотянул до льдов-снегов этой зимы. Сейчас я полупеший. Вот последнего олененка мучаю. Что делать?! Чувствую, однако: скоро останусь с собственными ногами, совсем пешим стану. Первым пешим человеком Реки стану. Как водится, почему-то я всегда первым оказываюсь. Всякое несчастье почему-то находит меня первым. Как-то вот разыскивает, как-то находит!..
Демьян, слушая собеседника, покосился на мешок с мукой, подумал: мог бы летом запастись. По воде, по течению без всяких хлопот привез бы. Но вслух ничего не сказал: у каждого хозяина свои соображения на сей счет. Может быть, летом у него не на что было купить муку. Вернее всего так дело и обстояло.
– Брат-старик Нимьян, ты человек понимающий, слушай мою жизнь! – покрикивал Седой. – Думаешь, мне не жалко малого оленя?! Сам бы впрягся в нарту!.. Да, считай, уже впрягся. На подъемах-то я помогаю им. Бегу рядом с полозом нарты. У меня ведь тоже сердце есть – как тут усидишь на нарте?!
– Важенка-то мать этого малого? – спросил Демьян, кивнув на олененка.
– Мать, мать, – сказал Седой. – Моя последняя важенка. А малый – это дочь ее, Черна Дева. Дети мои такое имя дали ей. Не гляди, что малый, а свою поливину нарты тянет! Честно тянет!
Демьяну послышалось не «Черна Дева», а «Черно Диво». Странное имя, подумал он. Но переспрашивать не стал – Черно Диво так Черно Диво, тоже имя. Видно, маленький олененок чем-то удивил детей Седого. Вот и получил такое редкое оленье имя – Черное Диво, соображал Демьян.
– Сам впрягусь в нарту, – бормотал Седой. – Скоро впрягусь, скоро…
Его слова сбудутся. Однажды на этой же дороге Демьянов Микуль встретит его, постаревшего и изможденного. Они втроем тянут небольшую нарточку с покупками – он, Седой, его жена и собака. А сзади плетется их сынишка Андрей в интернатских валенках, в шапчонке и пальтишке. Нарточка тяжело переваливается с сугроба на сугроб заметенной снегом колеи. Собака, сука с отвисшими сосками на голом животе, с облезлыми боками и выпирающими ребрами, яростно ощерится на Микуля. И у Микуля тоскливо сожмется все нутро. А хозяева двух ближайших поселков, нового – геологического, и старого – охотопромыслового, только руками разведут: сам, мол, Седой виноват, все пропивает, все спускает до нитки, а в поселок перебираться не желает. «Формально они правы, наверное, – подумает Микуль. – А по-человечески…»
Теперь же Демьян, глянув на Черное Диво, сказал:
– Да, с оленями дело плохо…
– Это все война! – яростно топнул Седой. – Война! Будь она проклята!..
– И война, – согласился Демьян. – И война свое дело сделала.
Ты воевал, северный олень. Перевалив через Урал, ты шел на запад. И ты привык к свисту пуль, к вою снарядов, к разрыву бомб. Ты хорошо воевал, ибо тебе не нужна была тропа в Заполярье. Ты мог пройти повсюду. И за тобой не угнаться ни собаке, ни лошади, ни машине. Ты был в своей холодной белой стихии. И ты воевал и падал рядом с каюром-солдатом на окровавленный снег Карельского фронта, и в твоем сохнущем глазу метались кровавые сиолохи и разгорающегося боя, и северного сияния.
Ты служил человеку. И служил до конца. На фронте и в тылу.
С тех лет опустели пастбища многих охотников Реки. Кончилась порода старинных оленей. Порода выносливая, надежная.
Демьян вспомнил примету древних: если полностью исчезает одна старая порода, то новая на этом пастбище плохо приживается, неважно растет. Болезни, мор, хищники. Да мало ли других врагов у оленя?! Вот и остались ни с чем многие семьи реки.
При колхозе была надежда только на колхозных оленей. Хоть они и менее выносливые, менее ухоженные и не блистали особенной статью, но все же это олени, тянули нарту, делали свое дело. Да много ли возьмешь с такого оленя! Над ним сто хозяев – и все погоняют. Вроде бы и мой олень – и не мой. Отъездил зиму, а там хоть пропадай. И хозяин – и не хозяин. Что ни говори, человек больше печется о тех вещах, которые принадлежат ему. Так было испокон веков, и неизвестно, когда все станет по-другому и когда человек начнет больше заботиться о вещах общественных, нежели о собственных. На деле, конечно, а не на словах. На словах-то все правильно и разумно выходит, а толк-то какой?! Сами же себя и обводим вокруг пальца, и делаем вид, что не замечаем этого. Хороши, однако, хозяева! Дожили! Теперь нет вот ни частных оленей, ни общественных. Нет и снегоходов. На своих двух остались, как говорит Ефим Седой. И война, конечно, не вперед работала. Когда Седой уходил на фронт, у его старика отца было семнадцать оленей. А в день его возвращения домой отец на радостях привел к священному дереву в изголовье дома последнего бычка. Ефим, оглушенный и опустошенный войной, помнится, недоуменно спросил:
«Зачем все это, отец?»
«Что толку от одного бычка?!» – вопросом ответил отец.
«Все же живое существо…»
«Ты же знаешь: на пастбище одинокий олень не держится. К тому же бычок, коли бы важенка была…»
«Знаю. Но как-то нужно жить…»
«Война кончилась – теперя проживем! – бодро сказал отец Андрей-старик. – Колхоз опять же поможет. Ты знаешь, за эти годы люди дружнее, что ли, стали. Как-нибудь проживем, не пропадем!»
Тогда, глядя на коричневошерстного бычка у священного дерева, Ефим подумал: вот он, последний олень старинной породы. Что же впереди? Пустое пастбище. А пустота всегда наводит тоску. Наверное, об этом размышляет и примолкший отец. Опустело пастбище. И только спустя более двух десятилетий снова завели своих оленей. Но они плохо прижились и вот пошлина убыль. «Отвернулась от нас оленья удача. Каким арканом ее, эту удачу, заарканить можно? – вопрошал Седой. – Кто знает?! Может, у кого есть такой аркан?!»
Размахивая руками, подергивая белой кочкой волос, не отрывая ноги от укатанной колеи дороги, покачиваясь, как бы пританцовывая на месте, Седой стоял перед Демьяном. Напоминал он подраненного орла перед взлетом: вот-вот взлетит, собрав остаток последних сил, взлетит, зная, что оттуда, из поднебесья, ему суждено замертво пасть на землю. Томительно острый и притягательный взлет.
Демьян, словно пытаясь удержать его на земле, предложил:
– Заночевал бы. Твой малый олень отдохнет. Куда в ночь-то скачешь?!
– Да они домой рвутся! – Седой кивнул в сторону своей полуупряжки. – Ум у нас у троих, оленей – человека, одной тропой идет. Чувствую, как они домой рвутся. Чем ближе к дому, тем быстрее бегут.
– Ягель родного пастбища вкуснее…
– Точно так, мой брат-старик!
– На переправе смотри осторожнее, брат! – предупредил Демьян. – Все же ночь…
– Разве мы с тобой не сыновья исхо,[51]51
Исхо – «ис» – старинный, древний, «хо» – человек. Устойчивое словосочетание «старинный человек» означает – человек бывалый, многоопытный, мудро проживший свою жизнь, до ухода в Нижний мир успевший передать свой жизненный опыт сыновьям.
[Закрыть] брат-старик! – воскликнул Ефим Седой. – Мы ль ночами не ездили?!
– Исхо-то исхо, – согласился Демьян и, думая о своем, добавил про другое: – Но все же… это Ягурьях. Вода малая была, берега высокие…
Седой понял его с полуслова.
– Не бойся за меня, брат-старик! – вскричал он бесшабашно зазвеневшим голосом. – В моей душе столько дыр, столько дыр… Кажется мне – теперь сам Черный Старик[52]52
Черный Старик – Пыхты Ики. В хантыйской мифологии и религий: полудемон-полубог, властелин Нижнего мира, главный дух смерти и болезней. Имеет и другие подобные имена.
[Закрыть] меня стороной обходит! Такое иногда на ум приходит…
– Ну, в ночь – за полночь не трогай его.
– Кто его, чудища, трогает. Это я к слову…
– Пусть он твои слова не слышит.
– Это его дело, – заносчиво сказал Седой. – Хочет слышит, хочет не слышит. Я сказал.
Демьян взглянул на оленей, что скрипели зубами и переступали с ноги на ногу, предложил Седому:
– Может, переночуешь вместе со мной возле Кава,[53]53
Кав – камень. Здесь: геодезический репер со столбом возле дороги, где обычно останавливаются путники на кормежку оленей.
[Закрыть] на боровой гриве? – Он кивнул на восток, за песчаные озерки. – Тут я заночую. Ягель хороший, снегу, должно быть, не очень много, не очень глубокий.
– Нет, я все-таки этой ночью до дома доберусь. Давно уехал, верно, мои домашние люди заждались.
– Ну, как знаешь, – сказал Демьян. – Тебе виднее. Человек лучше знает свою тропу.
Между тем Седой снова вытащил бутылку. «На прощание, такой мороз, – бормотал он. – Согреться нужно. Хоть ненадолго».
Пришло время разъезда.
Они уже развязали каждый свою вожжу-поводок, взяли хореи, поправили упряжные ремни, когда Ефим Седой, протянув руку на прощание, как бы вдруг отрезвев, сказал грустно:
– Я тут много болтал попусту. Но я знаю: на земле я не вечен, есть конец… – и, помолчав, попросил с тяжелым надрывом: – Брат-старик! Коль со мной что случится, ты, брат-старик, детей моих не забывай! Сделай такое, хорошо?.. Может, где одним глазом увидишь. Может, где у твоего порога встанут, сиротиночки мои… Брат-старик, им много не нужно: одно доброе слово. Одно слово добра!.. С голоду не помрут, сейчас время такое. Теперь слово добра дороже!.. Знаю, брат-старик, ты не пожалеешь такое слово для моих сирот!.. Знаю. Поэтому и прошу для моих…
Голос его странно зазвенел. Как в песне, он словно взял неожиданно высокую ноту – и вот-вот сорвется… Демьян крепко тряхнул его руку, быстро перебил, запротестовал:
– Что ты! Что ты!..
– Прошу для моих!.. – держался Седой на своей головокружительно высокой ноте.
– О жизни надо думать! – рассердился Демьян и повысил голос. – О житье-бытье! Вперед думать надо! Вперед, о будущем!..
– …детей, сирот… – продолжал Седой.
– Впер-ред!.. – зарычал вдруг Демьян. – А ты куд-да тянешь?! Вперр-ред, сссукин сын!..
– Я это так… на всякий случай. – Седой наконец сошел со своей ноты, уже спокойно добавил: – Мало ли что в этой жизни случается…
Помолчали. Олени топтались в ожидании отъезда, нетерпеливо натягивали поводки, оглядывались на хозяев.
Звезды молча перемигивались меж собой.
Снега чутко прислушивались к говору братьев-путников.
Ночь подступила со всех сторон.
Демьян оглядел темное звездное небо и, словно ему предстояло уйти не в землю, а в эту звездную высоту, тихо сказал:
– Может, брат, я раньше тебя уйду…
– А я тебя не пущу, брат-старик! – засмеялся Ефим Седой и крикнул бесшабашно весело: – Не позволю! Нет-нет! Ты еще, брат-старик, людям земли нужен! Не позволю! Не пущу!
– Если бы это от нас, людей, зависело!..
– От нас тоже кое-что зависит! И немалое, брат-старик!
Демьян ничего не сказал.
– Я уже свое дело сделал, – говорил Седой. – Свое дело жизни, свое главное дело на земле. Я, считай, брат-старик, свое отжил. Как умел, хорошо ли, плохо ли, по тропе жизни прошел. Старался, конечно, получше пройти. На людей плохого в душе не держал. Нет. Мой ум чистый.[54]54
Ум – здесь: совесть.
[Закрыть] Кто скажет: Седой для себя старался?! Кто скажет: Седой кому плохое сделал?! Скажи, брат-старик, так ли я говорю?
– Это так, – подтвердил Демьян.
И это была сущая правда. Об этом можно было не говорить: они все прекрасно знали и понимали. Но сейчас Седой прилично выпил, и ему хотелось многое услышать и уточнить заново. Тем более что брат-старик Демьян никогда не кривил душой в угоду кому бы то ни было.
Олени нетерпеливо дергали поводки, спешили на ночлег, на кормежку и отдых. И Демьян сказал:
– По-моему, пора ехать. Олени есть хотят.
– Коль, пришла пора – поедем.
Снова подали друг другу руки.
– Иим улэм, брат-старик! – хрипло проговорил Седой. – Приятного сна!
– Йим улэм! – пожелал и Демьян. – Приятного сна, брат!
– Оянгки-талангки! – С удачей-здоровьем!
– Оянгки-талангки! – С удачей-здоровьем!
Это последние слова расставания.
Тронулись упряжки.
И тут, вскакивая на нарту, Седой крикнул:
– Брат-старик, ты все ж помни мои слова: мои дети-сироты… – на этом он поперхнулся холодным воздухом, запершило в горле, закашлялся, пропали слова…
Но темная ночь четко расчленила и повторила:
– Дее-тии… сии-роо-тыыы-ы-ы…
Важенка-вожак Седого рванулась, натянула недоуздок олененка малого и, круто изогнув шею, ибо хозяин сдерживал ее за поводок-вожжу, уверенно взяла дорогу. Она тянула нарту с мешком муки и человеком и олененка. Тот едва поспевал за ней, перебирая короткими ножками.
Заскрипели полозья. Вздрогнула дорога. Упряжка растворилась в ночи.
И тут Демьян услышал пронзительно щемящий голос Седого:
По военной дороге…








