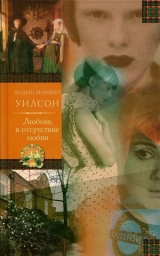
Текст книги "Любовь в отсутствие любви"
Автор книги: Эндрю Уилсон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Глава 15
Готовясь к рождественской исповеди, Бартл сидел в церкви и пытался читать молитвослов при свете тусклой одинокой лампочки. Последний из псалмов в сегодняшней вечерней службе – о милосердии и справедливости, сто первый… «Я войду в мой дом с чистым сердцем. Рука моя да не протянется ко злу. Я ненавижу грех маловерия: да не допущено будет во мне это раздвоение…» Слова звучали в голове. Он сидел с закрытым уже молитвенником и медитировал, и грех неверности казался неотделимым от него: слабость веры в Бога; измена – пусть воображаемая – любимой женщине; измена своему призванию… Все это были очень разные вещи.
Бартл ненавидел исповедоваться, но знал, что его жизнь распадется на куски, если он перестанет это делать. В молодые годы, будучи приходским священником, он ходил на исповедь каждый месяц, а то и каждую неделю. Теперь с трудом заставлял себя делать это только перед Пасхой, перед Троицей и перед Рождеством. Почему-то он всегда приходил в одно и то же место, в потемневшую кирпичную церковь в полумиле на север от вокзала «Кингс-Кросс». Знакомые окрестности помогали пройти через неприятную процедуру. Бартл терпеть не мог привлекать внимание окружающих, особенно тогда, когда ему приходилось сталкиваться с собственными недостатками, от которых по большей части не удавалось избавиться. Ничто, например, не могло бы примирить его с Верой. То есть, если обобщать – ничто не могло сделать его более сильной личностью. Он лучше любого своего недоброжелателя клял себя за способность путаться в трех соснах и создавать проблемы на пустом месте. Он судил себя значительно строже, чем любой другой – за исключением, возможно, лишь Бога. Перед этим Высшим судом он трепетал, потому что знал, что прощения не будет.
Чувство трепета и страха владело Бартлом два дня. За это время многое произошло. Ему всегда было неприятно видеть других в унизительном положении, но безумие Мадж потрясло его. Не сама болезнь, а именно безумные вещи, которые она говорила. Теперь она стала спокойней. Она все еще страдала от маний, но теперь они были вытеснены на задворки сознания. Она все еще пребывала в убеждении, что в систему центрального отопления проникли маленькие человечки, но этот факт интересовал ее не больше, чем личность премьер министра. С Бартлом она говорила в основном о Боге. Где он? Как Его узнать, услышать? В больнице она стала ходить на службы в часовню. Но она не могла найти Его, и Бартлу было больно, что он не в силах помочь ей в этих испытаниях.
Несмотря на то что, ощущая гнев Божий, Бартл тем самым ощущал Его присутствие, ему по-прежнему не удавалось разобраться в путанице своих ощущений, и на исповеди это проявилось еще острее. Ему хотелось вернуться домой очищенным. Но, если мерить мерою Христа, никто из людей не был совершенно чист. Еще в древние времена было сказано, что, разведясь с женой, можно жениться во второй раз. С формальной точки зрения, это Вера с ним развелась, а не он с ней. Но, согласно Новому Завету, мужчина, который развелся и вновь женился, совершает прелюбодеяние. И мужчина вожделеющий совершает прелюбодеяние в сердце своем.
О, шкворчащие отбивные и лапша по-кантонски! О бананы и карамельный соус! Как вы далеко!
С тех пор как Мадж заболела, Бартл не пытался связаться со Стефани. Может быть, теперь ему даны будут силы отказаться от нее. Когда он исповедовался, ему прощались все его проступки, даже то, что он считал прелюбодеянием. Но в этом и была его сложность отношений с Богом, с Законом Божьим, со всепрощением. Потому что когда он выходил с исповеди и его грехи должны были быть отпущены, легче на сердце не становилось, и никаким усилием воли нельзя было это изменить. Какой смысл стараться жить по высшим законам, если это все равно невозможно? И раз все равно ничего не получается, почему именно он должен был пытаться заслужить прощение? Как быть с тысячами и тысячами грешников, которые даже и не просят о прощении?
Такие мысли искушали Бартла и вводили в грех безверия. Его преследовало искушение усомниться в самом даре благодати. И здесь свою роль играла воля. Он не мог объяснить, как это произошло. Чувство вины, угрызения совести сыграли наименьшую роль в том, что он вновь, как уже было много раз, вернулся к таинству. Он только знал, что это его долг перед Богом. Он ощущал необходимость стремиться к совершенству: к абсолютному добру, абсолютной правде, чистой любви. «Сила моя является в слабости». Эти слова для Бартла были первым шагом на пути, который вел к той Любви, которая одна была полной и истинной.
– Великий Боже, – сказал он, и слова шли из самого сердца, – мое священство было даром, который я, как и другие Твои дары, растерял и растратил. Но и теперь позволь моему несовершенству считаться несовершенством священника. Я ничего не знаю о Тебе. Все мои попытки следовать за Тобой потерпели неудачу, снова и снова, и снова. Но все же – располагай мною. Пусть мои слабости тоже участвуют в искупительных трудах Христа. Пусть моя недостойная попытка раскаяния будет раскаянием не только моим, но и всех тех, кто лучше, чем я, но сомневается в Твоем милосердии или не понимает это так, как Ты дал мне это понять. Отпуская мне мои грехи, сделай так, чтобы прощение явилось также исцелением для Мадж, утешением для Ричелдис, просветлением для Саймона; сделай так, чтобы грехи Веры были прощены, так же как и мои грехи; и если у Стефани есть грехи, пусть они тоже будут прощены вместе с моими. О Господи, любящий нас равной и невзыскующей любовью, не отвергающий никого из нас, не дай им судить об Истине Твоей и Слове Твоем по моим глупым словам и недостойным поступкам. Но прошу Тебя, услышь мою молитву, позволь простереть к Тебе руки, принести Тебе жертву. Жизнь моя – не пример. Мои слова – тлен. Даже сейчас, когда я обещаю стать лучше, я знаю, что меня ждут впереди только неудачи и грехопадения. Но я обращаюсь к Тебе, Исцелитель. Я не дерзну стремиться к Твоему совершенству. Мне остается лишь упасть на колени перед Тобой во всей моей нечистоте и сомнениях и отдать себя Тебе. О святое дитя Вифлеема. Ты, друг всех грешников, Ты ведь тоже человек, прошу Тебя, прими это от меня.
Пока Бартл молился, зажгли свет. Он увидел, что собралось уже примерно полдюжины прихожан, ожидающих исповеди. Без двух минут шесть из ризницы появился священник. Поверх его сутаны была надета укороченная черная автомобильная куртка, и он дрожал от холода. Это был старый священник, который не раз принимал у Бартла исповедь. Когда он был в отпуске в Италии, Бартл иногда замещал его.
Священник преклонил колени, затем поднялся и надел поверх куртки накидку. Один за другим прихожане подходили к решетке. Бартла всегда глубоко трогал вид людей, ожидающих исповеди. Почти наверняка они считали, что их грехи – тайна для всех остальных, а ведь достаточно было на них посмотреть, чтобы понять, в чем они пришли покаяться. Молодой человек с напомаженными волосами и в тесных джинсах – гей; пожилая женщина с сеткой на волосах – зловредная мегера, которая портит жизнь своей безответной сестре; вот этот безукоризненного вида мужчина в пальто из верблюжьей шерсти поклоняется Мамоне. Он, вероятно, проводит не совсем четкую линию между частичным и полным уклонением от уплаты налогов и частенько соблазняется услугами «массажных кабинетов». А безобидная пожилая толстушка, которая сейчас как раз находится в исповедальне, вряд ли повинна в чем-либо, кроме обжорства, и пришла на исповедь в основном потому, что ей было одиноко и хотелось с кем-то поговорить. Она исповедовалась очень долго.
Бартл, приступая к исповеди, всегда испытывал сильное смущение. Он предпочел бы отпускать чужие грехи, чем каяться в собственных. За свои ему было очень стыдно. Может быть, они не были более серьезными, чем чьи-либо еще, но это-то и было самым постыдным. И все-таки, когда он опустился на колени перед решеткой и проговорил их, все сомнения отпали. Он знал, что находится лицом к лицу с истиной, со Всевидящим и Всепрощающим Судьей. И если всего несколькими минутами раньше он собирался о чем-то умолчать (глупо позволять старым грехам вцепиться в тебя еще раз), то теперь, когда он стоял на коленях, сама идея сокрытия показалась ему нелепой, поскольку он явственно ощутил присутствие Того, Кому ведомы все секреты.
Когда он закончил, старик священник сказал ему несколько слов.
– Мы постоянно твердим, что Бог любит нас, – сказал он, – но на самом деле это то, во что труднее всего поверить. На самом деле Он продолжает любить нас, что бы мы ни делали и даже если мы перестаем думать о Нем; мы иногда пытаемся отвергнуть любовь Бога, убежать от нее, как пытаетесь вы. И, – тихий смех донесся из-за решетки, – как все мы пытаемся. Мы все – Ионы, сбегающие из Ниневии, особенно священнослужители. Мы не делаем ничего, чтобы заслужить любовь Бога, и ее вымаливаем на исповеди. Это Его любовь нас сюда приводит и выводит отсюда в мир прощенными и исцеленными, чтобы строить Его Царство. И так должно быть.
– Но…
– Да?
– Но что если мы хотим того, что противно духу Писания, закону Христа, и в то же время знаем, что наша жизнь без этого не полна?
– Без чего?
Бартл сказал ему, и прибавил:
– Для меня это было бы благом. И все же это противно законам церкви.
– Помните, что всем нам дан свой Крест, – сказал священник. – Это привилегия, данная нам, христианам. Господь знает все наши желания. Он знает, что есть благо. Он дает нам знать, что нужно и правильно для каждого из нас, и иногда это не совпадает с тем, что мы сами для себя хотим.
– Да, так я и чувствую.
– Будьте терпеливы. Может быть, это ваш крестный путь. В этом случае это акт самопожертвования, и он послужит благим целям Господа. Но сам Господь трижды упал на пути к Кресту. И Он в полном одиночестве, распятый, держит ответ за все наши неудачи и падения. Мы не должны сами искать себе возмездия. Бремя наших грехов непосильно никому, кроме Него. И если вы поступаете неправильно, Господь все равно продолжает вас любить.
– Я так надеялся, что вы мне посоветуете, как жить дальше… Что же мне делать?
– Святой отец, но ведь на самом деле вам не нужен мой совет… Вы и сами все прекрасно знаете.
От того, что исповедник назвал его «отец», у Бартла перехватило дыхание.
– Может, это звучит кощунством, – продолжал священник, – но иногда я думаю, что Господь специально позволяет нам зайти в тупик, просто чтобы заставить нас задуматься. И тогда, понимая, что мы пали, мы понимаем также, что Он нас любит. И мы все – падшие, правда?
– Да, отец.
– Молитесь о покаянии.
Последовали слова об отпущении грехов и молитва, которая трогала Бартла более всех других: «Страданиями Господа нашего Иисуса Христа и Его Вечной Любовью, молитвами Святой Девы Марии и всех святых… да будет дано отпущение грехов, все блага и награда вечной жизни. И благословен будет…»
Выйдя из церкви, он зашагал по темным улицам мимо сверкающих витрин – туда, где небольшая толпа ждала, пока придет автобус. У Бартла было ощущение, что мир преобразился.
Глава 16
Саймон заехал к Белинде за Ричелдис. Нужно было ехать в больницу. Пробыв у Мадж минут двадцать, они пришли к выводу, что она стала значительно спокойней.
Обострение удалось снять, приступы безумия пока прекратились, но было очевидно, что прежней Мадж больше нет. Тем не менее, оставаться в палате «Круден» ей было уже нельзя. Соседи вызывали у нее дикий страх, и не мудрено. Молодая женщина из соседней палаты в самый неожиданный момент могла начать бегать по коридору нагишом с криками: «Слава! Благодать! Слава!». Она дралась, лягалась и визжала, и сестрам приходилось насильно укладывать ее в постель. В палате с другой стороны лежал огромный мужчина лет тридцати с Ямайки, он хранил гробовое молчание.
Куда еще могли бы поместить Мадж? И Саймон, и Ричелдис надеялись, что ее продержат в больнице еще какое-то время, пока они не подыщут другое место. Но когда они зашли сегодня проведать ее, симпатичный и с виду вполне вменяемый врач сказал, что лечение пошло пациентке на пользу и ей уже нет необходимости здесь оставаться. Коротко стриженные вьющиеся волосы, канадский акцент, кокетливое выражение лица выдавали в нем гея. Вердикт же психиатра-геронтолога гласил, что процесс необратим. Тот факт, что у Мадж было все в порядке с речью, не позволял сразу заметить, что она не в себе и дальше может быть только хуже. Но она стала более адекватна и уже не так несчастна. Врачи считали, что дальнейшее потребление алкоголя может обернуться для нее катастрофой, но они не готовы были сказать, был ли алкоголь причиной ее состояния или просто усугубил его. Вероятно, Мадж будет чувствовать себя лучше в специальной лечебнице с соответствующим обслуживанием: «Ведь вы не справитесь сами – я полагаю, у вас есть дети? Миссис Круден говорила про своих внуков».
Он произносил эти слова, а Саймон и Ричелдис слушали и никак не могли понять, что, собственно, пытается сказать им этот молодой человек. Ему пришлось выразиться предельно ясно. Мадж выпишут через неделю. Они не хотят оставлять ее на Рождество в больнице.
Ричелдис и Саймон шли обратно к стоянке в полной панике. Забрать Мадж в Сэндиленд в ее теперешнем состоянии было немыслимо. Они оба считали, что детям ни к чему видеть бабушку в таком состоянии. Да и перед соседями не хотелось выставлять свою беду. А те обычно приходили к ним на коктейль на следующий день после Рождества. К тому же Мадж теперь испытывала детскую гордость от своей способности испускать газы в любой момент, когда ей захочется: «Могу ли я что-нибудь для тебя сделать, дорогая? – спрашивала она дочь. – Хочешь, я пукну?» И делала это. Саймону вспомнилось, что, когда он учился в школе, мальчишки развлекались таким образом, доводя учителей до белого каления. Но то, что было предметом гордости для десятилетних сорванцов, вряд ли пришлось бы по вкусу тому, кому приходится представлять свою тещу приятелям, живущим по соседству. Вдобавок ко всему Мадж стала с упоением пускать слюни.
Саймон и Ричелдис около часа обсуждали это по пути домой, оставив на время собственные проблемы. И решили, что сейчас же должны поехать в Рокингем-кресент и сказать Бартлу, что его долг – присмотреть за Мадж.
– У нас ей будет неспокойно, – сказала Ричелдис. – Лучше, чтобы она оказалась в привычной обстановке.
– А после Рождества мы подыщем ей хороший пансионат, – подхватил Саймон. – Что ж, Бартлу придется немного потерпеть. Ничего с ним не случится. – Его тон недвусмысленно говорил, что в данных обстоятельствах Бартл обязан сделать хотя бы это.
– Только не кричи, хорошо? – попросила Ричелдис. Но когда они подошли к дому и он оказался пуст, именно она гневно воскликнула: – Нет, в самом деле, это уже слишком!
– Придется его дождаться, – сказал Саймон.
– Маме здесь будет гораздо лучше, – сказала Ричелдис. – Она и сама не захочет ехать в Сэндиленд.
И далее они повторили, почти слово в слово, все соображения, уже высказанные в машине. Саймон подумал, что Ричелдис стала какая-то странная. Еще днем она сказала, что говорила по телефону с Моникой, и он заподозрил, что ей все известно. Неужели, прожив с мужчиной двадцать лет, женщина может быть настолько глупа, чтобы не догадаться? Ему казалось, что разговоры о судьбе Мадж были средством избежать разговора о Монике. Несомненно, именно поэтому они оба так цеплялись за эту тему. Когда дошло до дела, им стало страшно обсуждать Большой Вопрос.
– Последние несколько недель были таким адом!.. – сказала Ричелдис. – Мы просто обязаны устроить детям хорошее Рождество.
В дверь позвонили, и она подскочила:
– Явился!
– А с чего бы он стал звонить? Он же не знает, что мы здесь.
– Наверное, увидел, что свет горит. Готова поспорить, что он забыл ключи.
Саймон, криво усмехнувшись, прошел в холл. Через замерзшее стекло входной двери он увидел очертания фигуры, ничем не напоминающей брата. Сантиметров на пятнадцать ниже, чем Бартл, и гораздо шире. Саймон не успел дойти до двери, как звонок раздался еще раз.
– Господин Лонгворт? – спросил гость.
– Да.
– Я могу войти?
– Да.
– Начнем, мистер Лонгворт, – сказал человек, проходя в холл. Он на секунду поднес руку к белой кепке для гольфа, как бы не решив, снять ее или не стоит. Потом явно передумал. – Начнем! Нам предстоит нелегкий разговор.
Ростом он был примерно пять футов шесть дюймов, в коричневой куртке с воротником из искусственного меха и когда-то синих мокасинах. Ему было лет пятьдесят. У него были большие уши, покрытые волосками на мочках и внутри. Такая же поросль на верхней части груди виднелась из открытого ворота рубашки. Лицо было честным, округлым, чисто выбритым, но щетина росла столь обильно, что нижняя часть лица отсвечивала синевой. Благородный нос. Карие глаза, сверкающие гневом.
– Послушайте, вы не можете просто так забавляться с женщинами.
Саймон ощутил прилив тошнотворного страха. Это было хуже, чем в дурном сне. «Это какой-то шантажист, который заметил нас с Моникой в мотеле, – пронеслось у него в голове, – какой-то сумасшедшим моралист, хуже – кто-то, желающей извлечь выгоду из случайной встречи». Ричелдис была где-то рядом и могла все слышать. Саймон спросил себя, помогут ли деньги быстро заткнуть рот этому человеку, и стал искать в карманах чековую книжку.
– Что вы себе позволяете? Неужели у вас нет ни капли совести, господин Лонгворт?
– Думаю, мы сможем договориться, – сказал Саймон. – Уверяю вас, что я понятия не имею, о чем вы говорите, и если вы еще раз сюда придете или осмелитесь меня побеспокоить, я вызову полицию.
– Нет, вы поглядите, каков наглец! – Вошедший чуть не задохнулся от возмущения.
– Неизвестно, кто из нас наглец. К тому же вы забыли представиться.
– Не пытайтесь умничать, мистер Лонгворт. Если вы считаете, что здесь требуется чековая книжка, вы не знаете Леонарда Бернштейна.
– Я не знаю Леонарда Бернштейна.
– Очень, очень умно.
– Послушайте, я в полном неведении.
– И мы тоже, мистер Лонгворт, и мы тоже. Но позвольте сказать, если вы думаете, что можете поиграть чувствами юной девушки и потом просто отшвырнуть ее в сторону, как старый носок…
– Я так не думаю, – сказал Саймон. Он вдруг догадался, кто этот человек. Отец Рут Джолли. О Господи!
– Я вам серьезно говорю, речь идет о девушке, которая ждет ребенка. Вашего ребенка, мистер Лонгворт.
О Боже! Саймон спешно считал недели, прошедшие после отпуска в Париже, проведенного с Рут Джолли. Семь недель. Для аборта слишком поздно. Ах она маленькая дрянь!
– Послушайте, – сказал он, переходя на шепот в надежде, что незнакомец тоже понизит голос. – Я уверен, что если мы разумно все обсудим, господин…
– Бернштейн, я назвал вам свое имя, не так ли?
– Прошу прощения, я не расслышал.
– Вы многого не расслышали, мистер Лонгворт. И не разглядели. Например, человеческих чувств. Вы задумывались, каково для девушки влюбиться в человека старше себя, – вы понимаете, о чем я, – на что-то надеяться?..
– Да-да, я понимаю, о чем вы говорите…
– И потом вы поворачиваетесь и говорите, что знать ее не хотите, или точнее, вы вообще ничего не говорите. И это самое ужасное, мистер Лонгворт, – вы просто уходите от этой ситуации.
Широкое искреннее лицо Бернштейна еще не утратило гневного выражения, но теперь это был гнев, смешанный с печалью и горечью.
– Многим вы, наверно, успели жизнь попортить. – Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос.
– Нет.
– Если бы только вы видели ее сейчас, господин Лонгворт, если бы видели… Это такая жалость. Другого слова нет. Тоска, тоска, тоска. «Сходи погуляй, – говорил я ей. – Повидайся с друзьями. Можешь фильм какой-нибудь посмотреть. Купи себе что-нибудь вкусное». И если уж я высказался, господин Лонгворт, то извиняться не стану. Вы повели себя подло.
– Что случилось, дорогой? – В холл вышла Ричелдис.
– Ничего, – сказал Саймон. Он чувствовал, как покрывается гусиной кожей. Не раз в последнее время он пытался представить, как скажет жене, что с их браком покончено. Знал, что придется объяснять про Монику, но этот момент был неизбежен – по-своему великий и трагический момент в их жизни. Однако то, что происходило сейчас, смахивало на грязный фарс. Рут Джолли, Бог мой! Он уже давно забыл о ее существовании.
– У нее хорошая работа, и она порядочная девушка, мистер Лонгворт. Ничего подобного с ней никогда не было, если вы понимаете, о чем я говорю.
Саймон подумал, что он-то знает, что имеет в виду Бернштейн, и в этом случае было бы странно делать вид, что Рут ведет безупречную жизнь с точки зрения высоких моральных принципов этого джентльмена. Он хотел сказать, что девушка не слишком точно обрисовала ситуацию, но не смог. Невозможно было говорить об этом, когда Ричелдис находилась где-то рядом.
– Добрый вечер, – сказала Ричелдис, приветливо улыбнувшись.
Бернштейн приподнял кепку, обнажив сияющую лысую голову с двумя щетками черных курчавых волос по бокам. Учтиво, совсем другим тоном, чем до этого с Саймоном, он произнес:
– С кем имею честь говорить?
– Это моя жена, – сказал Саймон невозмутимо.
Повисла долгая пауза. Глаза господина Бернштейна, казалось, сейчас вылезут из орбит.
– Простите, я не ослышался?
– Боюсь, что да.
– Боюсь?.. – эхом откликнулась Ричелдис. – С чего это вдруг…
– Простите, госпожа Лонгворт, мне необходимо было поговорить с вашим мужем, но и поскольку меня заранее не проинформировали о вашем существовании, я не ожидал, что мне придется делать это в вашем присутствии. Но если бы я знал, что вы женаты, – он повернулся к Саймону, – и если бы она знала, что вы женаты…
– Кто? – спросила Ричелдис.
– Наплели ей, что вы в разводе. Душещипательная история, да? Сказка, господин Лонгворт? А? Что скажете?
– Саймон! – воскликнула Ричелдис.
– Это какая-то ужасная ошибка.
– Совершенно верно – это ошибка. Это самая большая ошибка, которую человек только может совершить в жизни. – С этими словами Бернштейн подошел к Саймону и схватил его за лацканы пиджака.
Ричелдис слабо вскрикнула. Старик пробормотал:
– Был бы я помоложе…
– Ну, мы оба не молоды.
– Видите ли, миссис Лонгворт… Знаете, что он годится этой девушке в отцы?
– Саймон, тебе лучше все объяснить, – сказала Ричелдис.
– И вас еще называют «преподобием»! – презрительно прибавил Бернштейн.
– Но я не… – начал Саймон. Его лицо, на котором отразились облегчение и изумление, тут же приняло привычное напряженное выражение, поскольку его снова охватила досада, ставшая уже привычной по отношению к злополучному брату. – «Преподобие» – это мой брат.
– То есть вы не Бартл Лонгворт?
– Нет-нет, я Саймон Лонгворт.
Это окончательно сбило Бернштейна с толку. Он начал потерянно и сбивчиво бормотать слова извинения.
– Я прекрасно вас понимаю, – сказал Саймон с видом праведника. – И могу заверить, что если мой брат виновен в… том, о чем вы говорите, то мы сделаем все возможное, чтобы как-то исправить положение. Но вы уверены, что отец именно он?
– Я уже сказал вам, господин Лонгворт, Стефани хорошая, честная девушка. Не знаю, что вам еще сказать, просто не знаю. Надо же, угораздило меня прийти сюда вот так и обвинять. Говорила же моя старуха: «Ленни, ты выставишь себя дураком, обращаясь к людям, которых не знаешь». И вот…
– Это какая-то чудовищная ошибка! – горячо воскликнула Ричелдис. – Бартл… Я о том, что… Не хотите же вы серьезно сказать, что Бартл и ваша дочь…
– Моя племянница, мадам. Моя племянница Стефани. У нас с женой нет детей, а сестра жены и ее муж отошли в мир иной, когда Стефани было шесть с половиной лет. Она нам как родная дочь.
– Но не думаете же вы, что Бартл…
– Давайте спросим его самого, – сказал Саймон, и тут раздался звук поворачивающегося в двери ключа.
На лице Бартла еще сохранялось выражение сосредоточенной просветленности, которое появлялось у него всегда после исповеди. Он улыбнулся – не той, естественной и открытой, улыбкой, которая всегда была наготове для Стефани и Мадж, а грустно, не разжимая губ, глядя на собравшихся глазами больной собаки, – как улыбался здоровавшимся с ним прихожанам в дверях церкви.
– Привет, – поздоровался он как ни в чем не бывало. Увидев незнакомца (Рабочий? Водопроводчик? О Господи, неужели он не закрутил кран?), приветствовал Леонарда Бернштейна кивком головы.
– Это господин Бернштейн, Бартл, – сказала Ричелдис дрожащим голосом.
– Господин Ленни Бернштейн? – Натянутая улыбка превратилась в более искреннюю. – Дядя Стефани?
– Боюсь, Бартл, тебя ждут плохие новости, – сообщила Ричелдис.
– Она больна? Она не… – Невыразительное лицо Бартла приняло испуганное и встревоженное выражение.
Саймон процедил сквозь зубы:
– Вам лучше пройти в гостиную. Господин Бернштейн хочет тебе кое-что сказать. Мы будем на кухне, господин Бернштейн. Как я уже сказал, мы всецело вас поддерживаем и несем свою долю ответственности, как семья… – Он кипел от ярости. Как некстати все!
Бартл провел Бернштейна в гостиную и извинился за беспорядок. Он предложил гостю стул, но тот лишь злобно фыркнул в ответ. Бартл ожидал услышать все что угодно, только не то, что услышал. Он ошарашенно слушал старика, отказываясь верить своим ушам.
– Как я понял, вы не собираетесь отрицать, что ответственны за это, – сказал Бернштейн.
– Конечно, я готов помочь Стефани всем, что в моих силах.
– Я не об этом, господин Лонгворт. Вы что, еще ко всему прочему и иезуит?
– Нет, в нашей церкви нет иезуитов.
– Ближе к делу, мистер Лонгворт! Вы отрицаете, что вы отец ребенка Стеф?
– Я? А что говорит Стефани?
– При чем тут это?
– Я должен знать, – вспыхнул Бартл, и глаза его вспыхнули. – Она вам сказала, что я отец?
– Это личное дело нашей семьи.
– Нет! Это может быть нашим со Стефани личным делом, но это уж точно не забота исключительно ее дяди.
– Послушайте, господин Лонгворт.
– Я люблю Стефани! – Его лицо стало злым, гневным и скорбным. – Вы должны мне ответить. Она сказала, что я отец ребенка?
– Нет, не так прямо. Она ведь не скажет, кто отец, правда? Она вообще перестала с нами разговаривать, понимаете? Но насколько видим мы, я и ее тетя, у нее уже несколько лет не было серьезного друга, года три. Был один мужчина по имени Кевин, но Рей была против. Моя жена строгих правил, господин Лонгворт.
– Вы хотите сказать, что у Стефани вообще не было мужчин? – Это так обрадовало Бартла, что, несмотря на диковатую ситуацию, он расплылся в улыбке. – Так это же замечательно!
– Мы, конечно, знали, что вы с ней встречаетесь, она рассказывала, как вы ужинали в китайских ресторанчиках и о – как это? – «Добрых друзьях». Я человек широких взглядов, господин Лонгворт, мы с женой, конечно, огорчались, что ей, судя по всему, не нравятся еврейские юноши, но, как сказала мне Рейчел, так зовут мою жену, пусть она встречается со священником, чем с каким-нибудь проходимцем. А вы именно проходимцем и оказались! Вы понимаете, господин Лонгворт, мы вам доверили самое дорогое, что у нас было!!!
– Я понимаю.
Бартла насмешила мысль о том, что в семье Стефани он считался ее официальным женихом.
– Мы не виделись почти месяц.
– Это она говорила. «Опять к своим китайцам идешь?» – спрашиваю я ее. Знаете, господин Лонгворт, мы не любим выпытывать, и я никогда не спрашивал ее, с кем она встречается. Но мы с Рейчел обычно говорили: «Идешь в китайский?» и она говорила «Да». А тут все прекратилось. Действительно, около месяца уже.
– Мы часто неделями не видимся, – простодушно заметил Бартл.
– Каждую неделю, иногда дважды в неделю, как по часам, девушка с вами встречалась, и не говорите мне, что это не так, – свирепо продолжал Бернштейн.
Бартл знал, что это было не так, и мысль эта вновь наполнила его ревностью и уверенностью, что Стефани встречалась с другими, а дружбу с ним использовала в качестве прикрытия…
– …И вот проходит целый месяц, и она, кажется, совсем не ходит в китайский, и я ее спрашиваю, в чем же дело, и она в слезы, и отвечает, что она беременна и что не знает, что ей делать, и не хочет об этом говорить. «И что на это скажет господин Лонгворт?» – спрашивает Рейчел, потому что моя жена, господин Лонгворт, очень прямой человек, очень добрый, очень честный, и малышка Стефани еще больше плачет. «А, точно!» – говорю я Рейчел и тут же еду увидеться с господином Лонгвортом. Жена говорила: «Ты не сможешь его найти, ведь ты не знаешь, где он живет», но Стефани оставила в прихожей сумочку, и – надо так надо, господин Лонгворт, обстоятельства таковы. Ваш адрес мы нашли в ее ежедневничке.
– Он там был?
Луч света. Все-таки он ей был не совсем безразличен.
– Что вы полагаете делать, господин Лонгворт? Вы понимаете мое беспокойство?
– Конечно. Скажите, пожалуйста, Стефани… Попросите Стефани со мной связаться. Хорошо?
– Это все, что вы мне хотите сказать?
– Господин Бернштейн, вы бросаетесь слишком серьезными обвинениями, не имея на это никаких оснований.
– Если вы собираетесь тут размахивать законами, господин Лонгворт, то у меня найдутся хорошие адвокаты. Слышали вы об Оскаре Буслинке?
– Нет, – ответил Бартл. – Стефани двадцать шесть лет, она уже взрослая. Если она не хочет обсуждать свою жизнь с вами, то я тем более не хочу. Скажите ей, что я ей напишу. Пусть придет ко мне, если я понадоблюсь. Скажите, что я сделаю все-все-все, что она хочет, все, чтобы ей помочь. А теперь я хотел бы побыть один.
Бернштейна так удивила эта речь, что он поднялся и, повторяя, что «господин Лонгворт еще услышит…» и что «не только у господина Лонгворта есть адвокаты», скрылся за дверью.
Бартл был в панике. Он ничего не понимал. Кроме уверенности в том, что он не может быть отцом этого ребенка, в нем засела заноза обиды, что его обвели вокруг пальца.
Когда Ричелдис открыла дверь в гостиную, она застала Бартла сидящим на диване с красными и влажными глазами, с сигаретой в руке.
– Бартл, – проворковала она, – милый, надеюсь, с тобой все в порядке? Бартл, я хочу поговорить с тобой о Мадж. И о Рождестве.








