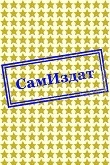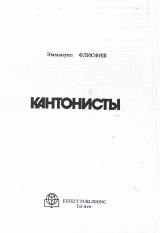
Текст книги "Кантонисты"
Автор книги: Эммануил Флисфиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Были среди беглых кантонистов и «непомнящие», которые при поимке упорно не называли своего имени и не говорили где скрывались и из какой школы бежали. При поимке их первым делом сажали в тюрьму, и от арестантов они научились сказываться непомнящими родства. Это были большей частью парнишки 14—15 лет. После некоторого пребывания в тюрьме, беглецов пересылали в ближайшую кантонистскую школу, где сейчас же приступали к избиению, и молодые беглецы во всем признавались. Бывало, что в свою школу обратно не отсылали, и после наказания зачисляли в новую школу.
Из расспросов таких новичков кантонисты узнавали где лучше, а лучше означало там, где наказывали березовыми розгами, которые не так жгли тело.
Иные кантонисты, вконец, отчаявшись, кончали жизнь самоубийством: давились, топились, вешались и находили много других способов уйти из жизни. Самоубийц было так много, что для них создавали даже особые кладбища в заброшенных, топких и болотистых местах.
ВЫПУСК В АРМИЮ. КАНТОНИСТЫ-МАСТЕРОВЫЕ.
В мае каждого года происходил выпуск в действительную службу тех, которым исполнилось 18 лет. Статные и красивые назначались в специальные полки и в саперы. Остальная масса, так называемая «дрянь» определялась куда попало. Наряду с чисто солдатской дрессировкой часть кантонистов готовили в мастера, обучая разным ремеслам. Портные, сапожники, кузнецы, каретники и т.п. пополняли полковые мастерские; фельдшерские ученики рассылались по военным лазаретам. Слабые здоровьем, неспособные к тяжелому физическому труду, назначались в писаря. Для этого надо было иметь красивый почерк и выдержать ничтожный экзамен. Получив звание писаря, их рассылали по военным учреждениям. Из среды кантонистов же вербовались писаря для канцелярий всевозможных министерств и департаментов. Эти жили привольно и имели привилегии: не знали военной дисциплины, не пересылались с места на место, а потому обзаводились хозяйством. Круг знакомства гражданских писарей составляли мелкие чиновники. Кроме жалованья были у них и побочные доходы от обывателей, имевших дела в канцеляриях. Писаря-ходатаи добывали деньги и мошенническим путем, а потому за ними установилась дурная слава. Вели они не совсем безупречный образ жизни.
Положение же кантонистов-писарей в полках и военных учреждениях было прескверное. Переписывать бумаги приходилось в тесных помещениях со спертым воздухом. Спали в комнатах, где работали, на полу, на столах или на сдвинутых стульях. Несмотря на запрещение заниматься частной перепиской, они, тайком, в часы, свободные от казенной службы и во время вечернего досуга, выполняли частную работу, что еще больше их изнуряло. Живя на скудные заработки, полковые писаря-кантонисты ходили обтрепанными, болели туберкулезом и умирали в госпиталях одинокие и без чьего-либо присмотра и сожаления.
Многие кантонисты к фронту не годились, и немаловажной тому причиной были истязания, часто калечившие их. Корявые и те, кого Бог обидел наружностью, вообще выполняли в школах грязные работы, таскали помои, мусор, прислуживали в бане; их же назначали в мастеровые команды. Обучение ремеслам происходило двояким образом: в казармах и путем отдачи в частные мастерские.
В Петербурге и Москве были ремесленные команды, в которых числились от 700 до 1000 учеников-кантонистов в каждой. Все кантонистские школы страны посылали туда неспособных к фронту. Но петербургская и московская ремесленные команды не могли принять всех, а потому назначенных в мастера отдавали по контрактам частным мастерам. Там их держали до исполнения кантонисту 18 лет и затем назначали в войска, дабы армия имела своих мастеров.
Уровень ремесленной подготовки был невысок. Продукция солдатских швален и мастерских была некачественная. Работали однообразно, по казенному шаблону, да и желания совершенствоваться не было: ведь в казармах работали на солдата, который не взыщет, не потребует ни красоты, ни изящества. Обучение ремеслам вне казармы было успешнее в городах, чем в провинциальной глуши и в деревнях, куда кантонисты также посылались на обучение. Хозяева-ремесленники использовали их для посторонних надобностей. Надлежащего надзора со стороны военного начальства не было и выходили они недостаточно обученными, без необходимой практической подготовки.
Обучавшиеся в городах кантонисты-мастеровые получали более солидные знания.
Несладка была жизнь «контрактных» у хозяев-мастеровых. Работу начинали в 6 утра, кончали в 9 вечера, а когда бывали экстренные заказы, засиживались и за полночь. Кормили плохо и недостаточно. В первые 2-3 года «контрактный» выполнял всю домашнюю работу в доме вплоть до укачивания хозяйского ребенка. Спали кантонисты на полу в мастерских, помещавшихся обычно в подвальных этажах. Тюфяком служил половик, концом которого и накрывались. В баню ходили редко, а из-за тесноты и грязи насекомые заедали. Зимой и летом они одевались в одинаковые лохмотья; белье висело на них лоскутами, сапоги – дырявые. Правда, кантонисты-мастеровые имели при себе форменные шинели, брюки, шапки, сапоги, но носить их запрещалось. Казенное имущество берегли для инспекторских смотров.
Выпуск в армию был большим событием в жизни школы и вызывал оживление, суматоху и радость. Еще больше волновались и тосковали те, кому еще суждено было оставаться в стенах школ несколько лет. Тяжела была для них разлука и они горячо завидовали своим уходящим товарищам.
А с уходящих, у кого были деньги, присланные родными и хранившиеся в заведении, высчитывали по рублю... за розги, которыми их же секли.
До отправки выпускников по местам назначения в городе совершался настоящий разбой. У кантонистов существовал издавна обычай расплачиваться с начальством на прощанье за все те муки, которым они их подвергали, и этот обычай исполнялся нерушимо.
Выпускники составляли отряды примерно человек по 20 в каждом; самые смелые возводились в атаманы. Вооружившись, кто чем мог, они прятались в тех местах, где лежал путь их «воспитателей». Лишь только выслеженный офицер приближался к месту, где притаились мстители, как раздавался свист. Выскочив из засады, они сбивали офицера с ног, оттаскивали зверя подальше от дороги, и пошло побоище. Устанут одни – их сменяют другие, затем третьи. Били смертным боем, куда попало. Били без пощады, без жалости. Начальство отлично знало об этом обычае и бывало начеку. Офицеры вечерами не рисковали ходить пешком, а ездили в каретах и на таких лошадях, которых нельзя было остановить, подвергаясь риску быть раздавленными. В квартирах своих начальников выпускники выбивали стекла, громили, разрушали все, что попадалось под руку.
Лишения, жизнь впроголодь, твердая воля выжить во что бы то ни стало, выработало у кантонистов непревзойденные в некотором роде качества. Были среди них знаменитости, которые никогда не попадались в воровстве. Однажды во время смотра в окрестностях Умани один из них, по кличке Цыбулька, умудрился украсть часы у генерала, производившего смотр. Были среди кантонистов и парни баснословной выносливости, когда их секли розгами. Сколько бы ни избивали, они не кричали и не просили о пощаде; истязаемый оставался нем, и когда экзекуция кончалась, спокойно одевался и занимал свое место в шеренгах, как будто с ним ничего и не случилось. Обычно же при сечении молили о пощаде и, не получая ее, начинали осыпать бранью мучителей, затем опять молили и так по многу раз.
Встречались среди кантонистов и большие таланты, с большими художественными дарованиями. Были музыканты, живописцы, ваятели из воска и хлеба и творили они без всяких инструментов. Начальство же, видя их работы, не поощряло и не обращало никакого внимания на самобытные таланты. Правда, таких умельцев начальство использовало, заставляя делать кое-что для себя.
УПРАЗДНЕНИЕ КАНТОНИСТСКИХ ШКОЛ. КРЫМСКАЯ ВОЙНА.
В 1856 году были упразднены кантонистские школы, солдатские дети освобождены от принадлежности к военному ведомству и прием малолетних рекрутов прекращен. 378 тысяч кантонистов, находившихся к тому времени в школах, были освобождены и возвращены их семьям. За время существования кантонистских школ, в них воспитывалось свыше 8 миллионов мальчиков.
В том же 1856 году закончилась Крымская война, продолжавшаяся три года. Десятки тысяч солдат, бывших кантонистов, приняли в ней участие. Многие из них погибли. О характере дисциплины в войсках того времени можно судить по словам офицера Г. Д. Щербачева, принявшего участие в Крымской войне.
Дисциплина в армии, рассказывает автор в своих воспоминаниях, мертвила душевные силы солдат. Она уничтожала чувство человеческого достоинства и дрессировала солдата как дрессируют животных для цирка. Палка была единственным орудием, а страх – единственным средством этой дрессировки.
Интеллектуальный уровень офицеров, их интересы были весьма ограничены. Недаром на торжестве по случаю выпуска офицеров в действующую армию, генерал напутствовал их словами: «Прошу вас, господа, выкинуть из головы премудрости, которым вас учили; помните, что голова вам дана для того, чтобы носить каску, а не для того, чтобы рассуждать». И офицеры не рассуждали. Занятые попойками и кутежами, они, зачастую, не знали в лицо солдат своих подразделений. Делая перекличку, офицеры называли фамилии наобум, какие им приходили в голову, а солдаты, чтобы не подвергать своих офицеров ответственности, по очереди отвечали «я», – какую бы фамилию ни называл офицер.
...Началась Крымская война, и с самого начала выяснилась вся порочность организации и устройства армии и бездарность главнокомандующих Меншикова и Горчакова. Нехватка боеприпасов, продовольствия, беспорядок в управлении и хищения чиновников были огромны. Вооружение армии было совершенно негодным и не соответствовало уровню развития военной техники. Запасы снарядов и патронов оказались недостаточными, причем военные заводы не в состоянии были обеспечить должное снабжение войск. А неспособность генералов на полях сражений! В штабе действующей армии царил такой хаос, что там не знали, где какой полк находится. Начальников частей не знакомили с планом сражения. Каждый полк шел в атаку и уходил с поля боя без всякой связи с действиями других полков. Были случаи, когда солдаты стреляли в своих же, приняв их за неприятеля. Войска не знали местности и, не имея точных указаний насчет передвижения, блуждали по полю, атаковали и преследовали неприятеля без всякого приказания, а затем, попав под сильный огонь неприятельских орудий, разбегались в разные стороны. Офицеров с ними не было и никто не знал, где они находятся.
Описывая в «Истории обороны Севастополя» Инкерманское сражение, генерал-адъютант Хрущев говорит, что во время боев допущены были большие беспорядки. Полки водились в атаку без определенных указаний и, будучи отброшены неприятелем, исчезали с поля сражения. Никто не заботился о том, чтобы собирать расстроенные части и снова ввести их в действие. Большая часть войска отступала не командами, а вразброд.
Наравне с беспорядками были и злоупотребления. За деньги офицеры получали при помощи писарей отпуска и награды.
«Вся система казнокрадства, лихоимства, всякого рода злоупотреблений, присущая государственному аппарату николаевской России, – пишет П. А. Зайончковский в своей книге «Военные реформы 1860—1870 годов в России», – в период войны приобрела характер массового организованного мародерства, что также значительно ухудшало положение войск. Такое состояние армии являлось отнюдь не результатом отдельных недостатков и ошибок, а следствием разложения феодально-крепостного строя в целом, и только национальные качества русского воина – его храбрость, стойкость и выносливость – предотвратили дальнейший успех англо-французских интервентов».
Что касается вооружения, то оно состояло из старых кремневых ружей, из которых многие были испорчены и не стреляли. Потери в людях происходили от разрыва своих же орудий, сделанных из плохого чугуна и не выдержавших частой стрельбы. Горько было видеть солдатам, как сотни человеческих жизней понапрасну приносились в жертву.
Особенный же беспорядок царил в управлении госпиталями. Не сотни, а тысячи раненых лежали в грязи под дождем около госпиталей, оглашая воздух раздирающими душу воплями и стонами. Не только коек в госпиталях и перевязочных материалов не хватало, – не было и санитаров для оказания помощи раненым. Их оставляли на поле боя и там они умирали.
«Для характеристики дореформенной армии, – продолжает далее П. А. Зайончковский, – необходимо отметить, что за 25 лет царствования Николая I умерло в армии от болезней (не считая умиравших от ран) 1.028.650 человек. Однако мрачная картина состояния дореформенной армии прикрывалась блестящими отчетами, создававшими впечатление о силе и могуществе вооруженных сил Российской империи».
Армия, для которой приносились в жертву столько молодых человеческих жизней, сражалась за честь старого режима. Со всех концов России шли полки на убой под дула артиллерии англичан и французов, умевших воевать без каторжной рекрутчины, без избиения младенцев-кантонистов.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЕВРЕИ В РОССИИ. ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
При Екатерине II к России были присоединены на Западе области с многочисленным еврейским населением. По указу 1772 года «О принятии под Российскую Державу от Польши провинций» евреи этих областей получили гражданские права наравне с русскими подданными, что дало им возможность записываться в сословия мещан и купцов. Из новоприсоединенных польско-литовских земель и Белоруссии евреи переезжали во внутренние губернии России. Там они стали опасными конкурентами для многочисленного сословия мелких купцов, в руках которых была торговая жизнь деревни. Сельские торгаши не хотели иметь конкурентов в лице евреев, а потому добивались их выселения из сел и деревень. Правительство, прислушиваясь к подобным требованиям, начинает относиться враждебно к своим новым подданным. Городское русское население по той же причине хлопотало об обратном: о выселении евреев из города. И это требование правительство считало обоснованным. Результатом домогательств коренного населения был закон, обнародованный в 1791 году. По новому закону евреи могли селиться и торговать лишь в особо указанных им губерниях и запрещено было проживать в тех местах, о которых в законе не сказано, что они могут служить для них местом постоянного жительства. Отсюда и пошла черта еврейской оседлости. Получилась Россия с евреями и Россия без евреев. В черту еврейской оседлости, помимо Царства Польского, вошли Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Екатеринославская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Таврическая, Херсонская и Черниговская губернии. Скученность евреев в этих губерниях, всевозможные ограничения в отношении деятельности создали среди них невообразимую нищету. Малейшая попытка вырваться из «черты» рассматривалась как тяжкое преступление. Евреи допускались во внутренние губернии России только временно, на строго определенное количество дней для торговых и связанных с этим судебных дел. Приезжая в Петербург, Москву, Киев и другие большие города, они обязаны были проживать только в специально отведенных для них подворьях. Выезжать из страны, эмигрировать не разрешалось, и еврейская масса задыхалась в отведенной ей «черте».
С течением времени, в царствование Николая I эта «черта» все больше суживается и по «Положению о евреях» 1835 года в черту еврейской оседлости входили уже только Литва и Юго-Западные губернии, Белоруссия без деревень; из украинских губерний – только Черниговская и Полтавская без казенных сел, Новороссийский край без городов Николаев и Севастополь, Киевская губерния без Киева, а в Прибалтийских губерниях могли проживать только старые поселенцы, новые туда не допускались. Вся трехмиллионная еврейская масса России ютилась в своем огромном большинстве в местечках. Было очень много местечек, в которых население состояло сплошь из евреев.
Начавшееся в первой половине прошлого столетия строительство железных дорог лишило евреев таких занятий, как извозничество, содержание постоялых дворов и почтовых станций. Сократились источники пропитания, но замкнутые в черте оседлости евреи не могли находить новые занятия взамен утраченных, а правовые ограничения и специальные сборы довершили процесс их экономического упадка.
Основным занятием еврея черты оседлости была торговля, в которой было много градаций: от именитого купца до мелкого лавочника. Чаще всего в лавке орудовала жена, а муж проводил свое время в синагоге за изучением талмудических трактатов.
Большинство «торгового класса» брало с боя каждый кусок хлеба, борьба за существование была невероятная. Каждая самая ничтожная отрасль торговли имела в каждом городке десятки конкурентов. Лавочек было – что звезд в небе. А весь товар в них, который можно было купить за 20—30 рублей, должен был кормить целое семейство.
Ступенью ниже на социальной лестнице стояли ремесленники. И в их быту нужда была велика, но они, вдобавок, были пасынками еврейского общества. Наиболее распространенными были профессии портного и сапожника, и эти же ремесла пользовались незавидной репутацией. Более привилегированное положение занимали те ремесленники, где, помимо рук, нужен был вкус, замысел и теоретические знания, как например, ювелиры, часовщики, слесари и т.п. А еще ниже стояли чернорабочие: водоносы, извозчики, прислуга разного рода.
Их дети прекращали свое обучение в еврейских школах, так называемых хедерах, в раннем возрасте и помогали отцу в работе. Ремесленники и чернорабочие не могли претендовать на положение в обществе, где человек ценился по количеству заученных богословских трактатов. Ремесленник – это неуч, а потому его не уважали, и самый мелкий торгаш ставил себя выше портного или сапожника. Такой взгляд на ремесло вырос не на почве пренебрежения физическим трудом, а был результатом теократического строя, на котором покоились все прочие основы еврейской жизни. Это обстоятельство было одной из причин невероятной нищеты еврейских масс в России. Типичная еврейская семья в черте оседлости жила в невозможных лачугах, одевалась в лохмотья, питалась, да и то не каждый день, самой дешевой селедкой, картошкой и хлебом и в количестве, еле достаточном для того, чтобы не умереть с голоду. Нужно было видеть тесные, почти развалившиеся лачуги, где полунагие ребятишки обитавших в них семейств теснились на нетопленых печках и дрались из-за рогожи, которой каждый из них хотел закутаться, чтобы как-нибудь согреться от холода. Нужно было видеть, когда отец семейства появлялся на пороге с буханкой хлеба и дети его с криком радости бросались с печи, овладевали хлебом, и, счастливые пускались в пляс. А сказки матерей! Убаюкивая голодного ребенка, они ему рассказывали о дожде из булок, упавших у самых дверей какого-то бедняка, о мешке с золой, превратившемся в мешок с крупой. Нужно было все это видеть и слышать, чтобы иметь представление о потрясающей нищете, царившей в черте еврейской оседлости. Таких семейств было не тысячи, а сотни тысяч.
Бичом еврейских местечек и городов были нищие, бродившие толпами с женами и детьми. Ежедневно, особенно в неурожайные годы, можно было видеть этих нищих, обходивших дома за подаянием. Власти на местах в своих донесениях высшему начальству неоднократно указывали на это явление. Губернские власти докладывали в Петербург о тяжелом экономическом положении местечковых жителей. Так например, Киевский и Подольский генерал-губернатор князь Васильчиков сообщал о невероятной конкуренции среди еврейских ремесленников. Лишенные средств к существованию, они превратились в бродяг, готовых на все, лишь бы добыть себе пропитание.
Но обратимся к отзывам официальных обследователей экономического положения евреев в Западном крае, к отзывам, лишенным всякого пристрастия. Вот что писал чиновник министерства внутренних дел Бобровский о положении в Гродненской губернии:
«Самая значительная часть евреев принадлежит к бедным. Постоянно нуждаясь, бедные евреи, вечно хлопочут о насущном куске хлеба. Отягченные многочисленными семействами, они живут в тесноте, превосходящей всякое воображение. Нередко дом в 3-4 комнаты вмещает до 12-ти семейств. Наружность этих домов самая плачевная. Неопрятность изнутри переходит на улицу. Достаточно обойти любой город, чтобы узнать те части его, которые заселены этими несчастными... Жизнь евреев этого класса проходит в горестях, лишениях и вечной суетливости... Стол бедного еврея более чем скуден; целые семейства иногда довольствуются фунтом хлеба, селедкой и несколькими луковицами. Одежда всегда изорванная, грязная... За 15 копеек еврей-фактор будет бегать целый день. Зловоние и миазмы, холод и сырость кладут печать на все существо еврея-бедняка и бывают причиной распространения эпидемий и смертности, доходящей до невероятных размеров. По привычке к нечистоте евреи страдают чесоткой. Все дети худосочны и золотушны. Золотуха у евреев часто обнаруживается в отвратительных язвах, струпьях и сыпях».
Говоря о городе Гродно, в котором в то время проживала восьмая часть евреев этой губернии, Бобровский отмечает, что в нем смертность исключительно велика. «Загляните в один из этих скученных грязных домиков, – говорит он, – готовых на ваших глазах обратиться в груду развалин и поглотить 15 душ мужского и женского пола, и вас поразит удушье, злокачественный воздух. Толпа полунагих ребятишек едва помещается в мрачно темной избенке, три четверти которой заняты печкой, кроватью и столом. Сколько искусства надобно еврею, чтоб снискать средства пропитания своим детям! Образ жизни евреев готовит обильную жатву для преждевременной смерти. Чахотка, удушье, нервная горячка, кровавый понос и геморрой находят среди них немало жертв.
От чахотки всего чаще умирают молодые евреи, желающие постигнуть тайну своей религии».
О положении в Белоруссии и Полесье находим у другого обследователя – Зеленского следующие строки:
«Половина, если не три четверти еврейского населения состоит из людей, которых можно было бы обвинить в торгашестве и факторстве, в тунеядстве и праздности, но не потому, чтобы качества эти происходили от лени и нерасположения к труду, а потому, что эти несчастные горемыки, думающие только о насущном куске хлеба, прозябают со дня на день, положительно не имея средств и возможности заняться производительным трудом.
Несчастные эти семейства (неоседлые мещане) не имеют ни кола, ни двора, живут в грязи и нищете, не зная при всей своей охоте к труду, как перебиться завтрашний день и по необходимости прибегают к разного рода предосудительным средствам, с единственной целью удовлетворить насущным потребностям».
В статистическом описании Киевской губернии о положении бердичевских евреев в сороковых годах у Фундуклея говорится:
«В Бердичеве нет городского благоустройства, что зависит от бедности и неопрятности его жителей. Здесь есть до 5 тысяч семейств (около половины еврейского населения города), живущих изо дня в день тем, что Бог пошлет. Помещаются они весьма тесно, часто по несколько семейств в одной или двух комнатах ветхой лачуги, так что ночью почти не остается свободного места между спящими. Многие из таких домов разделяются коридором на несколько квартир, в которых наниматели устраивают небольшие ручные заводы или мастерские, как то: воскобойные, свечные, кожевенные и прочие. Работают семьей и тут же помещаются среди вонючих материалов и изделий. Оттого целые улицы постоянно наполнены смрадным воздухом. Впрочем, этот быт свойствен всем бедным еврейским семействам не в одном только Бердичеве».
О том же Бердичеве писал в середине прошлого века корреспондент «Московских ведомостей»:
«В тех местах, где живет бедная часть еврейского населения, улицы не шире 1,5 саженей; на них с двух сторон обвалившиеся домики, один возле другого, у кого без крыши, у кого без окон, у кого без целой стены; на пространстве улицы перед домом десятки детей почти голых валяются в грязи».
Подобные описания об экономическом положении евреев мы находим в отчетах департамента внутренних дел Ковенской, Черниговской и других губерний Юго-Западного края. Повсюду беспросветная нужда и крайняя, ни с чем не сравнимая нищета.
Вот каким образом рисуют положение большинства евреев чиновники, занимавшиеся изучением на месте быта различных классов населения Западной и Южной России. И ни у кого из этих этнографов и статистиков не было, конечно, задней мысли выступить защитником еврейских интересов. Наоборот, все они относятся более или менее неприязненно к еврейской массе и не упускают случая указать на ее отрицательные стороны. И если они изображают такими мрачными красками судьбу этой массы, то только потому, что они, эти чиновники, еще не созрели до той степени ложного патриотизма, когда позволяют себе представить действительность в превратном и извращенном виде.
Вдобавок ко всему периодически повторявшиеся в середине прошлого века погромы в большом числе городов и местечек также содействовали окончательному разорению еврейских масс.
КАГАЛ. МЕСТЕЧКИ.
В середине 16-го века в Польше и Литве скопились большие массы евреев после того, что они были изгнаны из Германии. На новых местах пришельцы объединились в общины, которые получили право внутреннего самоуправления. Взамен полученной автономии общины были ответственны перед государственной властью в податном и налоговом отношении. Эти обстоятельства кладут основу и являются причиной кагальной организации евреев. С течением времени и под владычеством польской шляхты обособленность и отчужденность евреев от коренного населения еще больше усиливается.
В конце 18-го века вместе с полученными от Польши и Литвы новыми областями Россия получает и многочисленное еврейское население. Если раньше правительство выселяло за границу тех из своих немногочисленных евреев, которые не желали принять православие, то после присоединения новых областей выселять сотни тысяч за границу стало невозможным. Оставив своих новых подданных на местах, русское государство оставляет нетронутой и кагальную организацию, не желая иметь дело с отдельными личностями. Личность не получает самостоятельного значения, а является составной частью кагала, который и становится гражданским юридическим лицом. Кагал – плательщик налогов, и государство не интересуется, уклоняется ли отдельное лицо от повинностей. Оно не интересуется и относительно мер, которые кагал принимает для выполнения наложенных на него повинностей и платежей. Неисполнение правительственных требований влекло за собой ответственность кагала в целом в лице его представителей. Впрочем, кагал не был специально еврейской особенностью. В то время все русское общество состояло из корпораций, и дворяне, духовенство, мещане имели свои особые органы самоуправления. Но кагал отличался от других органов самоуправления тем, что имел власть над бытовой жизнью евреев.
Во главе каждого кагала стояла коллегия от 5 до 40 человек, в зависимости от количества членов общины. Каждые три года руководители его переизбирались и утверждались губернским правлением. Во главе коллегии стояли старшины, так называемые «парнесы», из которых самыми влиятельными были четверо, чередовавшиеся ежемесячно. Такая четверка парнесов была полновластным правителем кагала. Остальные же члены коллегии входили в комиссии, выполняя разные обязанности: заведовали благотворительным делом, предоставляли нужные сведения о кагале для городских властей, занимались раскладкой податей, издавали правила относительно торговли и ремесел, распространяя свой надзор и власть на все проявления жизни общины и частных лиц. Кагал разбирал судебные дела, религиозные, гражданские и в некоторых случаях – даже уголовные. Впрочем, религиозно-нравственные порядки велись как бы сами собой в силу твердо установленных обычаев. Все силы кагала были направлены на выполнение обязанностей фискального и административного характера. Кагал вел книги народонаселения, так называемые «ревизские сказки», выдавал паспорта, и без его разрешения еврей не мог переселяться или даже временно отлучаться со своего постоянного местожительства. Сделав раскладку, кагал вносил общую сумму налога в казну. Каждый кагал выделял из своей среды поверенных, то есть представителей, имевших контакт с властью. Поверенные знакомили губернскую и уездную власть с положением дел и ходатайствовали перед ними по тем или иным общинным делам.
Имея обязанности перед властью, кагал получил право распоряжаться невежественной массой, и чем строже была его ответственность, тем больше он проявлял свой произвол по отношению к бесправным своим членам. Кагал тщательно ограждал народ от умственных веяний извне, совершенно обезличил и лишил его свободы во имя неприкосновенности религиозно-бытовых порядков. Произвол же кагала при взыскании податей для государства и сборов для покрытия общинных расходов вызывал неприязненное к нему отношение со стороны рядовых членов общины. Власть кагальных мироедов и «благодетелей» не знала границ. Имея на своей стороне задобренное начальство и поддержку зависящих от них раввинов и клера («клей-кодеш»), они не только ворочали общественными делами по своему усмотрению, но и властвовали над совестью, помыслами и личными делами своих беспомощных, запуганных собратьев. Горе тому, кто восстановил против себя кагальных заправил! Гнев последних грозил рекрутчиной, разорением и многими другими карами.
Виленский губернатор Фризель в своем донесении правительству писал: «Старшины кагала столько взяли власти и такое возымели влияние над простым их народом, что они принуждены к покорности без роптания и в глубочайшем молчании нести их тяжкие налоги, обращаемые старшинами в свою лишь пользу». Фризель предложил реформу еврейского быта, чтобы «уничтожить кагалы, а с ними и тысячи несправедливостей».
Державин, посетивший Белоруссию в начале 19-го века, писал «Бедная их чернь (евреев) находится в крайнем изнурении и нищете. Напротив, кагальные богаты и живут в изобилии. Управляя властью, в руках их утвержденной, имеют великую силу над их народом. Сим средством содержат они его в великом порабощении и страхе».
И Державин, и губернатор Фризель, напуганные суровой властью кагала над невежественной массой, настаивали на его уничтожении, видя в кагале силу, будто бы опасную и для государства. Неблагоприятны отзывы о кагальных руководителях встречаются и у еврейских авторов. Они говорят о кагальных заведующих податями, которые тайно и открыто набивают свои карманы. Кагальные верховоды были подкупны, жадны, жестоки. Особенная же ненависть к кагалу стала проявляться, когда после введения натуральной рекрутской повинности его руководители еще неумолимее стали злоупотреблять своей властью.