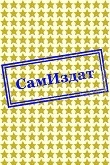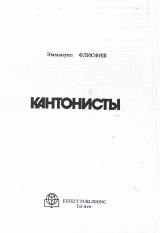
Текст книги "Кантонисты"
Автор книги: Эммануил Флисфиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
В том же батальоне служил и другой иркутский старожил Яков Моисеевич Перцель. Вот и его рассказ.
– Я и сам не знаю, каким образом я остался в живых. При одном воспоминании о прошлом я вновь переживаю весь этот кошмар. Меня пороли; пороли за то, что я без спросу убежал в город к единоверцам. Пороли за какую-то детскую шалость, борьбу с товарищем из-за ножика. Когда мне предстояла третья порка, я не выдержал, наконец, и сказал, что хочу креститься. Это немного облегчило нашу жизнь. Тогда был обычай, что согласившимся креститься давали новые имена. Меня нарекли Александром, но, как видите, я остался Яковом. Я и сам не знаю, что так пламенно удерживало меня в еврействе: национальный инстинкт, слезы матери, молившей меня, восьмилетнего мальчика, остаться евреем, или естественное упорство, противодействие тем, которых я не мог не считать своими врагами... Я согласился креститься, но от горя заболел, и меня поместили в больницу. Вскоре пришел меня навестить наш кантонистский батюшка, отец Александр. Принес мне гостинцев. Увидев его, я страшно разволновался... Сейчас, сейчас меня окрестят, и все будет кончено... Я припал к груди отца Александра и горько рыдал. Добрый священник искренне меня утешал, говорил о той радости, которая ждет меня после крещения.
– А вы, отец Александр, сильно плакали бы, если бы ваш сын перешел в еврейство? – спросил я сквозь слезы.
– Что ты, дитя– мое, Господь с тобой! Конечно, плакал бы.
– Но ведь и моя мать горько будет плакать, когда узнает, что я крестился. – И я еще горше заплакал.
Не знаю, что подействовало на отца Александра – мой наивный вопрос, оказавшийся в то же время, помимо моего сознания, столь коварным, или мои слезы, слезы больного ребенка, но отец Александр поспешно ушел из больницы. Меня никто не тревожил и тогда, когда я вновь перешел в казарму.
С того времени отец Александр, который вообще слыл добрым человеком, больше никогда не появлялся у нас. Вскоре институт кантонистов был расформирован. Моей заветной мечтой было еще хоть один раз увидеть этого доброго пастора. И когда я материально немного устроился, то отправился в Омск, но отец Александр как в воду канул. И мне так и не пришлось увидеть доброго священника, свидетеля моих страданий.
Яков Григорьевич Ерманович родился в селении Екимовском возле Иркутска в 1828 году. Как сына ссыльнопоселенца, его взяли в кантонисты в 1844 году, определили в Иркутский полубатальон военных кантонистов 5-й учебной бригады, служил в армии и получил отставку лишь в 1862 году.
В кантонистской школе ему пришлось изведать весь ужас положения малолетнего еврейского рекрута. Начальство, вскоре по поступлению его в школу, предложило ему «креститься», то есть принять православие. В противном случае, он это знал, ему придется терпеть непрерывную пытку. Ерманович отказался переменить веру. И вот однажды его заставили проделать следующее: положили в мешок от тюфяка, привязали веревку и спустили со второго этажа казармы по лестнице до середины, а потом по ступеням стали тащить мешок вверх и таким образом его изувечили настолько, что после этого он пролежал в лазарете около полугода.
Яков Ерманович был из «упрямых». Три его брата, тоже кантонисты, в разное время приняли православие, и так как он упорствовал, то на его долю выпало немало мук. Однажды, когда его стригли, цирюльник сознательно сделал ему на голове ножницами семнадцать ран.
Ермановича и одного из его товарищей Лейбу Сауду, числившегося в другой роте, начальство избрало как бы представителями еврейских кантонистов от обеих рот. Начальство полагало, что если они, Ерманович и Сауда, примут православие, то и остальные евреи двух рот последуют их примеру. Обоих посылали несколько раз на увещание к тогдашнему иркутскому архиерею Нилу, но его уговоры не помогали: юные «еретики» упорствовали в своей «слепоте».
Однажды после бесплодного увещания архиерея их в наказание отвели на колокольню церкви. Было это в холодный октябрьский день. О мальчиках как будто совершенно «забыли», и они оставались там с вечера до 6 часов утра в тонких шинелишках. Морозы были уже, по сибирскому климату, довольно сильные. Всю ночь кантонисты отогревались, прижимаясь друг к другу, чем и спасли себя от смерти. На другой день, когда архиерейский служитель случайно заметил утром мальчиков, он ужаснулся, отвел их к себе в комнату при кухне, уложил на постель, отогревал и отпаивал горячим чаем.
Ерманович отморозил себе пальцы ног, а Сауда остался невредим, и этим кончились их злоключения. Мальчиков отвели потом к ректору семинарии Петухову.
– Этот был, – чуть не со слезами на глазах рассказывал Яков Григорьевич, – настоящий патриарх Авраам, с длинной бородой, добрый.
– Ну, дети, кто вы такие будете? – спрашивал он нас.
– Мы – евреи.
– Хотите креститься?
– Нет! Мы желаем остаться евреями, такими, как наши отцы и деды.
– Ну, дети, так и поступайте впредь, оставайтесь навсегда евреями, и Бог Израилев да будет вам в помощь.
Родителям запрещалось не только навещать школы, чтобы видеться со своими детьми, но нельзя было даже заговаривать с ними.
Однажды Ерманович увидел на улице возле ротной казармы свою мать, проходившую мимо. Взволнованный, он невольно воскликнул: «мама»! Она остановилась и заговорила с ним по-еврейски издали. Военное начальство заметило это и «преступную» мать задержали, отвели в полицейскую часть и заставили в течение четырех дней мыть полы в казенных помещениях.
Вот как сильно начальство боялось влияния родителей-евреев на их злосчастных детей – кантонистов.
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРАВОСЛАВИЯ. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗА ОБРАТНЫЙ ПЕРЕХОД В ИУДЕЙСТВО.
Бывали случаи, когда крещеные кантонисты становились ревностными христианами. Не менее было также случаев, когда насильственно крещеные продолжали оставаться втайне верными религии своих отцов и впоследствии, освободившись от военной службы, при первой возможности переходили обратно в еврейство.
Надо было полагать, что с принятием святого крещения будет стерта грань между новообращенными христианами и русскими мальчиками. Но этого не случилось. Крещеный еврейский мальчик при ссоре с товарищами, рожденными в православии, продолжал выслушивать обычное ругательство – «жид пархатый», к которому иногда прибавлялось и «жид крещеный, что волк кормленый». За это оскорбление дрались и жаловались начальству. Молодые сердца не могли переносить такого оскорбления. Им больно было слышать ругательства от тех, с которыми они вместе ходили в церковь к исповеди, вместе принимали причастие. Оскорбления запечатлелись в молодых чувствительных душах и имели последствия: многие дали себе слово не считаться ни с какими карами и вернуться в еврейство. Это и повлекло за собою в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия ряд судебных процессов.
Илью Ицковича ловцы схватили на улице города Полоцка Витебской губернии в 1853 году, когда ему было двенадцать лет, и отправили в кантонистскую школу Архангельска, где его насильно крестили. Когда несколько лет спустя кантонистские заведения были расформированы, его с несколькими товарищами отправили в Москву. Там Ицковича определили в гренадерскую артиллерийскую бригаду и произвели в унтер-офицеры. В 1872 году, по получении бессрочного отпуска, он уехал на родину в город Дисну в поисках своих родителей. В это время Ицкович заявил официально, что не желает числиться православным, так как насильственно был крещен. Начальство переполошилось, ему стали угрожать судом, лишением прав и чуть ли не расстрелом.
Тогда Ицкович подал докладную записку, где подробно описал, как с ним, двенадцатилетним мальчиком, поступили жестоко, а прослужив честно и добросовестно 20 лет, ни в чем предосудительном замечен не был. Далее Ицкович писал, что если начальство могло мучить детей и своей властью при насильственном крещении давать им вымышленные имена, то теперь нельзя воспретить ходатайствовать о возвращении ему насильственно отнятого имени.
Воинский начальник старался усовестить Ицковича, но когда тот категорически заявил, что больше не хочет обманывать Бога и людей и в дальнейшем на исповеди не будет ходить, его докладной записке дали ход.
К этому времени Ицкович переехал в Иркутск, где, как ему стало известно, проживал его отец. Спустя некоторое время получилось предписание командующего войсками Западной Сибири следующего содержания: «Совратившегося из православия унтер-офицера Ицковича отдать на увещание священника и, если он останется нераскаявшимся, то, не преследуя его за вероотступничество, перевести в другую часть войск». Конечно, священник из кожи лез, но сделать ничего не мог.
Как бессрочно отпускной Ицкович должен был прослужить еще некоторое время для получения чистой отставки, что он и сделал. Во время дослужения Ицкович стал ходатайствовать о переходе в еврейство и добился своего.
А вот отчет судебной хроники о деле рядового Якова Терентьева, совращенного в иудейство. Это дело слушалось 21 апреля 1881 года в Петербургском окружном суде, оно было возбуждено духовной Консисторией.
Обвиняемый Я. Терентьев, еврейское имя которого Лейба Оралович Либер, показал, что был крещен в православную веру против своего желания в 1847 году в возрасте 17 лет, когда находился в кантонистской школе города Казани. По требованию начальства, он исполнял обряды православной церкви, но никогда в душе и по совести не был православным. По выходе в отставку, заботясь о спасении своей души, он открыто возвратился к вере своих отцов и более не желает принадлежать к христианской церкви. Свидетель Попер знал обвиняемого как православного, но с 1870 года стал встречать его в еврейской молельне. То же самое подтвердил и другой свидетель – Байдер.
Во время дознания по этому делу Терентьева вызывали в духовную Консисторию и к местному священнику на увещания, но тот остался непреклонным в своем решении. На суде обвиняемый признал себя виновным в отпадении от православия. В Казани, говорил обвиняемый, не было возможности оставаться евреем ни одному кантонисту. Бригадный командир говорил, что пока он будет во главе школы, он никому не позволит оставаться евреем. Для достижения этой цели кантонистов притесняли на разный манер. В течение многих дней посылали на самые изнурительные работы, а по ночам им читали духовные книги и не давали спать, пока те не соглашались принять православие. Став же христианином против своей воли, он, Терентьев, исполнял обряды, боясь преследования начальства. Женился на русской в 1862 году и был венчан в церкви Петербургского училища военного ведомства. При этом обвиняемый заявил, что женился, не желая вести блудную жизнь. Теперь он не знает, где его жена. Расстался с нею давно вследствие ее дурного поведения.
Увещания священника Исаакиевского собора ни к чему не привели.
Свидетель защиты Сендаков показал, что также находился в казанском батальоне, где было очень много евреев. Их пригоняли туда тысячами и принуждали креститься разными манерами. Доходило до того, что они били друг друга, принуждая креститься упорствующих, и поступали они так для успокоения своей совести. «Если бы кто-нибудь покинул батальон некрещеным, – продолжал свидетель, – эго действовало бы удручающе на принявших православие. Все били друг друга говоря: ты должен поступить так же, как и я». На вопрос председателя суда свидетель признался, что и он бил других, чтобы те не остались в иудействе.
Суд по выслушании заключения прокурора и защиты постановил считать Терентьева по суду оправданным.
В 1869 году в Московском окружном суде рассматривалось дело отставного рядового Ивана Кацмана, обвиненного в отпадении от православия.
О Кацмане полиция сообщила духовной Консистории, а та передала дело прокурору. На поставленные судом вопросы Кацман сообщил следующее. «Мне 28 лет. В православную веру меня совратили насильно, против моего желания. Мне было тогда 11 лет. Церковь с тех пор я не посещал и обрядов не выполнял, оставаясь в душе евреем. В кантонистской школе, хотя я и был крещен, держался ближе к еврейским мальчикам. После четырех лет пребывания в школе, меня перевели в Москву, в мастерскую команду. Теперь живу в Зарядьи и работаю цирюльником».
Прокурор Рынкевич, указав на обстоятельства дела и сообщения подсудимого, объяснил, что Кацман был окрещен, когда ему было 11 лет, то есть в таком возрасте, когда он еще не мог знать различия и оказать предпочтение одной религии перед другой. Но коль скоро уже он был окрещен, то, как кантонист, должен был посещать церковь и, конечно же, посещал ее. И затем, спустя много времени, он совратился из православия и совратился добровольно, а потому подсудимый должен быть осужден по суду, его имущество надо взять под опеку, самого же Кацмана препроводить к духовному начальству для увещания и исправления. Суд, однако, нашел Кацмана невиновным.
Из всех процессов об отпадении от православия и обратного перехода в иудейство, особенно громкий отклик получило дело Айзенберга. На нем раскрылись во всех подробностях условия, в которые были поставлены еврейские мальчики, попавшие на военную службу. Об этом процессе писали все газеты в России, на него обратила внимание печать зарубежных государств.
Дело Айзенберга возникло в связи с подделкой билета на жительство, но обстоятельства и мотивы, вызвавшие его, имели глубокое значение. На суде рассказ подсудимого о подделке вида на жительство неожиданно раскрыл общественному мнению всю правду о страданиях и кровавых истязаниях в кантонистских школах.
Обстоятельства этого процесса следующие.
2 июля 1879 года полиция задержала в Петербурге отставного рядового Мовшу Айзенберга, ввиду возникшего сомнения в подлинности свидетельства о его отставке. Свидетельство обвиняемый получил будто бы от петербургского воинского начальника, по которому и проживал в городе. На следствии Айзенберг показал, что он бывший кантонист-еврей. В возрасте 11-ти лет его принудили перейти в православие, и при крещении был он назван Алексеем Антоновым. Под этим именем он числился на военной службе и на это же имя в 1874 году получил от петербургского воинского начальника приказ об отставке. Но Айзенберг не желал исповедовать православную веру и, вдобавок, имел намерение жениться на еврейке, что христианину было запрещено. Поэтому он, взамен подлинного приказа об отставке, приобрел дубликат, в котором уже значился евреем и назван своим прежним еврейским именем. Дубликат, как и оттиск печати на нем, подделал какой-то писарь. По наведенным справкам выяснилось, что, действительно, в 1874 году петербургским воинским начальником была выдана справка об отставке рядового Архангельского губернского батальона, но не на имя Мовши Шлемовича Айзенберга, иудейского вероисповедания, а на имя Алексея Антонова. Факт подделки был установлен. Айзенберг признался в подлоге, но заявил также, что сам хотел судиться, потому что не по своему желанию был окрещен и назван Алексеем Антоновым. «Я, – говорил обвиняемый, – родился евреем, всегда был им в своем сердце и хочу остаться таковым до гроба. Когда я вышел в отставку, то хотел уехать в свою сторону, но меня не отпустили и я остался здесь. Мой знакомый сказал, что можно жить и по подлогу, и я согласился»...
Продолжая в своих показаниях рассказывать о своей прошлой жизни, Айзенберг продолжал: «Нас пригнали из Кронштадта целую партию и, не перекликая по имени и званию, загнали в тесную комнату, начали бить без всякой милости, потом на другой и на третий день повторяли то же самое. Не было сил выдержать. Потом нас загоняли в жарко натопленную баню, поддавали пару и с розгами стояли над нами, принуждая креститься, так что после этого мы невольно должны были сдаться».
Рассказывая о годах, проведенных в кантонистской школе, Айзенберг в подробностях нарисовал картину беспрерывной пытки, нечеловеческих страданий еврейских мальчиков.
Прокурор окружного суда Матусевич, поддерживал обвинение, указывая, что подобные Айзенберги переменой религии преследуют свои личные и служебные выгоды, а когда это становится ненужным, то готовы отказаться от своих убеждений.
Защитник Розинг после подробного исторического обзора борьбы еврейства за сохранение своей веры от христианских исповеданий, остановился на «выгодах», какие мог преследовать подсудимый, стремясь выйти из положения полноправного гражданина-православного на положение еврея, ограниченного во многих отношениях. Такие «выгоды» могли представиться лишь в виде ограничений в правах службы, стеснения свободы передвижения, свободы избрания места постоянного жительства и прочее.
Присяжные заседатели на предложенный им вопрос о виновности Айзенберга в преступлении, на него возведенном, дали отрицательный ответ. Суд объявил подсудимого оправданным.
Многочисленная публика, присутствовавшая на суде, встретила вердикт аплодисментами.
Об этом процессе писали все газеты того времени.
Газета «Голос», излагая его, в частности писала: «Дело это принадлежит к числу таких, которым суждено разоблачать старые грехи, как бы в назидание молодому поколению».
Газета «Молва» в своем еженедельном обозрении писала по этому поводу следующее:
«В то время, когда в столичных театрах привлекает общее внимание драма «Уриель Акоста», героем которой является жертва религиозной нетерпимости, на скамье подсудимых петербургского суда появляется неожиданно современный тип Акосты. Конечно, он микроскопичнее своего предшественника во всех отношениях, но ведь и не в средние же века мы живем. Айзенберг, будучи еще кантонистом, 11-ти лет от роду был окрещен военными ревнителями православия. 27 лет его заставляли поклоняться, молиться тому, что он ненавидел всеми фибрами своей души, ненавидел именно потому, что оно было ему насильно навязано. Он отслужил свою службу в войсках с 1851 по 1874 год. По объяснению подсудимого его тревожило неотвязчивое весьма понятное желание умереть в той вере, в которой он родился. Насильственное крещение играли, вероятно, немаловажную роль, к этому присоединилась еще любовь. Он захотел жениться на еврейке, что недозволено православному. Недозволено не только рожденному в православии, но и «обращенному». Выход из положения Айзенберг нашел в подделке вида на жительство. За это-то преступление он и предан был суду. Хорошо еще, что не за «совращение в иудейство».
Что же сказало по этому делу «Новое время», столь чуткое ко всему «жидовскому»? Оно не нашлось сказать ничего своего по этому поводу и ограничилось лишь воспроизведением следующей заметки из официозных «Санкт-Петербургских Ведомостей».
«На суде, в присутствии массы свидетелей подсудимый уверял, что его окрестили насильственно, что перед этим его истязали и пытали, заставляя принять православие, и делали это не только с ним, но и со всеми молодыми евреями, бывшими его сотоварищами. Ни судья, ни прокурор не остановили этой лжи и этого лжесвидетельства, хотя они не имели никакого отношения к фальшивому паспорту, который подделал Айзенберг.
Во имя чести русского государства нельзя оставить этого показания без расследования. Оно облетит Европу, и нарекание на русское имя в нетерпимости к свободе совести будет столько же сильно, сколько несправедливо. Судя по тому, что подсудимый получил полную отставку в 1874 году, он был в батальоне военных кантонистов около 1850 года. Теперь живы еще почти все начальствовавшие тогда в учебных заведениях, и их дело оправдать себя, если они правы. Во всяком случае, оставить это дело без горячего расследования, значило бы оставить на русском имени пятно нетерпимости, с которым не может жить европейское государство».
Неужели для «патриотов» из антисемитских газет все это было так ново и они это услышали в первый раз? Они нашли возможным накинуться на суд за то, что он позволил подсудимому рассказать немногое из того, что он и десятки тысяч других еврейских мальчиков пережили. Да стоило им только расспросить любого отставного солдата из евреев и не евреев, начавших свою службу в 50-х годах! Подсудимый не догадался сослаться на них потому, конечно, что ему и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь усомнился в его рассказе...
Оправдательный вердикт присяжных в таком преступлении, как подлог и подделка билета на жительство, немыслим с точки зрения строгих юристов. Тем не менее этот оправдательный вердикт доказал, что суд присяжных – суд народной совести. Оправдав Айзенберга, он осудил нечеловеческую систему кантонистских заведений, рассадников насильственных крещений.
РЕФОРМА ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. «НИКОЛАЕВСКИЕ СОЛДАТЫ».
19 февраля 1855 года жестокий царь сошел в могилу. Реформы наследника Николая I – Александра II не могли не коснуться и еврейской жизни. Комитет по еврейским делам обратил внимание царя на необходимость преобразования еврейской рекрутчины с ее ужасами: ловлей малолетних и отдачей их в кантонисты, штрафниками и пойманниками.
В этом отношении были сделаны изменения, и в первую очередь отменен прием малолетних рекрутов. Тем самым отпала забота о спасении душ малолетних, потому что прекратились огульные крещения. Вывелось из практики награждение выкреста премией в 25 рублей. Это было хорошо и в другом отношении. Был положен конец проделкам некоторых плутов, повторявших над собой крещение помногу раз в разных местах.
Спустя некоторое время последовал указ об освобождении воспитанников всех кантонистских школ, имевшихся в России. Это, однако, касалось только русских солдатских детей, но еврейские кантонисты освобождению не подлежали. Те из них, которые достигли к тому времени 18 лет, зачислялись в войска и отправлялись в центральные губернии страны. Относительно других, не достигших этого возраста, в указе об освобождении кантонистов было оговорено, что обращенные в православие еврейские мальчики не возвращаются в свои семьи, а должны быть отданы на попечение православным.
Другим указом были отменены прием штрафников за недоимку рекрутов и представление пойманников. Отныне евреи должны были приниматься в солдаты на тех же условиях, какие были определены для коренного населения.
Таким образом, был положен конец рекрутской инквизиции, длившейся 29 лет и составляющей страшный период в истории русских евреев. И тем не менее новый общий указ о воинской повинности предвидел некоторые ограничения в отношении евреев.
Пройдя через муки кантонистских школ, юноши служили в армии в течение 25 лет. После их выхода в отставку образовался класс людей, так называемых «николаевских солдат». Это были люди малоразвитые, грубые, забывшие родство, оторванные от своей народности и не приставшие к другой. Отставки первых «николаевских солдат» происходили, к счастью для них, уже в царствование Александра II. Несмотря на долголетнюю службу, законодательство Николая I отказывало этим отставникам в праве селиться там, где они несли военную службу, то есть вне черты еврейской оседлости.
Переход от службы к отставке не был связан с резкой переменой в жизни солдата. Получив при Александре II право оставаться на месте, где он служил, отставной «николаевский солдат» еще до того, что он покидал навсегда казарму, готовил себе занятие. В большинстве случаев он избирал какое-нибудь ремесло.
В то время внутренние губернии испытывали нужду в ремесленниках. Еще в сороковых годах по указу Николая I были отобраны крестьяне у однодворцев. Поместные дворяне сообразили, что крепостному праву рано или поздно придет конец. Поэтому они перестали заводить своих портных, сапожников и тому подобных мастеровых. Крепостные ремесленники стали в редкость и в скором времени в них ощутилась большая нехватка. Единственным мастером на селе остался грубый кузнец, который едва умел сварить сломанный лемех у мужицкой сохи. Для починки любой вещи, начиная от остановившихся часов и поломанного ключа или носильного платья и обуви, надо было отправляться в губернский город, отстоящий иногда на сотню верст от деревни, где жил помещик. Все это делало жизнь дворян крайне неудобной. Отставники, прослышав о создавшемся положении, сообразили, что это сулит им известную выгоду. Они стали появляться в помещичьих деревнях с предложением своих услуг. Шло это таким образом: еврей-купец, торговавший «вразвоз», узнавал, что сельским господам нужны мастера. Тогда он брал с собой своих единоверцев портных, сапожников, слесарей и т.п. Один торговал, другие «работали починки». Круглый год они совершали планомерный объезд городов и деревень Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской и других великорусских губерний. «Знакомые господа» были им рады и часто с нетерпением ждали их к себе. Создав где-нибудь в чулане свою передвижную мастерскую, Хаимы, Мееры начинали мастерить. Брались они за все, что хоть как-нибудь подходило под их специальность. Чинили тяжелый замок от амбара и исправляли дамский веер, выводили пятна с сюртука жирно пообедавшего барина и штопали тонкую ткань протершейся турецкой шали.
Едва еврей мастеровой успевал окончить работу в одном месте, как его уже тащили в другое и потом в третье место, где он тоже был нужен. К тому же эти мастера на все руки брали за работу гораздо дешевле губернских мастеров. Русское население вообще охотно пользовалось услугами еврейских ремесленников. Оно ценило их за трезвый образ жизни и серьезное отношение к своему делу.
Помимо ремесленников, из солдат образовалась и другая многочисленная группа, которая ничему не научившись ни до, ни во время действительной службы, взялась за торговлю. Толкучка и мелкий разносной или развозной торг были их сферой деятельности. Для «николаевских солдат» вообще не существовало приличных и неприличных занятий. Принадлежа по своему происхождению к низшим слоям еврейской массы и проведя затем добрую половину своей жизни в казарме, где они воспитывались на понятиях этой грубой среды, отставники мало задумывались над темными для них вопросами нравственности и не обращали внимания на общественное мнение.
Мало-помалу странствующие ремесленники и торговцы оседали на местах, приписываясь к мещанскому сословию городов. Поскольку в больших городах приписка была сопряжена с расходами, некоторые стали селиться в более мелких городах и деревнях. Меньшая часть отставников пошла назад в «места свей прежней оседлости». Ассимилировавшись в некоторой степени, нарушив по необходимости религиозные праздники, святость субботнего отдыха и вкусив «трефную» пищу, они опасались враждебного отношения со стороны ортодоксальных единоверцев «черты», но тяга к местам, где проходила их юность, брала верх.
Таким образом во внутренних губерниях России впервые появляется местное оседлое еврейское население, не знавшее к тому же катальной системы. Рекрутчина в известной степени уничтожила еврейскую «изолированность» и «обособленность», и в этом отношении цель Николая I была достигнута.
К концу своей службы, когда связь с казармой ослабевала и стали одолевать мысли об устройстве своего будущего, наступало влечение к семейной жизни. Спрос, как известно, вызывает предложение, а поэтому в черте оседлости предприимчивые люди создали промысел невестами, доставляя их «николаевским солдатам». Организовав транспорт невест, сваты пускались с ними по внутренним городам и селам России.
С течением времени выросло новое поколение «солдатских детей». И хотя они родились и выросли вне «черты», эти дети в царствование Николая I могли оставаться со своими родителями лишь при условии, что они в будущем, когда подойдет возраст, станут военными кантонистами. Дочери же имели право оставаться при родителях до совершеннолетия. Когда оно наступало, девушки обязаны были перебраться туда, откуда родом были их отцы. Таким образом сыновья с малолетства платили личной повинностью за право жить в тех местах, где отбывали воинскую повинность их отцы. В дальнейшем они разделяли судьбу своих родителей. Дочери же, когда наступало совершеннолетие, должны были спешить выходить замуж за солдата, чтобы не лишиться возможности жить поближе к родительскому дому.
Вместе с указом о расформировании кантонистских школ еврейская семья получила законную гарантию в том, что от нее не будут отрывать малолетних сыновей, а юноши будут приниматься на военную службу на равных условиях с русскими рекрутами. Этот закон был особенно важен для еврейского населения внутренних губерний. Семья перестала трепетать за свою целость, потому что военная служба перестала быть наследственной повинностью для всего мужского населения «николаевских солдат»; военная повинность перестала быть уделом малолетних солдатских сыновей.
Что касается нового поколения – детей «николаевских солдат», – то оно вело темное существование, лишенное каких-либо идеалов и устремлений. Объясняется это следующими причинами. Солдатские жены в большинстве случаев принадлежали к подонкам населения «черты». Разные обстоятельства и не совсем безупречные репутации заставляли девиц оставлять родительский дом и пускаться в далекое путешествие для приобретения мужей. В свою созданную на чужбине семью они не вносили того облагораживающего элемента, в котором так нуждалось солдатское сословие. Домашняя обстановка налагала на детей отпечаток грубости.
О воспитании вне дома, о влиянии русской школы не могло быть и речи, так как грамотность в эпоху Николая I была слабо развита даже среди русского населения. Нееврейская среда, с которой сталкивались в силу необходимости дети «николаевских солдат», наложила на них свой отпечаток, окончательно ассимилировала нравы и привычки, и еврейский юноша мало чем отличался от русского парня своего времени. До конца прошлого века не исчезли типичность и характер потомков «николаевских солдат».
С течением времени, по мере удаления от предка, потомство его мало-помалу теряет свой специфический облик – грубость и бескультурье, и лишь в последующих поколениях оно окончательно освобождается от наследия той темной эпохи.
Крымская война поглотила тысячи еврейских солдат: они зарыты в братских могилах на полях сражений.
Евреи умирали за отечество, которое вело с ними беспощадную войну в течение почти 30 лет. Павшие под стенами Севастополя, того самого города, из которого их выселяли, потому что Николай I нашел «неудобным и вредным пребывание евреев в этом городе», они запечатлели своей смертью бесславие николаевского режима и несправедливость коренного населения России по отношению к себе.
Трудно было этим солдатам пламенеть любовью к отечеству, которое наперед предрешало, что военная служба евреев бесполезна, а их заслуги и смерть на поле битвы не вызывали даже доброго слова.