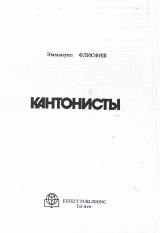
Текст книги "Кантонисты"
Автор книги: Эммануил Флисфиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– Ты никак воровать, малец? Стерегись, я баловать не охоч.
Неприветливо было мое вступление в новую жизнь. Мне не дали раздумывать долго, а поставили к ступе, где я работал до самого вечера без роздыха, молча. Поевши липкого хлеба с солью и запив водою, я улегся на каких-то тряпьях, на мокрой земле, прикрывшись казенной шинелишкой.
Вслед за первым скверным днем потянулся целый длинный ряд подобных дней. Я выполнял домашние работы, меня ставили к ткацкому станку, к ступе. Я мыл горшки, носил воду, рубил тонкие дрова, подметал, нянчил детей, кормил собак и свиней. Я никогда не наедался досыта, не высыпался вдоволь. Я зарос шерстью, ногти мои выросли на полвершка и причиняли мне боль. Тело мое под грязной, как земля, рубашонкой вечно зудилось, и я, как грязное животное, постоянно тер спину у стен и косяков. Я совсем одичал. Хотя я был очень тих и послушен, но, тем не менее, старик и старуха вечно толкали, ругали меня и вообще со мною обращались как с паршивым щенком. Хозяина по целым дня не было дома. Жена хозяина и девка, сестра его, мучили меня гораздо менее других. Они украдкой и то изредка, подсовывали мне лишнюю краюху хлеба. Одни дети не гнушались меня. Собаки меня очень любили. О моих товарищах Лейбе и Бене я ничего не знал. Я их ни разу не видел и не встречал. Да и где мог я с ними встретиться, когда меня не выпускали со двора?
Когда снег совсем растаял и выглянула первая травка, участь моя изменилась к лучшему. Мне поручили пасти коров, овец и свиней. До зари я, бывало, отправляюсь с моим маленьким стадом и с десятком умных собак, которые охраняли стадо. Я был доволен своей судьбой. Взобравшись на гору, я водил свое стадо целый день у окраин леса. Тут я был свободен, не слышал брани, не переносил побоев. Мне давали с собою хлеб, соль, крупу или пшено. Разведя где-нибудь в ложбине огонь из сухих ветвей, я варил себе постную похлебку. Я отыскивал сладких грибов и иногда решался выдоить немножко молока и добавить его в суп. Это было праздником для меня. В лесу водились волки, но я их не боялся. Мои громадные собаки имели силу и отвагу волкодавов. Мое стадо жирело, и хозяин был мною доволен, а прочие члены семьи сделались тоже ласковее с тех пор, как я перестал торчать целые дни перед их глазами. Я купался часто в горном ручье, спал на чистом воздухе и заметно окреп.
Однажды, отыскивая более сочное пастбище, я загнал свое стадо в сторону, забравшись далеко в горы. Осматривая широкое плоскогорье, я несколько вдали заметил небольшое пасущееся стадо. Я погнал туда и свое, желая познакомиться с пастухом. Какова же была моя радость, когда узнал в пастухе моего товарища Лейбу! Мы обнялись как родные братья. Лейба стал также работником и тоже терпел от жестокостей своих хозяев, но, сделавшись пастухом, он был так же бесконечно счастлив, как и я. Счастье Лейбы состояло, однако ж, единственно в его относительной свободе и в избавлении от частых, жестоких побоев. Он целые дни питался одним хлебом и водой. Ему было воспрещено подводить свое стадо близко к лесу. Самое стадо заключалось в одних свиньях, за которыми зорко приходилось смотреть, чтобы они не разбежались, тем более, что Лейба не имел при себе таких смышленых собак, как у меня. Когда я ему рассказал, как я роскошничаю, он всплеснул руками от удивления и зависти.
– Я тебя угощу, Лейба, обедом, увидишь, каким. Ты только присмотри и за моим стадом и подгоняй поближе к лесу, а я сбегаю в лес за грибками и земляникой.
Я нарвал самую крупную землянику, собрал грибков. Мне посчастливилось открыть на невысоком дереве птичьи гнезда, из которых я утащил яйца. Ликуя, я вернулся к Лейбе. Мы выбрали удобное место, развели огонь и начали стряпать обед. На радостях я надоил полный котелок молока, насыпал пшена и накрошил туда грибков. Мы расположились в мелкой котловине и приступили к вкусному обеду. Мы начали хлебать наш суп, чередуясь единственной ложкой, имевшейся у меня. Обедая подобным роскошным образом, мы блаженствовали, тем более, что на широких листьях лопушника нам улыбалась крупная, румяная земляника. Самое большое наслаждение было еще впереди.
Вдруг раздался неистовый лай собак на опушке леса.
– Собаки наши грызутся, пусть их, – успокоил меня товарищ, жадно утолявший голод.
У самого края котловины вдруг вырос, как из-под земли, мальчик одичалый, обрюзгший, заросший волосами, весь в лохмотьях. Я с изумлением посмотрел на незнакомца.
– Ерухим! – радостно вскрикнул тот и устремился ко мне.
По голосу я тотчас узнал Беню и бросился к нему навстречу.
– Стой, Ерухим, не подходи к нему! – воскликнул испуганно Лейба.
– А что? – спросил я с недоумением в то время, как Беня остановился как вкопанный и побледнел.
– Не подходи к нему, Ерухим, не прикасайся к нему – он уже не наш, он мешумед (ренегат), гой...
Меня это известие поразило и кольнуло в самое сердце.
– Беня, правду ли Лейба говорит? – спросил я сконфуженного мальчика дрожащим голосом.
Беня опустил голову и покраснел.
– Ерухим, дай мне поесть, я так голоден, так голоден! – взмолился он, не трогаясь с места.
Мне жаль стало товарища, так жадно посматривавшего на котелок и землянику.
– Иди, ешь, – позволил я, отворачиваясь от него.
Беня побежал к котелку. Но Лейба, заметив приближающегося Беню, быстро опрокинул котелок и начал топтать ногами землянику, издав резкий свист. Сбежались собаки и жадно накинулись на остатки молочного супа.
– Лучше собакам пусть достанется, чем тебе, – злобно произнес Лейба, обращаясь к оторопевшему Бене.
Беня заплакал и убежал, угрожая нам издали кулаком .
– Ты злой, – упрекнул я Лейбу.
– Он отстал от нас, зачем же в нужде к нам опять лезет?
– Может быть, его уже чересчур били, он этим и хотел облегчить свою участь.
– А нас по головке гладят? Терпим ведь, и он мог терпеть.
Я погнал свое стадо назад, условившись с Лейбой сходиться каждый день к полудню для общего обеда.
Было бы гораздо лучше для нас обоих, если бы мы никогда не встретились. В продолжении нескольких дней мы сходились и обедали вместе, лакомясь хозяйским молоком и лесными продуктами. Издали мы всегда замечали маленькое стадо ренегата Бени. Он к нам, однако ж, больше не подходил и, казалось, не замечал нас. Но мы ошибались. Беня не забывал о нас. Это был злопамятный мальчик.
Через несколько дней мы, как и всегда, расположились обедать. Я надоил полный котелок молока и начал разводить огонь. Лейбе удалось стащить у хозяина своего какую-то копченую, затхлую рыбу и он с гордостью принялся раздирать ее ногтями. Вдруг издали показались двое, быстрыми шагами направившиеся к нам. В одном из них я узнал своего хозяина. Со всех ног бросился я с полным котелком в сторону, вылил молоко в яму, тут же бросил котелок и возвратился на свое место, весь дрожа от страха.
К нам приблизились двое мужиков. Один из них был мой хозяин, другой был мне незнаком, но, судя по тому, как испуганно вскочил на ноги Лейба и побледнел, я догадался, что это был его хозяин.
– Тебе, свиное ухо, наказано было не гнать свиней к лесу? Наказано было или нет? – грозно крикнул незнакомый мужик, схватив Лейбу за вихор и притянув его к себе.
– А ты, пес, чего заходишь со скотиной так далеко от дому? – приступил ко мне мой хозяин.
– Глядь-ко! – изумился хозяин Лейбы, обращаясь к моему хозяину. – Тарань мою жрут! А жена ноне всех ребятишек перетаскала за энту самую тарань.
В эту минуту приблизился Беня, снял шапку, отвратительно улыбаясь.
– Они еще и не то делают, – донес он, указывая на нас. – Каждый день они выдаивают хозяйских коров и варят себе молочную кашу. Вот, посмотрите, – добавил Беня, отыскивая глазами мой котелок.
– Где котел, лиходей? – заорал хозяин, схватив меня за руку.
– Вон, вон, – указал Беня рукой. Проклятые собаки выдали меня, сбежавшись на запах молока к тому месту, где были явные улики моего тяжкого преступления.
Хозяин бросился туда. Я был пойман и уличен. С каким-то ревом бросился он на меня, смял под себя и так начал душить, давить и бить, что у меня хрустели все суставы, в ушах звенело, а в глазах сделалось так темно, как в глухую ночь. Долго ли это продолжалось – не знаю. Но когда хозяин перестал меня бить и топтать ногами, я продолжал лежать, ничего не видя и не слыша. Он несколько раз пытался поставить меня на ноги, но я падал опять как сноп. Надо полагать, что он сам испугался последствий своей жестокости потому что засуетился, побежал за водой и начал меня отливать. Когда я немного очнулся, то слышал болезненный, резкий крик Лейбы, все более и более удалявшийся. Должно быть, ему досталось не меньше моего. Как хозяин ни мучался со мною, а я идти не мог: одна нога не повиновалась, она была как деревянная и так страшно болела, когда я пробовал ступить, что я невольно падал. Хозяин, проклиная, оставил меня и сам погнал стадо домой.
Я лежал еле живой, растерзанный, с закрытыми глазами, горько рыдая. Мне показалось, что кто-то гладит меня по голове и плачет вместе со мною. Я с усилием открыл глаза. Возле меня, положа руку на мой лоб, сидел на земле Беня и горько плакал. Я отшатнулся от него, как от змеи.
– Прочь от меня, – прошептал я. – За что ты меня погубил? Что я тебе сделал?
– Не тебе, Ерухим, хотел я повредить, ты добрый, а подлецу Лейбе, отдающему собакам то, о чем просит у него брат.
– Какой ты нам брат? – заметил я и отвернулся.
Пришел хозяин еще с одним мужиком и потащили меня домой. Хозяин мой был расстроен, угрюм и молчал во всю дорогу. Меня положили в хлеве на соломе. Через час хозяин привел какого-то отставного солдата-коновала. Солдат долго ощупывал и вытягивал мою ногу, причинив мне нестерпимую боль, и, наконец, решил, что перелома нет, а только сильный вывих.
– Полечи ты его, ради Христа, Ефимыч, – упрашивал хозяин коновала. – Ишь беда приключилась.
– Зачем больно стукаешь куда ни попало? Не дерево же, тож живой человек, хоть и нехристь.
– Вот-те крест святой, Ефимыч, никогда не бивал, а тут уж больно провинился, ну, чуточку потаскал. Что ж, всяк грешен.
– Потаскал! А тя потащут, што запоешь? Ведь казенный, хоть и махонький, тож солдат царский, вот что, братец ты мой.
– Лечи, Ефимыч. Вот как возблагодарю.
– Чего лечить! Как на собаке присохнет. А ты его не трожь. Пусть недельку-другую поваляется на вальготе.
Я валялся долго, очень долго на вальготе, пока выздоровел и начал ходить, несколько прихрамывая. Во все время моей лежачки старуха приносила мне два раза в день какие-то помои, крохи и объедки и при этом всегда обзывала меня лешим и ублюдком и никак не могла простить мне тайком выпитого молока.
Когда я совсем выздоровел, наступила уже осень, а за нею потянулась суровая, страшно холодная зима. Осень и зима посвящались моим хозяином лесному промыслу. Он рубил строевой лес и по санной дороге свозил в свой просторный двор, откуда в начале весны, при половодье реки, сплавлял в лежащий у берега той реки большой город. К этому лесному промыслу хозяин начал ставить и меня. В то время, когда он подрубал толстые высокие деревья, я собирал валежник и срубал молодые, тонкие деревья. Нагрузив сани лесом, я свозил их с горы, с помощью баб и старика сваливал лес во дворе и возвращался назад с пустыми санями. Работа эта начиналась с самого раннего утра и оканчивалась поздним вечером. Это повторялось каждый Божий день с ужасающим постоянством, даже по воскресным и праздничным дням, несмотря ни на какую погоду.
Питались мы с хозяином одним хлебом с солью, а изредка соленой сухой и тягучей как подошва рыбой. Хозяину было тепло. Он был одет в двух кожухах и часто прикладывался к посудине с водкой, а я, как собака, мерз и дрожал в своем казенном полушубке, совсем оплешивевшем, и в дырявой шинелишке. Особенно зябли ноги, несмотря на постоянное мое постукивание и припрыгивание. Зато, возвращаясь вечером в жарко натопленную избу, похлебав горячей бурды с хлебом и уложившись у печки, я чувствовал себя невыразимо хорошо и засыпал глубоким сном. Меня не били и почти не ругали. Хозяин был доволен моим усердием. Все шло как нельзя лучше, когда со мною приключилась новая беда.
Хозяин имел привычку очень толстые, высокие деревья не сваливать совсем, а делать в самом низу ствола глубокую надрубку и так оставлять. Первый сильный ветер или вьюга валили надрубленные деревья без помощи человеческой силы. Таких деревьев с надрубками было множество в лесу.
Раз случилось, что хозяин, отправившийся куда-то из дому, снарядил меня одного в лес для рубки тонких деревьев, приказав мне к вечеру привезти валежник для домашнего обихода. Я запряг мерина в длинные розвальни и с утра отправился в лес. Утро было безветреное, тихое, солнце ярко светило. Мне предстояла тяжелая работа, но я был весел. При мысли, что я не буду целый день понукаем хозяином, буду работать, отдыхать и грызть свой черствый паек на свободе, не из-под команды, я развеселился до того, что запел веселую еврейскую песенку, как-то сохранившуюся в моей памяти. Мерин, казалось, сочувствовал моему настроению духа и с усердием взбирался на крутую гору, весело мотая головой. Перед ним, лая и ежеминутно озираясь и завертывая в сторону, прыгал косматый любимый мой пес, который всегда сопровождал меня в лес и с которым я охотно делил свою порцию липкого или черствого хлеба. Забравшись в глубину безлиственного леса, я отпряг мерина, привязал его к розвальням, наполненным сеном, и принялся за работу, напевая во все горло. Проработав таким образом без отдыха несколько часов и собрав целую кучу валежника, я с аппетитом поел и улегся в санях, чтобы немного отдохнуть, зарывшись в сено. Торопиться было не к чему. Я знал, что если возвращусь раньше урочного часа, мне зададут новую работу, а потому я и метил подогнать время своего возвращения как раз к заходу солнца, чтобы свободно завалиться на ночь у любимой печки.
Мой косматый друг взобрался ко мне на ноги и приятно их согревал. Мы оба, я и собака, как видно, крепко заснули. Меня разбудил мерин, порывавшийся освободиться от привязи, сильно дергая розвальни, к которым был привязан. Когда я выкарабкался из-под сена, я, к крайнему испугу своему, увидел, что солнце близится уже к закату. Оно тускло светило, укутанное в какие-то серые туманные тучи.
Погода разыгралась. Резкий, порывистый, холодный ветер неистово ревел в лесу и сильно шатал деревья. Мелкий снег плотной пеленой валил сверху и, направленный вкось крутящей вьюгой, больно хлестал в лицо, залеплял глаза и кружился в воздухе вихрем. Мерин, побуждаемый холодом и хлестким снегом, упирался передними ногами и подавался назад с видимым намерением разорвать недоуздок, удерживавший его у саней. Я встревожился. Мне предстояло еще нагрузить сани валежником и добраться заблаговременно домой. Я заторопился над спешной работой, а ветер и вьюга крепчали с каждой минутой. Все страшнее и сильнее ревело в лесу, солнце все тусклее и тусклее светило, и, наконец, совсем скрылось. Моя работа близилась уже к концу, оставалось прибавить еще несколько длинных полен для загрузки саней, увязать веревкой, мерина в оглобли – и в путь. Но вдруг, нагнувшись под одно толстое высокое дерево, чтобы подобрать подходящий валежник, над самым моим ухом заслышался страшный треск. В ту же минуту на меня навалилось упавшее дерево всей своей тяжестью и пригвоздило меня к земле. К счастью, снег был глубок и рыхл: дерево, упавшее поперек поясницы, глубоко вдавило меня в снег, но, зацепившись своей верхней частью за что-то, не раздавило меня, как букашку, разом. Однакож, тяжесть, доставшаяся на мою долю, была более чем достаточна для того, чтобы ошеломить меня и пригвоздить к месту. Я лежал под бревном лицом вниз. Глаза, нос и уши были залеплены снегом, а в спине я чувствовал какую-то тупую боль. Я попробовал выкарабкаться из-под бревна, но все мои усилия оказались напрасными: я только барахтался руками и ногами, но нисколько не продвигался вперед. Радуясь в душе, что меня сразу не задушило, я сначала не терял надежды, что удастся как-нибудь высвободиться. Однако после тщетных усилий, покрывших мое лицо и тело обильным потом, я почувствовал, что чем больше я барахтаюсь, тем постепеннее усиливается давление на мою несчастную поясницу. Бревно мало-помалу погружалось вместе со мной в рыхлый снег. Мне пришло на мысль, что придется, быть может, пролежать под этим страшным прессом целую длинную ночь, а, может быть, еще и больше, что тяжелое дерево может совсем опуститься на мою спину всей своей тяжестью и раздавить меня, что, наконец, я могу замерзнуть, пока поспеет помощь, – и я закричал ужасным голосом. Но свист рассвирепевшей вьюги покрывал мой детский голос настолько, что если бы помощь была от меня в десяти шагах, то и тогда мой крик не принес бы мне никакой пользы. Только пес услышал меня и прибежал, издавая короткий лай. Он понял мое страшное положение и суетился вокруг, визжа, лая, воя, облизывая и обнюхивая мое лицо. Я продолжал кричать до полнейшей хрипоты. Боль в пояснице я перестал ощущать, но я совсем перестал чувствовать свою спину. Потеряв голос и не имея более сил барахтаться, я притих. Вскоре холод начал проникать в самое сердце, руки и ноги коченели и почти мертвели, а кругом продолжало реветь, выть и кружиться.
Меня начало сильно клонить ко сну, веки отяжелели и невольно замыкались. Вдруг я встрепенулся, сердце дрогнуло в груди, и по всему телу прошла страшная дрожь. В воздухе пронесся какой-то ужасный протяжный вой. В одну минуту вой этот, как будто повторяемый тысячью отголосков, раздался со всех сторон и слился в один завывающий гул и стон. Волосы поднялись дыбом на моей голове, глаза расширились и выпучились до того, что готовы были выскочить из орбит. Со сверхчеловеческим усилием я приподнял голову и начал всматриваться в крутящуюся снежную массу. Я заметил несколько пар ярко-огненных шариков, быстро перемещавшихся с одного места на другое. Страшная истина предстала перед глазами: я был окружен волками...
Как только раздался первый волчий вой, моя косматая собака, уложившаяся у моей головы, задрожала вся и жалобно, чуть слышно завизжала. Чем больше вой усиливался, тем чаще она вздрагивала и тем глубже зарывала свою морду и передние лапы под меня. Я был в страшном отчаянии. В эту гибельную минуту воображению моему представился образ моей матери таким, каким он был в ту минуту, когда ловцы выносили меня из родительского дома. Я закрыл глаза и шепотом призывал на помощь этот милый, дорогой образ, как вдруг раздалось душу раздирающее ржание бедного мерина. Вслед за этим ржанием услышал я приближающийся глухой топот скачущей по снегу лошади. Топот слышался все ближе и ближе и, наконец, что-то тяжелое перепрыгнуло через меня и умчалось. Через минуту перепрыгнули через меня с легкостью собаки десятки животных с разинутыми пастями, со светящимися глазами и исчезли. Вместе с ними исчезло и мое сознание.
Открыв глаза, я увидел себя в хозяйской избе. Меня оттирали снегом. Собака суетилась вокруг меня и дышала мне прямо в лицо.
– Что, Яроха? – спросил меня ласково хозяин, – больно, болит?
– Нет, – прошептал я бессознательно.
Меня оттерли, влили водки в рот, тепло укутали, и я заснул глубоким сном. Проснувшись, я почувствовал нестерпимую боль в пояснице. Я не мог шевельнуться без того, чтобы не вскрикнуть от нестерпимой боли. Болели также пальцы рук и ног, уши и конец носа. Опять отставной солдат-коновал явился ко мне на помощь.
– Несчастливый малец! – сострадательно смотря на меня, пожалел деревенский врач. – Всякие беды да напасти приключаются ему. Видно под такой уж планидой народился. Что опять с ним случилось? Никак опять лупку задали?
– Ни, ни, Ефимыч, порази меня родимец, коли пальцем тронул.
Хозяин рассказал Ефимычу мои приключения.
– Подь сюда, – подозвал хозяин собаку, – поглажу. Бравый пес у меня этот, – представил хозяин собаку Ефимычу. – Прибежал это он до света, двери скребет да воет, воет так, что мы все глаза продрали. Думаю, беда с Ярохою приключилась. Созвал соседей и махнули в лес. Собака бежит впереди, а мы за нею. Пришли, аж страх взял: Яроха под страшенной сосной как есть прищемленный. Думал, што околел, ан нет, дышит, мы и того...
– Как же это ты, Сильвестр Сидорыч, не хватился мальчугана с вечера? Грешно тебе, брат. Этак душу ребяческую загубишь и перед законом в ответ станешь.
– Не догадамшись, не хватился Ярохи, а то нешто.
– Ну, а твои чего зевали?
– Да сгинь он совсем, – озлобилась старуха. – С этого самого часу, што лешего в избу взяли, все неладно пошло: коровка околела, нечистый всех кур передавил, зверье вот и мерина загрызло.
– Точно, што и говорить! – согласился старый отец хозяина. – Не люб он мне и старухе. Ты, Сильвестр, спровадь-ка его, не по душе он нам, щенок.
– Коли не люб, то казне и отдайте. Кто неволит? – заметил Ефимыч.
– Нече делать, спровадим, – согласился Сильвестр.
– Кабы скорее на ноги поднялся. Помоги, Ефимыч, полечи маленько, аль кровь брось, аль кладь какую ни на есть.
Мне и кровь бросили и кладями лошадиными заливали и мазали чем-то вонючим долгое время, пока, наконец, я поднялся на ноги.
Сильвестр уступил требованию стариков и возвратил Ерухима казне. Мальчик несколько раз менял своих хозяев, но повсюду было одно и то же: самое жестокое обращение, презрение, ненависть, голод, холод и работа не по силам. Наконец, когда ему минуло 18 лет и надо было поступить на действительную военную службу, его и множество подобных ему еврейских юношей отобрали у хозяев, куда они были розданы на прокормление. Все они огрубели и отупели. Радость этих горемык была безгранична, когда они были собраны вместе, когда они увидели перед собою братьев по страданиям. Каждый со слезами на глазах рассказывал о своей жизни у крестьян. Оказалось, что Ерухим был одним из более счастливых. Были такие несчастные, которые всякий раз, когда хозяева их спроваживали, подвергались жестоким избиениям.
В дальнейшем судьба Ерухима сложилась трагически. Уже будучи солдатом, он терпел побои и оскорбления, несмотря на его трезвость и исполнительность по службе. Когда его полк находился невдалеке от австрийской границы, он решил бежать. Но рок преследовал Ерухима до конца. Пограничная стража наткнулась на двух контрабандистов, переводивших его через границу. В гражданском костюме, с подложным паспортом в кармане он был пойман и узнан. Ерухима судили, и он испустил дух под ударами шпицрутенов...
Голодные, терзаемые холодом и вечно истязаемые дети погибали и в деревнях в громадном количестве. Многие принимали православие в надежде избегнуть вражды темных и жестоких хозяев.
Крестившихся перестали временно наказывать, переодевали в новые шинели, крепкие сапоги, освобождали от слишком тяжелых работ; хозяевам повелевали перевести их на жительство в избы, кормить за хозяйским столом и той же пищей. «Закоренелым жидам» на все это беспрестанно указывали, возбуждая в них зависть.
Но бывало также, что иной мальчик, приняв православие и пользуясь некоторыми привилегиями, зазнавался, капризничал, и тогда возникала перепалка между ним и хозяйкой:
– Я крестился, и подавай мне говядины, а не пустых щей, – кипятился мальчик. – Сама, вон, казна награждает за крещение, дает 25 рублей, а ты и подавно должна обо мне заботиться.
– А где ж тебе, жиденок, взять говядины, коли мы сами ее не ядим по бедности нашей? – возражала обыкновенно хозяйка. – Да и вера наша вовсе не продается за сласти, и ты не ершись.
После таких перепалок мальчишки давай жаловаться унтеру за обиду «царских крестников»; унтера накидывались на хозяев, стращали кандалами и вымогали в виде штрафа 1-2 рубля на то, чтобы «отпустить душу на покаяние», и все умиротворялось.
Однажды между ротным командиром, приехавшим на инспекцию, и старостой деревни, где еврейские мальчики были в большом числе, произошел такой разговор:
– А верно ли, барин, народ байт, што жиды об ихнюю пасху пекут мацу не на воде, а на хрестьянской крови, тоись ловят на улицах хрестьянских махоньких ребятишек, закалывают их якобы телят и эфтою-то ихнею кровью и растворяют мацу. Неужто это правда?
– Разумеется, правда. Иуда Скариотский продал же Христа за 30 серебреников. А коли Иуда покусился на самого Христа, так уж нечего ждать путного от Богом проклятых его родичей.
– Стало быть и нам не след мирволить жиденятам, коли ежели их родители такие анафемы.
ЕВРЕИ В СИБИРИ. ВОСПОМИНАНИЯ СИБИРСКИХ КАНТОНИСТОВ.
Переселенцам в Новороссийские земледельческие колонии были предоставлены некоторые льготы, но было отказано в выдаче денег на переезд. Оказалось, что без такой помощи они не могут двинуться с места. Когда переселенцы просили деньги на дорогу, то в министерствах внутренних дел и финансов решили, что лучше всего направить всех этих бедняков в Сибирь, и, таким образом, казенные деньги, которые будут затрачены на переселение, не пропадут даром, а пойдут на оживление далекой окраины страны.
Колонистам было отведено несколько десятков тысяч десятин удобренной земли в Омской и Томской губерниях.
Весть об этой милости разнеслась по губерниям черты оседлости, и в течение короткого времени тысячи еврейских семейств стали переселяться в Сибирь. Но когда будущие колонисты уже находились в пути, переселение было вдруг приостановлено. Вспомнили о существовании закона, запрещающего евреям проживать в Сибири. Поэтому переселенцев стали хватать в пути и по этапу пересылать в херсонские колонии. В Сибири остались только те, которые успели добраться до места назначения.
Отправка колонистов в Сибирь не обошлась без мытарств и страданий. До Николая I дошли сведения о жестоком обращении чиновников и офицеров, сопровождавших колонистов, и о том, что они претерпевали в пути. А те, которых не успели вернуть с дороги и дошли до назначенных для них селений, не получили обещанных правительством хлеба и скота и не нашли покровительства и помощи у местного начальства. Тяготы дальнейшего пути и голод привели к многочисленным самоубийствам. Николай I через начальника корпуса жандармов Бенкендорфа поручил Новороссийскому генерал-губернатору графу Воронцову «строжайше расследовать причину самоубийств с тем, чтобы виновные подверглись наказанию».
Это, разумеется, не могло облегчить участи переселенцев, болевших и умиравших сотнями. Создалась армия опасно больных, которые могли стать источником самой опасной заразы. Высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел Гессе, обследовав положение, писал, что «больные, которых вернули с дороги обратно в Новороссийск, лежат в тесноте, сырости, при дурном, спертом воздухе, соединении разнородных болезней и без медицинского присмотра. От этих недостатков не только не подают надежды на скорое выздоровление, но еще представляют опасность в порождении заразительности».
После выселения евреев из сел и деревень и на расстоянии в 50 верст в глубь страны от границ с Германией и Австрией, многие очутились вне кагалов, а потому их усиленно отдавали в солдаты. В 1831 году последовало смягчение. Бескагальных в солдаты больше не отдавали, но всех их с женами и детьми ссылали в Сибирь.
Таким образом Сибирь, вообще запрещенная для евреев, сделалась для них местом ссылки на поселение, а за преступления их туда ссылали на каторжные работы в Забайкальских рудниках.
Приговоренным по суду к ссылке на поселение в Сибирь устанавливалась замена этой ссылки другими видами наказания: евреев в возрасте до 35 лет забирали в солдаты; от 35 до 40 лет отдавали в арестантские роты, а свыше 40 лет оставляли «временно» в Сибири «до нового общего назначения других мест». Этих в города не пускали, а водворяли за Байкалом и в Якутской области. В эти же места водворяли и тех евреев, которые кончали срок каторжных работ.
Правительство, изыскивая новые меры к увеличению числа еврейских кантонистов, издало в 1837 году указ об обязательном зачислении детей ссыльнопоселенцев в кантонистские школы. Этот указ был затем распространен и на детей ссыльных каторжан. Государство позаботилось и о том, чтобы дети, которые родятся после водворения их отцов в Сибири, были также зачислены в кантонисты. Взрослым же, происходившим от ссыльных, дано было право выбора: записывать своих мальчиков в кантонисты или же отправлять по достижении ими 16 лет в черту еврейской оседлости. Не желая расставаться со своими детьми и зная, что в черте оседлости мальчиков ожидает та же участь, сибирские евреи отдавали их в кантонистские школы на местах.
Евреев в Сибири селили не группами, а в деревнях среди старожилов, каждую семью там, где указывало начальство. Получалась картина обратная той, которая существовала в черте оседлости. Если в «черте» евреев загоняли в города, запрещая селиться в деревнях, то в Сибири их загоняли в деревни, запрещая проживать в городах.
Кроме нескольких тысяч колонистов-земледельцев и нескольких сот ремесленников, купцов, врачей и адвокатов, огромную часть составляли ссыльнокаторжане и ссыльнопоселенцы. Но это не значит, что они были преступниками. Ссыльными были евреи, которые не могли оставаться в «черте» просто в силу своего беспокойного характера, ставившего их в крайне враждебные отношения с массой своих единоверцев. При консерватизме и патриархальном укладе еврейской семьи того времени российское еврейство изгоняло из своей среды и отправляло в Сибирь немало людей, единственной виной которых было то, что они считались вольнодумцами, то есть не хотели жить по предписанию раввинов и катальных верховодов и своим поведением резко отличались от окружающих.
У случайно попавших в Сибирь также отбирали сыновей. Жизнь еврейских кантонистов в Сибири отличалась тем, что их не отсылали в далекие края, но оставляли вблизи своих родителей. Однако им было запрещено посещать родительский дом даже на праздники. Не только домой не отпускали, но вообще не разрешали видеться с родителями.
Об участи сибирских кантонистов можно составить представление по следующим немногим воспоминаниям.
Бывший кантонист, старожил Иркутска Леонтий Исаакович Таубер, вспоминая свои молодые годы, говорит, что с пятидесятых годов ужасы кантонистских казарм значительно ослабли. Но все же они не были под силу 9 или 10-летним мальчикам. Помню, говорит он, как будто бы это случилось сейчас: я проводил уже последний год в кантонистской школе и готовился к переходу в солдатские казармы, то есть 25-летней службе в армии. В том году, ранней весной, как раз в праздник Пурим к нам в Омский кантонистский батальон пригнали из Житомира 70 еврейских мальчиков. И что же? К пасхе, то есть ровно через четыре недели один из них умер, 60 приняли православие и только 9 остались евреями.








