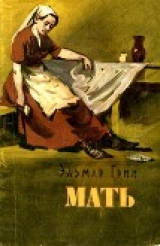
Текст книги "Мать
Рассказы"
Автор книги: Эльмар Грин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
МЕСТЬ ПЕККИ

Черт его знал, что так получится. Русские рванулись вперед, как дьяволы, и только очень быстрые ноги помогли некоторым финским ребятам уйти от их удара за каменное укрытие соседнего скотного двора. Но Пекка Хильясало не имел таких быстрых ног и был настигнут крайним русским солдатом на краю ягодного сада.
Сперва столкнулись их автоматы. Они столкнулись в тот момент, когда дуло автомата медлительного Пекки повернулось назад, чтобы сразить русского, а приклад русского автомата завершал взмах вслед затылку Пекки. Приклад русского получил от быстроты и силы этого взмаха дополнительный вес в сотни килограммов. И когда он вместо затылка финна встретил на своем пути ствол его автомата, руки финна не удержали оружия. Краем глаза финн успел заметить место его падения, и какой-то долей мозга успел сообразить, что попытаться отпрыгнуть к нему и подобраться слишком невыгодное дело.
Но пока одна доля его мозга занималась этим соображением, руки его уже впились в автомат русского.
А руки у него были тяжелые и сильные, способные поднимать многие пуды. Он рванул ими русского к себе, и лица их сблизились, выражая гнев и ярость. Пот обильно покрывал широкий лоб русского и, дополняемый каплями из-под зеленой пилотки, сбегал вниз по загару его молодых щек, блестя на солнце неровными, извилистыми полосами. В его светлых глазах, смотрящих прямо в глаза Пекки, была угроза, и рот раскрылся, обнажая зубы, тоже не для улыбки. Досадуя на задержку в своем движении вперед, он попробовал высвободить свой автомат из рук Пекки, ворочая им вправо и влево. Но черта с два! Не на такого он напал. Пекка рванул его к себе еще раз и опрокинул на землю вместе с автоматом. Продолжая вырывать автомат, он уперся в русского ногой. Но этого не стоило делать. Русский вывернулся из-под его ноги, заставив ее уйти в пустоту. А на второй ноге Пекка не удержался и тоже упал, ткнувшись головой в малиновый куст.
Падая, он выпустил автомат из рук, чтобы опереться на них при падении. И тяжесть, которую приняли на себя его руки, была настолько солидной, что он не сразу смог потянуться за русским, когда тот вскочил на ноги. Стебли малины помешали ему с нужной быстротой вытянуть руку, и вместо горла он вцепился русскому в гимнастерку. Рука скользнула по крепкой материи, застряла на кармане и вырвала его, но не остановила русского, успевшего не только вскочить, но и плотнее прижать рукой пилотку к своим светло-русым волосам, схожим по цвету с волосами Пекки. И когда Пекка протянул за ним вторую руку, он получил по ней такой удар прикладом, от которого треснула кость. Он взревел от этого удара и на целую минуту перестал видеть божий свет. Если бы русский не спешил, дело могло кончиться хуже, но русский торопился, и когда Пекка от его удара приник отяжелевшей головой к земле, он умчался за своими.
Когда блеск солнца снова проник в глаза Пекки, светлевшие двумя голубыми точками на его широком темном лице, он первым долгом перевалился поглубже в малиновый кустарник, подтянув к себе поближе тяжелые неуклюжие ноги, не сумевшие унести его от беды. Упираться на правую руку он не мог. Проклятый русский переломил ее у плеча. А левая рука все еще что-то сжимала. Разжав пальцы, Пекка взглянул на то, что из них выпало, и пролежал некоторое время без движения, пропуская мимо себя русские голоса и топот.
Ждать пришлось долго. И пока он ждал, пригибая голову как можно ниже, глаза его поневоле видели перед собой оторванный русский карман да еще какой-то клочок бумаги, оказавшийся в нем. Это был белый конверт, слегка измятый жесткой рукой Пекки. Что-то было написано на нем, должно быть имя этого проклятого русского, а внизу – имя и адрес того, кто ему писал. Дьявол мордастый, как он ударил его, Пекку, по руке. Этой рукой Пекка мог поднять над головой гирю в пятьдесят кило весом, а русский взял и переломил ее, как ненужную сухую хворостинку, своим глупым автоматом.
Но что-то нужно было делать, если он собирался ускользнуть от русских. Опираясь на левую руку, Пекка слегка приподнялся и сел, стараясь не колыхать стебли малины. Правая рука пошла к черту. Это он ясно понимал. Двигать ею он уже не мог, и когда приподнялся, то по ней прошла такая боль, что он даже застонал слегка, скрипя зубами. Взяв правую руку за кисть, он положил ее на колено, чтобы придать ей согнутое положение. В этом положении он достал левой рукой из кармана бинт и стянул им сколько мог место перелома выше локтя, подтянув концом бинта кисть поврежденной руки к шее, чтобы удержать руку в согнутом положении.
Но и после этого он вынужден был просидеть еще несколько часов среди зеленых ягод малины, ожидая вечера. Конечно, рука срочно требовала врача, но не попадать же ради этого к русским. Не хватало еще такого позора, чтобы он попал на попечение к своим смертельным врагам. Один русский подбил его, а другие русские будут лечить. Что может быть обиднее?
И как это он упустил его, не ответив на удар? Он мог бы достать его хотя бы ножом. О, черт! Ножом надо было его ткнуть, а не отрывать у него карман с ненужным клочком бумаги. Догадайся он вовремя выхватить нож, русский лежал бы сейчас тут с выпущенными кишками, а он, Пекка, сказал бы ему: «Что? Получил? Будешь знать, как трогать Пекку Хильясало». А теперь вместо русского перед ним только кусок его кармана и смятая бумажка с его именем. А на черта ему имя без самого русского?
Пекка шевельнулся, чтобы отшвырнуть в сторону лоскут солдатской гимнастерки и скомканный конверт, но резкая боль в правой руке заставила его замереть в одном положении. Проклятый русский! О, дьявол! Подвернись он сейчас, Пекка прикончил бы его одной рукой, несмотря на его здоровые лапы. Чертов медведь! Не хватало еще потерять руку из-за какого-то рюсси.
До позднего вечера таился Пекка в тени малинника, стараясь не шевелиться. И все это время близко перед его глазами торчал ненавистный кусок зеленого русского кармана с измятым конвертом. Написанные химическим карандашом буквы отчетливо виднелись на несмятых местах, и почти все они были похожи на финские буквы. Прислушиваясь к тому, что творилось вокруг, Пекка временами ворочал головой вправо и влево, а затем опять возвращал ее в то положение, при котором глазам ничего больше не оставалось делать, как разглядывать эти чужие буквы, составлявшие имя его врага, которого он так непростительно упустил, забыв о ноже.
До поздних сумерек сидел Пекка, пригнувшись над именем и адресом ускользнувшего от его мести русского, а потом осторожно приподнялся, окидывая взглядом ряды малиновых кустов. Они хорошо укрыли его от русских, чьи голоса доносились к нему со стороны дороги. По ней катились теперь их машины и орудия, готовые пробивать в новых местах оборону финнов. Кусты малины уходили в сторону от дороги, опускаясь к луговой низине, над которой уже поднималась белая пелена тумана. А за низиной виднелся лес куда и решил направить свой путь Пекка Хильясало.
Но едва шагнув с места в направлении тумана, он остановился. Что-то ему нужно было сделать, прежде чем уйти отсюда. Сдвинув светлые брови на темном лбу, он медленно повернул вправо и влево свою тяжелую квадратную голову, крепко сидящую на плотной шее. Взять автомат? Но какая ему польза от автомата, если он все равно не сможет из него стрелять? Нести его просто так без пользы в левой руке? Но левая рука понадобится для всяких других дел в дороге. И, неся автомат, он скорее получит пулю от русских, если попадется им на глаза. Все же что-то еще удерживало его на месте, и в поисках причины этого он кинул взгляд себе под ноги.
Да, там оно все еще лежало, имя русского, против которого кипела в нем ярость. В ожидании темноты он убил его в мыслях десятками разных способов, начиная с того, что успел выпустить в него еще до столкновения пулю из автомата, и кончая тем, что легко настиг его в беге и вонзил нож между лопатками. И, убивая его в мыслях разными способами, он привык иметь перед глазами как бы некую долю убиваемого и теперь сразу ощутил нехватку чего-то.
Не нагибаясь вперед, чтобы избежать боли в сломанной руке, Пекка медленно присел, согнув колени. И когда его левая рука коснулась земли, он сгреб ею скомканный конверт с лоскутом русской гимнастерки и сунул себе в карман. Для чего это было нужно, он и сам не мог бы объяснить, но после этого уже ничто не мешало ему двинуться неторопливо вдоль малинника в сторону леса.
Всю ночь без остановки брел он по лесу на север, прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий и громыханью русских машин по дорогам. Встречая болото или озеро, он терпеливо обходил их и затем снова брел в сторону ночной зари. Натыкаясь на дорогу, он предварительно останавливался, высматривая и прислушиваясь, и лишь потом неуклюже перебегал ее на цыпочках, придерживая левой рукой правую. Далее он опять шел своим неторопливым крестьянским шагом, тяжело переставляя короткие, крепкие ноги, обутые в солдатские ботинки.
Недолгие сумерки летней ночи помешали ему уйти далеко, и к восходу солнца он опустился на подсохший желтый мох у края болота, сняв с головы суконную солдатскую кепку. Кусты ивы не были надежной защитой от посторонних глаз, но правая рука не позволяла забираться в густую чащу. С каждым часом она все болезненнее отзывалась на любое его движение. Извлекая из правого кармана штанов кисет, он весь изогнулся наподобие винта, едва не разорвав кармана. Развязывание шнурка кисета тоже доставило ему много хлопот. Проклятый русский! Он сейчас несется, наверно, вперед с той же торопливостью и даже не вспоминает, что оставил по себе такой след. Встретить бы его еще раз!
Один только раз. И уж теперь Пекка знал бы, как с ним разделаться.
Трубка и спички лежали у него в левом кармане куртки. Зажав коробок между коленями, он закурил. Правая рука ныла. Что-то в ней творилось неладное. Он прислушался к боли, сжимая широкие челюсти. Не случилось бы беды. Конечно, можно было выйти на дорогу, и тогда нашлось бы кому спасти его руку. Но там, на дорогах, ему нужен был только один человек. Только один, будь он проклят.
Пекка выкурил трубку, выбил ее о носок ботинка и осторожно откинулся на спину, положив согнутую правую руку себе на живот. Заснул он почти сразу, но не очень спокойным сном. Боль в руке напоминала о себе даже сквозь сон. Рука болела, когда он проснулся во второй половине дня. Что-то грызло ее внутри. Он сел, и боль немного утихла. Рука требовала, конечно, основательной перевязки, но где было ее добиться, не выходя на дорогу?
В левом кармане брюк у Пекки лежали две пластинки сухого хлеба и четыре куска сахара, оставленные от вчерашнего завтрака. Маленький запас пищи он всегда старался иметь при себе в ожидании того, что давала походная кухня. Другие ребята высмеивали его за это. Но хотел бы он знать, чем они питались вчера после того, как русские отбросили их от кухни, от штаба и от личных вещей, оставленных в бараке. Прикончив одну хрустящую пластинку и два куска сахара, Пекка выкурил трубку и снова прилег в ожидании вечера. Хотелось пить, но это можно было сделать в пути.
И опять он брел всю ночь, оберегая правую руку от встречных сучьев, и опять притаился на день. Поваленная случайным снарядом ель приютила его среди своих ветвей. За день он очистил ножом от коры всю нижнюю часть ее ствола, соскабливая с обнаженных мест белую, сладкую пленку. Этим он дополнил свой обед, после которого в левом кармане брюк у него осталось только русское письмо с обрывком гимнастерки. Рука ныла не переставая, но выходить на дорогу он не собирался. Только одно обстоятельство могло бы выманить его на дорогу. И, думая об этом обстоятельстве, Пекка заскрежетал зубами, ударив несколько раз ножом по расщепленному пню ели.
На третью ночь он едва не увяз в болотах, прилегающих к станции Тали. Свирепая перестрелка справа и слева заставила его углубиться в самые непроходимые места. Но зато по ту сторону болот он попал наконец к своим.
Лотты[14]14
Члены женской шюцкоровской организации.
[Закрыть] не решились тревожить его распухшую руку и переправили прямо в дивизионный госпиталь. Там у него спросили:
– Давно?
– Три дня.
– Что же ты сразу не явился?
– Куда? К рюссям?
– Да хотя бы к рюссям, если тебе рука дорога. А теперь за нее никто и двух пенни не даст.

Так обернулись его дела. Два пенни. Да, это была неважная цена за руку, поднимавшую когда-то над головой пятьдесят кило. И все оттого, что он вовремя не выхватил ножа. Ножом надо было ударить. Ножом! Перехватить его немного покрепче рукой хотя бы за ногу, чтобы он ткнулся носом в землю, и – ножом!
Все же в походном госпитале с его рукой сделали все, что могли. Под общим наркозом ему снова разъединили изломы кости, которые уже начали неправильно срастаться. Эта операция вызвала новое воспаление, затянувшееся на многие недели. Временами у него поднимался жар, и в полубреду он срывался с койки, требуя дать ему рюссю. Санитар перехватывал его, укладывал обратно и успокаивал как мог.
– Какого тебе еще рюссю? – говорил он. – Нету здесь рюссей.
– Все равно какого, – хрипел Пекка. – Все равно какого.
– А на что тебе рюссю?
– Мне бы только воткнуть в него нож. Только нож воткнуть.
– Э-э, когда хватился, – говорил санитар. – «Нож воткнуть». Попробуй достань их теперь, когда фронт стабилизировался. А раньше где ты был, когда они вперед прорвались? Тогда и втыкать надо было.
– Тогда и втыкать надо было, – соглашался Пекка. – Да… Тогда и втыкать надо было…
И он вновь принимался метаться в постели, скрипя зубами.
Осматривая его руку, хирурги озабоченно переглядывались и все настойчивее поговаривали об ампутации. Но доносившийся до них при этом скрежет его зубов, дополняемый злым блеском воспаленных глаз из-под сдвинутых светлых бровей, заставлял их откладывать свое намерение.
А тем временем крепкий организм делал свое дело. Жар в руке постепенно спал. Это позволило сменить временную шину на гипс. Но до гипса он успел столько раз повредить своей руке, что сращиванье кости затянулось еще на месяц. И даже после этого срока ее нельзя было считать восстановленной. Повторные ушибы отбили у нее охоту срастаться. Когда Пекка выразил по этому поводу свое неудовольствие, лотта сказала ему:
– Не надо было выскакивать из постели в погоне за рюссей да нас пугать.
Но этими словами она только прибавила Пекке горячих углей в тот жар, что пылал в его груди против рюссей.
В походном госпитале Пекка не нашел человека, умеющего читать по-русски. В тыловом госпитале он нашел такого среди санитаров и первым долгом спросил:
– Откуда ты знаешь русский?
Тот пожал плечами и ответил:
– Каждому финну следовало бы знать язык соседа, который в пятьдесят раз многочисленнее.
– А ты сам уж не рюсся ли? Откуда родом?
– Из Хельсинки.
– A-а. Ты, видать, еврей. Они всегда знают все на свете. Угадал я или нет?
– Угадал.
– А я коренной хямяляйнен и могу с гордостью сказать, что в той маленькой деревне Суокуоппа, откуда я родом, нет ни одного еврея.
– Потому-то она не более как маленькая деревня, – сказал санитар.
– А?
– Ты меня зачем звал? – спросил санитар.
– Прочитай мне вот это письмо, – сказал Пекка.
Санитар прочел ему русское письмо. В нем говорилось:
«Родной мой Степушка! Вот мы и домой вернулись. Но радоваться этому не приходится. Одна слава, что домой, а дома-то нет. Немцы при отступлении спалили всю деревню. Даже для скотины места не оставили. Живем мы в землянках. Но и землянки не у всех еще есть. А скотина, какая уцелела, под общим навесом стоит. Туго нам тут без вас приходится, Степушка, ой как туго. Только и живем надеждой, что прогоните скоро этих гадов проклятых с нашей земли и вернетесь домой. Пиши, Степан. Помни, что думаю о тебе постоянно. Девочки наши здоровы и тебе привет шлют. Крепко целую. Твоя Дуня».
А из надписи на конверте можно было понять, что того русского солдата звали Степан Петрович Смирнов и что написала ему это письмо Евдокия Ивановна Смирнова из колхоза «Луч», Еловецкого района, Ленинградской области.
Об этом колхозе и вспомнил Пекка, вернувшись домой. Вспомнил не сразу. Первые дни не было надобности вспоминать – до того обильны были они радостью. Первые дни оба его мальчика так и висли на нем, обрадованные его появлением. Три года они знали об отце только то, что он пребывает «где-то там», где очень опасно и страшно. И вот он теперь был с ними, живой и здоровый. Жена тоже сияла от радости. В первый момент она с тревогой взглянула на его правую руку. Но все тревоги ее сразу развеялись, когда эта рука обняла ее с прежней силой.
А на третий день, приканчивая свою тарелку толченой картошки с молоком, он сказал:
– Пойду опять к Эмилю Хаарла.
– Да, надо, – сказала жена. – Полтора гектара – это все-таки только полтора гектара.
Она была еще молодая и крепкая женщина, но губы ее уже начали стягиваться в мелкие морщины от постоянной озабоченности, и темные волосы заметно поредели. Прошло то время, когда из них получалась толстая коса, свисавшая почти до пояса. Теперь они легко укладывались на затылке в комок, величиной с детский кулак.
– Да, – сказал Пекка, глядя на ее щеки, потерявшие прежнюю округлость. – Надо продолжить у него осушку болота, если он, конечно, без меня не продолжил.
– Нет, – сказала жена. – Хватало у него забот и без того с таким-то хозяйством.
– Он давно вернулся?
– Недели две.
– Пойду завтра. До зимы месяц покопаю. Это двадцать тысяч. После зимы еще месяца на два хватит. А зимой топором поработаю в Мустаниеми. Будем выбираться, как наметили.
– Да, надо, – сказала жена, отбирая у старшего мальчика кусок хлеба, только что взятый им с тарелки. Разрезав кусок пополам для обоих мальчиков, она продолжала – Полтора гектара – это годилось бы где-нибудь возле Хельсинки. Там всю землю можно пустить под овощи, ягоды и фрукты. А на доходы можно еще дом для дачников построить – не только самим прожить. А здесь кому продавать, если даже в Савуселькя рабочие живут своей картошкой.
– Да, но возле Хельсинки тебе землю не продадут, – сказал Пекка. – А если и назовут цену, то на ногах не устоишь.
– А здесь не меньше пяти гектаров надо иметь, чтобы снимать все нужное для самих себя и скотину держать.
– Но здесь тебе и не продаст никто, – сказал Пекка.
– Нет, не продаст, – согласилась жена. У всех соседей та же беда, что и у нас.
– Говорят, возле Корппила можно купить землю, – сказал Пекка.
– Вот бы хорошо! – сказала жена.
– Хорошо-то хорошо, но это станет в четыреста тысяч, если не в полмиллиона марок.
Жена вздохнула и, плеснув мальчикам в кружки остатки молока, принялась убирать со стола. Чтобы подбодрить ее, Пекка сказал:
– Ладно. Выберемся.
Но жена еще раз вздохнула, и в голосе ее была жалоба, когда она сказала:
– Пора бы уж. На таком клочке одному дай бог прожить. И не земля это, а горе. В одной части голый песок, в другой – голая глина. Только на картошке и держимся. Да и мне бы тоже спину разогнуть пора. Три года – и все одна, все одна. И дети на мне оказались в самом трудном возрасте. Теперь хоть скоро к работе можно будет приучать. А я одна билась.
– Ладно, Хенни, – сказал еще раз Пекка. – Теперь все наладится. На пять гектаров нам нужно наколотить– в этом все дело. Считай, что на полтора гектара мы выручим с продажи нашего участка и даже на два, если целину купим. А на остальное вот эти руки добудут. Начнем с болота Эмиля Хаарла.
Но именно болото Эмиля Хаарла оказалось тем самым, что вернуло мысли Пекки Хильясало к русскому колхозу «Луч».
Первый день все шло хорошо. Он обновлял старую канаву, срезая острой лопатой с ее боков наплывы и углубляя дно. Эта работа была ему приятна тем, что быстро подвигалась вперед. За половину дня он продвинулся по следам своей былой работы на такую длину, какую перед войной с трудом прокапывал за два-три дня.
Сам Эмиль Хаарла пришел полюбоваться его работой. Спустившись от своей усадьбы на заливные луга, он постоял немного у того места, откуда канава брала свое начало, и посмотрел вдоль нее в сторону болота, где над ее продолжением трудился Пекка. От него до Пекки канава выглядела такой, словно ее только что прокопали заново. Темно-коричневые срезы торфа на ее боковых скатах все утолщались по мере удаления канавы в сторону болота, а срезы глины все убывали, образуя только нижнюю часть канавы, на дне которой поблескивала вода.
Канава протянулась прямая, как стрела, и Пекка выбросив наверх очередной пласт влажной глины, проверил ее ширину у верхнего края и глубину, подержав для этого свой метровый черенок лопаты поочередно в горизонтальном и вертикальном положении. Дно канавы он измерял двойной шириной железной части лопаты. Все шло гладко в его работе. Увидев подходившего к нему хозяина, он выбрался из канавы и закурил трубку. Хозяин приблизился к нему, неторопливо передвигая длинные ноги в тяжелых сапогах, и сказал тихим голосом:
– Для первого дня дело неплохо идет как будто?
Вид у него был такой, словно он стеснялся немного того, что заставил на себя работать чужого человека, и своими словами старался прикрыть это стеснение. Пекка указал ему подбородком на ту часть канавы, которую еще предстояло очистить. Чем дальше она шла к середине болота, тем больше виднелось в ней воды. И он сказал ворчливо своим басовитым голосом:
– Там было бы легче копать новую, чем очищать старую.
– Да, пожалуй, – согласился Хаарла, помедлив немного, и в его тихом голосе прозвучало такое, словно он признавал виноватым себя за эту воду, что набралась в канаву за три года. И как бы в оправдание своей вины он добавил – Зато от середины болота дальше поведешь новую. Только просеку сквозь кустарник делай не уже трех метров, как договорились.
– Да, – сказал Пекка. – Но еще хватит возни со старой.
И его левая ладонь осторожно прошлась по правой руке выше локтя. Он так ретиво действовал в этот день лопатой, что больная кость руки вдруг снова напомнила о себе. Он имел обыкновение держать черенок лопаты в ее нижней части правой рукой, и это ее утомило. В лопату попадали не только торф и глина, но и камни. Некоторые из них весили немало. А выбрасывать их на высоту метра приходилось той руке, которая держала лопату внизу. Кроме того, лопатой же приходилось обрубать корни молодых кустарников, давших первые побеги три года назад. И в этих случаях каждый удар лопатой отзывался в больной кости правой руки.
– Пойдем к нам обедать, – сказал тихо Хаарла.
– А? Нет. Зачем же, – возразил Пекка. – Мне старший мальчик сюда принесет обед.
– Ничего, пойдем. Ради первого дня пообедаем у нас, – повторил, застенчиво улыбаясь, Эмиль Хаарла.
Он был выше Пекки на полголовы, если брать за мерку его собственную голову, словно бы нарочно непомерно удлиненную от подбородка к выпуклому лбу. А если бы меркой служила небольшая квадратная голова Пекки, то разницу в росте можно бы обозначить почти целой головой. Зато туловище Хаарла, обтянутое желтым свитером, выглядело тоньше, чем у Пекки, что не было, однако, признаком его хилости. Свисающие с узких плеч жилистые руки заканчивались такими крупными кистями и ладонями, которые ясно показывали, что этот человек хватил на своем веку работы.
Он спрятал эти ладони в карманы и тем же тихим голосом повторил свое приглашение. Пекка обтер мохом запачканные глиной сапоги, и они пошли через заливные луга в сторону главного бугра, на котором стоял дом длинного Эмиля. С главного бугра они оглянулись на болото, и оно предстало перед ними полностью в окружении возделанных бугров, поросшее из конца в конец ивняком и мелкими березками, уже потерявшими свою летнюю одежду. Эмиль сказал своим неторопливым, тихим голосом:
– Когда эта канава пройдет до конца, через нее поперек проведем еще две канавы. А если и это не поможет, еще добавим. Работа тебе будет и после зимы.
– Ого, – сказал Пекка. – Это тебе гектаров шесть новых лугов.
– Не только лугов, – ответил Эмиль. – Попробую и посевы. Вон там у меня тоже было болото. А после осушки уже два раза снял овес, ячмень и тимофеевку.
– У тебя, я смотрю, ни одного метра даром не пропадает, – сказал Пекка.
– А у тебя разве пропадает?
– У меня? Из полутора гектаров? Да они у меня вот! – И Пекка вытянул ладонь, разогнув и согнув на ней пальцы – словно беря что-то в горсть. – А у тебя пятьдесят семь.
– А у меня они тоже вот, – сказал тихо Эмиль, потупив слегка от застенчивости взгляд своих выпуклых зеленых глаз и тоже вытягивая вперед ладонь, размерами покрупнее, чем у Пекки. И этой же ладонью он сделал движение, предлагающее посмотреть вокруг.
Пекка посмотрел. Действительно, все поля были удивительно ладно пригнаны друг к другу у Эмиля Хаарла, и дороги по ним были проложены очень экономно в обход пашням. Каждый луг имел свой сарай для сена. Поля, служившие для его стада дополнительным пастбищем до сенокоса, теперь были распаханы и засеяны озимой рожью и пшеницей. Они уже зеленели сплошными зелеными коврами, получив нужную долю удобрения. Картофельные поля были полностью убраны, несмотря на то, что занимали довольно большое место среди земель Хаарла. Ботва на них лежала в аккуратных кучах, готовая к тому, чтобы весной просохнуть и быть сожженной для дополнительного удобрения.
Рядом с картофельными полями шла уборка турнепса и кормовой свеклы. Этим занимались женщины, приглашенные из соседних мелких хозяйств. Немного далее работник Эмиля распахивал под зябь те из сжатых полей, которые не получили семян клевера. А на жнивье, засеянном весной клевером, уже давшим за лето первую нежную зелень, теперь свободно паслись медлительные от сытости коровы и овцы. Их стало больше у него за время войны, и это заставило его выстроить рядом с каменным коровником новое хранилище для корнеплодов, над которым сейчас трудились два плотника, взятые из соседней деревни.
Сам Эмиль был мобилизован лишь в последний год войны во время летнего наступления русских и сразу же отпущен после заключения перемирия. Это помогло его хозяйству сохраниться в образцовом состоянии.
Пекка совершил на месте полный круг, обозревая его владения. Эмиль избрал для своего дома такой бугор, откуда мог видеть самый отдаленный кусок своей земли.
– Отсюда и твоя земля видна, – сказал он. – Видишь?
– Да, отозвался Пекка. – Сдается мне, что ты и ее охотно пристегнул бы к своей.
– Это можно бы, – застенчиво ответил Хаарла. – Ты скажи, когда будешь собираться отсюда.
– Но ведь между нами лежат участки Корвинена и Раутио.
– С ними молено будет устроить обмен.
– А ты сам не продашь гектара три, чтобы мне не уезжать?
– Нет, я землей не торгую.
– Только покупаешь?
– Да, не хватает мне еще немного для одного дела, – с виноватым видом признался Хаарла, кладя свой длинный подбородок на грудь и глядя в сторону.
– Сколько же тебе надо? До войны ты уже купил участки у двух уехавших отсюда малоземельников. Вчера вдову Лойминен уговаривал продать ее гектар и тоже уехать в город. А теперь и от моего клочка не отказался бы.
– Кто откажется от лишнего гектара? – сказал кротко длинный Эмиль. – Разве ты сам не хотел бы прибавки к своему бугру?
– Я?
Пекка даже не знал, что ответить на это – настолько не подходило сказанное Эмилем в равной мере к ним обоим. И пока он моргал глазами, осмысливая услышанное, Эмиль добавил, как бы в оправдание своей корысти:
– Такая уж у человека природа, чтобы желать постоянно приобретать все больше и больше. Это вложено в него самим богом, и не нам это изменять. Но оно и есть самое главное, что помогло человеку подняться. Только любовь к собственности дала ему силу сделать на земле то, что он сделал. Это ты и по себе можешь видеть.
– Я?
– Вот здесь, например, был когда-то совсем дикий край. Одни лесистые бугры и болота между ними. А мы превратили их в плодоносящие поля, работая каждый на своей доле земли и думая только о ней. Разве не так?
– Да, так, пожалуй. Да, – согласился Пекка. – Только вот, если бы эти доли были ровнее…
– Но, обрабатывая каждый свою долю и думая только о ней, мы обжили и сделали полезным для страны целый край.
– Да, да. Но если бы…
– Вот какие результаты получаются, когда человек работает на своей собственной земле, а не на чужой, как в советской России. Там таких превращений не может быть. У них там огромные пространства земли лежат пустыми в их Сибири и Средней Азии и будут лежать. А если бы они отдали своим людям в собственность по гектару, по два, то лет через десять-пятнадцать эти земли стали бы такими же полезными и обжитыми, дающими людям хлеб.
– Да, – сказал Пекка, продолжавший думать о своем. – Собственность – это хорошо. Но плохо, когда она у многих до того мала, что даже не кормит, а у некоторых…
– Все мы через это прошли, – поспешил сказать Хаарла и повернулся, чтобы идти к дому.
Но Пекка был из тех, которые непременно договаривают начатое слово до конца, и потому сказал, зашагав рядом с хозяином:
– А у некоторых она, пожалуй, крупнее, чем надо.
– Никому в Суоми не запрещается прибавлять к своей собственности сколько он желает, – сказал Эмиль.
– Так-то оно так, – ответил Пекка. – Но сколько бы иной не желал, а прибавка всегда уходит к таким, как ты, у кого и без того много. А у кого мало, тот обыкновенно последнее теряет вместо прибавления.
– У тебя прибавится, – заверил его Эмиль Хаарла.
Да, в этом все было дело, чтобы прибавилось. В этом было все дело. И, сидя за столом Эмиля Хаарла, Пекка думал о том, что другого пути у него нет. Он должен добиться, чтобы все в жизни у него пошло как у Эмиля Хаарла. Не с теми должен совпадать его путь, кто теряет последнее, а с теми, кто умеет прибрать это последнее к своим рукам. Все те малоземельщики, что населяли Суокуоппа и владели участками от одного до четырех гектаров, не могли питать надежду на лучшую долю. С одной стороны к ним подступала хорошо обработанная богатая земля Эмиля Хаарла. С двух других сторон их подпирали без малого такие же богатые земли рыжего Карху и веселого толстяка Валкеакоски. С четвертой стороны подпирало озеро.
Улучшение доли для них означало прибавление земли. Но откуда могло прийти это прибавление? Трое крупноземельных, взявшие их в кольцо, не были похожи на благодетелей и не собирались наделять никого дополнительной землей. Так устроен человек. Чем больше он имеет, тем труднее ему этим делиться. Оставалось ждать, чтобы разорился кто-нибудь из своих же мелких соседей. Но в таких случаях земля разоренного уходила почему-то прямиком к одному из крупноземельных. Пекка только руками разводил, наблюдая это. Из восемнадцати мелкоземельных крестьян, населявших когда-то Суокуоппа, осталось одиннадцать. И земли исчезнувших не обогатили никого из оставшихся малоземельцев. Они прилипли к трем крупным землям, лежащим вокруг.








