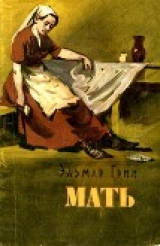
Текст книги "Мать
Рассказы"
Автор книги: Эльмар Грин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Он лежал, как она его положила. И опять кровь проступила в уголке его рта. Она обтерла ему рот и осторожно передвинула неподвижное тело на середину постели. Оставалось накрыть его одеялом и оставить в покое. И, накрывая, она еще раз всмотрелась в него с материнским участием. Как много было в нем схожего с ее Вяйно! Все такое же молодое, нетронутое. Нежная кожа, гибкие мышцы. Давно ли они перестали быть совсем ребячьими? В памяти ее на мгновение мелькнул сын таким, каким он был в самом раннем возрасте. Сколько раз она мыла его здесь, в этой бане, тепленького, мягонького, пушистенького. Потом он подрос и уже сам стал взбираться на верхний полок, прося похлестать его веником. И в эту пору ей тоже приходилось его мыть, ибо разве можно было доверяться небрежному к чистоте мальчугану?
Так он рос изо дня в день у нее на глазах, и редкая суббота проходила без того, чтобы она не ощутила своими ладонями его теплого, упругого тела. И постепенно он превратился в юношу. Она и не заметила, как это произошло. Для нее он всегда оставался ребенком, даже тогда, когда взял на свои плечи всю мужскую работу по хозяйству. Но сам он этого не считал. И скоро она стала замечать, что он старается вымыться в бане раньше ее, пока она еще занята кое-чем по хозяйству. Когда она появлялась в бане, он обычно уже одевался. Сначала она думала, что это происходит случайно, но потом поняла, что он стесняется ее. И это наполнило ее грустью. Она поняла, что это родное для нее тело перестало принадлежать ей. К другой обладательнице предназначено ему было скоро перейти в полную власть. И она уже заранее чувствовала тайную неприязнь к той, другой, еще пока неведомой будущей владелице ее кровного дитяти.
И, стремясь продлить свое материнское право собственности над ним, она пускалась на хитрость, чтобы иной раз как бы невзначай приласкаться к нему, обнять за плечи, шлепнуть по спине, взъерошить волосы, притянуть к себе его руку, прижаться щекой к его щеке. Однажды она пришла в баню раньше, чем он успел оттуда выйти. Она разделась в предбаннике и вошла внутрь в то время, когда он еще окачивался из шайки чистой водой. Пропуская ее мимо себя, он посторонился, а потом поставил шайку на скамейку и заторопился к выходу. Но она спросила:
– А ты свежим веником парился или старым?
– Свежим, – ответил он. – А что?
– Да так просто. Я забыла сказать, чтобы ты свежий взял с чердака. А ты сам догадался. Ну и ладно, А мыла хватило тебе?
– Хватило.
– А где оно?
– Вон там, в конце скамейки.
И, отвечая так, он избегал смотреть на нее, но сам стоял перед ней, как и прежде, без всякого стеснения, нагой и влажный. Он даже шагнул мимо нее к тому месту, где лежали мыло и мочалка. А она делала вид, что действительно интересуется этими вещами, но сама любовалась и любовалась им. Ведь оно из нее вышло, это живое красивое чудо. Это ее плоть и кровь из маленького, теплого комочка преобразились неведомо как в этакую крепкую, стройную радость, на которую она не могла наглядеться. И она любовалась им, переполненная счастьем. А он не понимал этого, глупый. И когда он снова направился к выходу, она спросила:
– А где же ты ковшик положил?
– Ковшик? – Он обернулся и, к великой ее радости, сделал несколько шагов назад, озабоченно осматривая скамейку и обе ступени, ведущие наверх. – Да ведь тут он был только что. Ах да! На верхний полок я его затащил. Вот он.
– А зачем ты его туда? – спросила она просто так, чтобы еще немного удержать его возле себя.
– А я его с водой туда взял, чтобы прямо, не слезая, оттуда на каменку плеснуть.
– Ишь ты, хитрый какой! Ну и как же, получилось у тебя?
– Да. Свесился немного и прямо туда наискосок плеснул.
И, говоря так, он встал одной ногой на нижнюю ступеньку, а другой на следующую и в таком положении дотянулся до ковша, лежащего наверху. А она с тайной гордостью любовалась красотой и гибкостью его юного тела и, видя, что он не разгадал ее материнской хитрости, наивно полагая, что все дело в ковше, думала про себя: «Глупый ты мой. Родной мой».
– Вот возьми, – сказал он, протягивая ей ковш ручкой вперед, изогнувшись в ее сторону и на этот раз прямо взглянув на нее, забыв о стеснении. Она взяла ковш с таким видом, словно только он ее и заботил, а сама украдкой следила за тем, как он спускается вниз, как повернулся к ней спиной и вышел в предбанник, высокий и гибкий, созданный ею, единственный, неповторимый, родной, так и не разгадавший ее хитрости.
Случалось ей иной раз просто так прильнуть к нему в тихий вечерний час, когда все по хозяйству уже сделано: стол после ужина прибран, и вымытая посуда опрокинута на теплой плите. Он усталый присаживался на скамейку у окна, обдумывая, что надлежит сделать завтра. Еще бы! Он же был хозяином в доме. А она потихоньку пристраивалась рядом, обняв его за плечи и делая вид, что с той же озабоченностью обдумывает порядок дел завтрашнего дня, но сама только любовалась им сбоку и прислушивалась к его голосу, не вникая особенно в суть его слов. Не то было для нее важно, как пройдет завтра работа. Да бог с ней, с работой! Хорошо она пройдет и радостно. Это она знала наперед. И весь день будет радостный и ясный, потому что с ней был он, ее сын. А еще прекраснее было то, что он в эту минуту сидел с ней рядом, ее родной, единственный, и произносил что-то своим басистым голосом, который так недавно у него установился и сквозь который все еще проникал прежний высокий, звонкий тон, так долго услаждавший ее слух.
Он говорил, глядя в окно на дым овина, и она делала вид, что всматривается туда же. А чтобы найти повод положить ему руку на плечи, она сначала смахивала с них какую-то несущественную соринку. И, положив руку на его плечи, она делала вид, что, в свою очередь, пытается всмотреться через окно в то же место, куда всматривается и он. А это давало ей повод заодно приблизить и свою голову к его голове. И что ей еще было надо на свете?
И прислушиваясь к милому звуку его голоса, она в то же время думала: «Родной ты мой глупыш. Басишь, гудишь и вид какой солидный уже напускаешь на себя. А давно ли ты крохотным комочком был? Весь на двух ладонях умещался. Пищал, плакал, ножонками дрыгал и лепетал невесть что. А теперь туда же– басит, как большой. А сам еще совсем теленочек, глупый-преглупый».
И она испытывала неизъяснимое чувство счастья, прикасаясь к тому, что когда-то было частью ее, да и теперь было от нее неотделимо, хотя и увеличилось в размерах, беря теперь для своего роста уже не ее соки. В ее материнском сердце он был тем же маленьким, беспомощным комочком, нераздельным с ней. Но пусть он не знал этого. Где ему это понять. Зато она знала и понимала и была счастлива этим. И, не вникая в его слова, она прислушивалась к его голосу и говорила: «Да, да».
– Через полчаса я пойду и подкину еще несколько полен, – говорил он.
– Да, да, – соглашалась она. – Подкинь.
– Думаю, что этого хватит, – продолжал он. – Час тому назад я потрогал снопы. Они уже не такие влажные. А те, что ближе к печи, почти совсем сухие.
– Да, – кивала она. – Да.
И грудь ее при этом касалась его плеча, подбородок прикасался к его затылку, а ноздри вдыхали запах его светло-русых волос, такой знакомый, близкий, родной с давних лет запах.
И теперь нет его. Совсем нет. И не будет. Он умер героем, как сказано в извещении. А был он такой же юный и несмышленый, как этот бедняга. Но ведь и этот может умереть на горе своей матери. Ведь есть же у него она где-нибудь в Кякивуори или в Мустаниеми. И она ждет его там и не дождется. Она долго и терпеливо ждала от него писем. Но кто будет писать своей матери письмо с признанием, что он бежал с фронта? Боже мой, не всем же быть храбрыми! А мать ждет. Что еще остается матери, как не ждать? И ждет напрасно. Она даже не получит извещения о том, что он пал героем. Не героем он пал. Свои его пристрелили, чтобы не прятался в лесу, когда другие воюют. А она ждет. И вдруг он совсем не вернется к ней? Это вполне может случиться, если его никто не спасет. Но что тогда станет с матерью? Об этом подумал кто-нибудь или нет?
Стоя на второй ступеньке банного полка, она склонилась над юношей и взяла в ладони его безжизненную голову, всматриваясь в лицо. Совсем юное лицо и почти такое же округлое, как у Вяйно. Только щеки слегка опали. Все они так похожи друг на друга в этом возрасте. Давно ли он и бриться-то начал? Раз в месяц ему, наверно, достаточно, если не реже. Проведет слегка бритвой туда-сюда и ходит недели три-четыре с гладким подбородком, как ходил ее Вяйно.
А есть ли у него мать? Может быть, и нет ее? Один только отец, да и тот на войне? А может быть, у него и отца нет? Что, если он один на свете? Ведь может и так быть. Бедный мальчик. Непременно надо его спасти. Кто же о нем позаботится, если у него матери нет?
До вечера она несколько раз пыталась влить ему в рот бульона, но так и не могла понять, проглотил ли он хоть каплю. Каждый раз все вытекало изо рта обратно на подушку. Оставалось только дожидаться, когда он придет в себя. В надежде на это она поминутно забегала в баню, отрываясь от своих дел.
После того как Тауно пригнал коров и овец, а Вилли привез пустой бидон, она быстро выполнила все вечерние дела по хозяйству, но спать не легла. Завесив черной суконкой окошко бани, она включила в ней свет и развела огонь под котлом с водой. И весь вечер она почти не выходила из бани, выжидательно всматриваясь в бледное, неподвижное лицо юноши и поправляя в печке огонь. Уйти спать в дом она не решалась. Юноша мог без нее очнуться, испугаться и, чего доброго, упасть с полка. Сначала она прихватила из дому вязанье и некоторое время занималась им, но позднее сходила в дом еще раз и принесла полушубок, подушку и чистый половичок. Расстелив это на скамейке возле затемненного окошка, она прилегла, погасив свет, но заснула только перед утром и то часа на полтора.
Проснувшись в полной темноте, она испуганно вскочила и первым долгом включила свет, всматриваясь в лицо юноши. Оно было неподвижно, и голова его сохраняла то же положение, в каком оставалась вчера. Однако он дышал, правда очень слабо и с легким хрипом, но все же дышал. Выключив свет, она вышла в предрассветную прохладу ночи, чтобы проверить, все ли благополучно в ее владениях. Все было на месте, и Пейкко добросовестно бодрствовал, о чем немедленно дал ей знать, подбежав с легким радостным визгом к ее ногам. Она взяла в доме горшок с цветком алоэ, пузырек с йодом и вернулась в баню.
Там при свете лампочки, укрепленной над окошком, она снова перевязала его раны, приложив, где нужно, свежие пласты алоэ и где нужно добавив йода. Раны почти не изменились, но две из них еще кровоточили. Кончив перевязку, она с тревогой пересчитала оставшиеся листья алоэ. Их вряд ли хватило бы еще даже на один раз. Йод в пузырьке тоже заметно поубавился. Надо было подумать, как пополнить запас. Она подумала и придумала.
Подоив, как обычно, коров и прогнав их вместе с овцами к стаду Сайми, она вернулась в дом и обмотала себе полотенцем правую ногу ниже колена, после чего опять натянула на нее чулок. Не затапливая печи, она наполнила утренним молоком свой десятилитровый бидон и, взяв его на плечо, понесла к Сайми сама, не дожидаясь приезда Вилли. Когда дом Сайми оказался на виду, она вспомнила о своей перевязанной ноге и начала слегка прихрамывать. Нехорошо это было перед богом, но что же делать? Остроглазая Сайми, конечно, сразу заметила это и спросила:
– Что это с тобой?
И, продолжая задуманное ею грешное лукавство, Вилма ответила:
– Да вот, ударилась в темноте и ободрала.
Может быть, она покраснела, сказав это, но кто бы заметил? И без того ее скулы разрумянились до предела, пока она шла к Сайми со своей нелегкой ношей. Сайми сказала:
– Ай-ай-ай! Как же это ты так?
И Вилма развела руками:
– Да уж и сама не знаю. Поторопилась, поскользнулась…
– Очень больно?
– Да вроде того. Боюсь, не воспалилось бы.
– Зачем же ты сама молоко-то понесла?
– А я у тебя столетник пришла взять, если дашь. Мой погиб вчера. Кошка на горшок прыгнула, и он свалился на пол. Я пришла и наступила нечаянно. Он и не прижился больше. Возьму твой горшок, ладно? Что останется, верну.
– Бери, бери. У меня же их два.
– И йоду на всякий случай дай капельку. Хватилась я – и нет его.
– Да возьми, конечно, отлей себе.
– И хотела я еще попросить Вилли купить в аптеке бутылочку риванола, если достанет. Вот деньги.
– Ладно. Скажу ему. Обязательно.
Сайми была рада сделать что-нибудь полезное для своей соседки, на которую свалилось такое страшное горе. У нее самой дети, слава богу, не доросли до этакой напасти. Да и муж уцелел на Северном фронте. И, радуясь тому, что Вилма отрешилась наконец от своей молчаливой удрученности, снова проявляя живость и разговорчивость, она была готова поддержать ее в этом состоянии чем угодно.
– А помочь тебе не надо в хозяйстве? – предложила она.
– Нет, что ты! – отмахнулась Вилма. – Я же хожу, видишь? Да и руки здоровы.
– А баню протопишь в субботу?
И тут бедная Вилма, и без того уже осквернившая свои уста заранее подготовленной ложью, осквернила их еще раз.
– Баню? – сказала она. – Да уж и не знаю как. Что-то там стряслось у меня. Кирпич в трубе обвалился, что ли. Попробовала нагреть воду для стирки – дымит. Надо будет почистить, и потом уж…
– Хочешь, я старому Урхо скажу? Он быстро починит.
– Нет, нет, не надо! Зачем? Я сперва сама посмотрю. Не надо его пока тревожить.
– Ну как хочешь.
Возвращаясь домой, Вилма мысленно просила бога простить ее за совершенный грех. Ведь ради жизни человека все это делалось. Ради финского мальчика, ни в чем не повинного. Кому, как не ей, матери, только что потерявшей своего собственного мальчика, заняться его спасением? Разве можно это доверить тем, для кого главное – военные законы, а не человек?
Придя домой, она сразу же побежала в баню. Юноша лежал в том же положении, в каком она его оставила, и в его слабом дыхании слышался тот же хрип. Растопив печь, она зарезала самого крупного из молодых петушков и половину его пустила на бульон. Но до самого вечера она напрасно держала бульон подогретым. Юноша в сознание не пришел.
Ближе к ночи она снова перевязала его раны. С рукой дело обстояло благополучно. Йод выполнил свое назначение. Рана на внутренней стороне бедра тоже не изменилась. Вилма перебинтовала бедро, не отрывая присохшей тряпочки от раны. Не то было с поврежденной костью у лодыжки и с простреленным боком. Особенно тревожила ее та рана под лопаткой, где пуля вышла. Вокруг раны образовалась легкая краснота и появилась припухлость. Но это могло произойти оттого, что пласты алоэ сместились и не подействовали. Она опять прикрыла обе раны на груди плотным слоем листьев алоэ, разрезанных вдоль, и аккуратно прихватила их бинтами. Такую же повязку она наложила на рану у щиколотки.
Неизвестно, что повлияло на его состояние, может быть ее руки, которыми она приподнимала его туловище, протаскивая под ним бинт, но в его дыхании появилось что-то неспокойное. К легкому хрипению присоединился как бы чуть заметный стон, а на губах выступила розовая пена. Боже мой, как ему плохо, бедному! Она смотрела на его опавший живот и думала, правильно ли она поступила, не дав знать о нем властям? Может быть он и не умер бы там? А здесь он может умереть. Как восстановить его силы, если он неспособен глотать? В таких случаях человеку вливают в жилы глюкозу или кровь. А у нее он ничего не получает. Имеет ли она право так рисковать его жизнью? И в то же время как довериться тем, для которых он только дезертир, и все?
Вилма с тревогой всматривалась в это юное безжизненное лицо, и в ее материнском сердце к старой грызущей боли прибавилась новая боль. Не могла она спокойно видеть страдания человека. Кому и терзаться этим, как не матери? На то и создал ее господь. И всегда на ней первой отзывалась та жестокость и нелепость, с какой люди устроили на земле свою жизнь, данную им богом для разумных и радостных дел. Они сами же губят свой лучший цвет. Гибнут самые крепкие мужи и самые красивые юноши, едва достигшие расцвета. Но кто создал их? Над этим хоть раз призадумались ли они, убивающие? Когда негодный Каин убил своего брата, то на кого первого пало это горе? На мать. Но кто вспоминает это убийство как удар по сердцу матери? Никто не вспоминает его так. Одной матери дано воспринять каждое убийство человека именно таким образом.
Стараясь придать юноше более удобное положение, Вилма заметила, что его дыхание становится легче, когда она поворачивает его на бок. Сообразив, что боль ему могло причинять давление на рану, она повернула его на левый бок. Но в этом положении он оставался, пока она придерживала его руками. Стоило ей отнять руки, как он снова валился на спину. Тогда она сама прилегла рядом с ним, позади его спины, обняв его поверх одеяла. Так она лежала до утра, уткнувшись лицом в его теплую шею и с радостью ощущая, как дыхание его становится ровнее и спокойнее. Но усталость брала свое, и она то и дело засыпала. В такие минуты ее рука соскальзывала с его плеча и его тело начинало понемногу отваливаться от нее. Она просыпалась, полная страха за него. Ведь без ее поддержки он мог уткнуться ничком в подушку и задохнуться. И снова она тянула его на себя, придерживая на боку и вдыхая запах его тела.
Под утро она принесла из дому все остальные подушки и с их помощью уложила его так, чтобы на повязку, охватывающую его грудь, ничто снизу не давило. Сделав это, она поспешила к своим хозяйственным делам. Скоро приехал за молоком Вилли. Он передал ей бутылочку с риванолом. Отправив его, она взяла из топившейся печи кастрюльку с вчерашним подогретым бульоном и поспешила в баню. И, не успев еще перешагнуть порог затемненной бани, она уже почувствовала, что произошло какое-то изменение. Сердце ее наполнилось надеждой и тревогой. Поставив на окно кастрюльку с бульоном, она включила свет и взглянула вверх. Да, она угадала. Юноша пришел в сознание.
3
Некоторое время его сомкнутые ресницы трепетали, потревоженные светом. Видно было, что в полумраке он уже открывал глаза и теперь снова их сощурил. Но постепенно они раскрылись опять, и в них затаился вопрос. Она поднялась на вторую ступеньку и склонилась к нему, переполненная радостью.
– Ну, как себя чувствуешь, мой мальчик? – спросила она тихо. – Удобно тебе? Не больно?
Она сказала это полушепотом, приблизив лицо к его лицу. И тут в ее сознании отметилось, что глаза у него были точно такие же голубые, как у ее Вяйно. В них мелькнуло изумление и беспокойство, когда он услыхал ее речь. Окинув ими внутренность бани, он снова задержался взглядом на ее лице, словно изучая его. Она смотрела на него с улыбкой, ожидая его слов. Это была хорошая, ласковая улыбка доброй женщины, улыбка матери, жаждущей излить на кого-либо избыток своей любви. Нельзя было не откликнуться на эту улыбку. И юноша откликнулся. Губы его слегка дрогнули и даже приоткрылись, как бы собираясь произнести что-то. А она прошептала поощрительно:
– Да, да, мой мальчик. Я слушаю. Скажи хоть одно слово, и довольно, если тебе трудно. А я пойму остальное. Я же знаю, что ты из тех, кто не захотел драться с этими проклятыми русскими. Но мне ты можешь довериться. Я вам не враг.
Но его губы вдруг снова сомкнулись, а в глазах затаилась настороженность. Она не разгадала их выражения, переполненная заботой о нем, и, объяснив его молчание слабостью, сказала торопливо:
– Ну, не надо, не надо говорить. Я вижу, трудно тебе. Успеется. Потом расскажешь все. А сейчас бульону выпей.
Бульон был еще горячий. Она отлила из кастрюльки немного в чайную чашку и, поднявшись к нему наверх, стала вливать ему в рот понемногу с помощью чайной ложки, придерживая одной рукой его голову. Он глотал с жадностью, но она не решилась дать ему больше одной чашки. Поправив под его спиной подушки, она сказала:
– Поспи теперь немного. Отдохни. А потом я тебя перевяжу.
Он действительно скоро заснул и проспал часа три. А она терпеливо выжидала, когда откроются его глаза. За это время она успела еще раз подогреть бульон и поставить в печь вариться новый, из второй половинки петушка. Проходя через дверь, она присматривалась к молодым петушкам, намечая самого крупного из них для очередного бульона.
С горячим бульоном она пришла в баню и постояла немного на нижней ступеньке полка, глядя в лицо спящего. Сои его был тревожный. Это чувствовалось по легким стонам и выражению страдания, пробегавшему по его исхудавшему лицу. То ли одолевали его страшные сны, то ли пронизывала боль, вызванная ранами. И когда он открыл глаза, она скормила ему вторую чашку бульона, а потом принялась за раны.
Они мало изменились за ночь. Прежде всего она развернула повязку на руке. Кусок чистой тряпочки под ней успел присохнуть к ране. Вилма внимательно осмотрела кожу вокруг тряпочек, прикрывавших места входа и выхода пули. Воспаления не было видно на бледной коже, и Вилма не стала отрывать тряпочки, снова обернув руку бинтом. На внутренней стороне бедра рана тоже подсыхала, не воспаляясь. Оставалось лишь оберегать ее и не тревожить.
Значительно хуже обстояло дело с лодыжкой. Ранка над ней была едва заметная, но все опухло под кожей сантиметров на десять в окружности и посинело. Лист алоэ здесь ничем не помог. Он только не дал прилипнуть к ране кусочку тряпки. Она приложила к этому месту свежую, сложенную вчетверо тряпочку, обильно смоченную риванолом. Юноша вздрогнул. Эта рана была для него, кажется, самая болезненная. Пока она перевязывала ему руку и бедро, он лежал неподвижно, закрыв глаза и лишь изредка взглядывая на нее, явно стесняясь того, что чужая женщина прикасалась к его обнаженному телу. А когда она прикоснулась к его поврежденной лодыжке, он вздрогнул, зашипел и стиснул зубы от боли. При виде этого сердце ее переполнилось жалостью и состраданием.
– Потерпи, милый, – сказала она. – Потерпи.
Бережно обернув его ступню самодельным бинтом, она осторожно уложила ее на прежнее место и передвинулась ближе к его груди, где была самая трудная для перевязки рана. Он все еще тяжело переводил дух и лежал, запрокинув голову и сжимая зубы. Она подождала немного, глядя на него с бесконечным состраданием.
– Бедный ты мой, – сказала она, положив свою жесткую, натруженную ладонь, на его влажный от пота лоб. – Но потерпеть надо, мой мальчик. Нельзя же оставить раны без внимания. Сами по себе они не заживут. Воспалиться могут.
И с той же нежной настойчивостью она принялась разбинтовывать ему грудь. Листы алоэ не позволили повязке присохнуть, но красноты вокруг задней ранки не убавили. Зато передняя осталась без изменения. Значит, к передней ранке можно опять приложить лист, а к задней риваноловую примочку. Она заранее это все приготовила и разложила у его постели.
– Ты не мог бы присесть? – спросила она.
Юноша не ответил. Она повторила свой вопрос. Но вместо ответа он закрыл глаза. Тогда она сама придала ему сидячее положение. Упираясь грудью в его плечо, а щекой и подбородком в шею и затылок, она взяла одной рукой тряпочку, смоченную в риваноле, и приложила к ране на спине, прижав сверху кусочком пергамина. Придерживая эту тряпочку одной рукой, она другой взяла тряпочку с пластами листов алоэ и приложила к передней ране. Теперь обе ее руки были заняты придерживанием этих тряпочек на ранах, а грудью, подбородком и щекой она продолжала подпирать его сзади, удерживая в сидячем положении. Теперь нужно было обернуть вокруг его туловища несколько раз повязку. Но чем ее взять?
– Ты не мог бы придержать вот так обе тряпочки? – спросила она.
Он промолчал, тяжело и часто дыша от боли. Нет, он не мог, конечно. Он даже сидеть не мог – так он обессилел. Стоило ей хоть слегка ослабить нажим грудью и щекой на его спину, как все его тело начинало отклоняться назад. Напрасно она вообще его приподняла. Лучше было бы перевязать его в лежачем положении, как прежде. Она немного помедлила, приткнувшись щекой к его затылку и вдыхая запах его теплого тела, потом осторожно растопырила пальцы одной руки так, что они захватили и прижали обе тряпочки. Эти раны не были далеко друг от друга. Про них можно было сказать, что обе они были у него на боку, а не спереди и сзади. Это и поддерживало в ней надежду на то, что пуля, проскочив между ребрами, очень слабо задела легкое.
Придерживая растопыренными пальцами одной руки обе наложенные на раны тряпочки, она другой рукой подвела к ним конец бинта, прижала его свободным пальцем и обернула вокруг туловища. Сделала она это с большой тщательностью, чтобы не сместить наложенные на раны тряпочки. В то же время ей приходилось поддерживать юношу грудью и щекой со стороны спины, чтобы не дать ему упасть навзничь. Обернув бинт несколько раз вокруг его туловища, она дважды перехлестнула им через его плечо и после этого стала действовать обеими руками. Закончив перевязку, она обхватила его за плечи и осторожно опустила на постель.
– Устал? – спросила она, сама вся потная и красная от усилий. И, вытирая лицо полотенцем, добавила: – Ну, теперь отдыхай опять до утра. Тебя как звать? – И, не получая от него ответа, она ласково провела ладонью по его волосам и еще раз повторила: – Как звать тебя? Мне-то уж мог бы имя свое сказать. Разве я выдам?
Но он вместо ответа опять закрыл глаза. Лицо его было бледно, все еще сохраняя выражение боли, и скулы как будто обострились. Он очень заметно исхудал за эти два дня. И боже мой, как опал у него живот! Под нажимом ее ладони он раздался и опустился еще ниже, хотя ему уже некуда было опускаться. Ей показалось, что она ощутила позвоночник сквозь пустоту его живота. Бедный мальчик! Сколько же дней он голодал еще до того, как попал к ней? Да еще у нее двое суток лежал без пищи. И надо же до такого состояния довести человека! Как можно! Это же чудо господне – человеческая жизнь, человеческое тело! Сколько в нем красоты – и вдруг разрушать его! Сколько материнской заботы, ласки, сколько сил затрачивается, пока получится этакое чудо, а они терзать. Не ваше это! Мать создала это для жизни, а не для терзания. Пришли, взяли, погнали, заставили таких убивать других таких же, а о том не подумали: а мать как же? Как же мать?
Она натянула на него одеяло и спустилась вниз, чтобы налить из кастрюльки в чашку остатки бульона. Бульон был еще теплый, и она, приподняв одной рукой его голову, стала поить его прямо из чашки. И опять он глотал с большой жадностью, готовый проглотить неимоверное количество этой благоухающей жидкости. Когда в чашке осталось менее трети бульона, она отставила чашку в сторону и снова взяла в руки кастрюльку. В ней на дне лежал кусочек куриного мяса. Она раздавила его ложкой на мелкие кусочки и один за другим вложила их ему в рот. Он все с жадностью разжевал и проглотил. И после этого она дала ему допить остатки бульона из чашки. Он выпил и покосился на ее руки, словно ожидая от нее еще какого-нибудь куска. Но она развела руками:
– Все пока. Нельзя тебе много. Потерпи.
Он улыбнулся смущенно и кивнул в знак благодарности. Это была его первая улыбка. И она наполнила ее нежностью. Славный он был мальчик. Ну, пусть испугался войны, пусть бежал от нее и спрятался. Но ведь он же еще ребенок. Почему он должен быть бесстрашным, если он и жизни-то еще не успел хватить?
Она заботливо опустила его голову на подушку и подоткнула вокруг него одеяло. И тут бы ей спросить кстати, пока он улыбался, как его звать и откуда он. Но она спохватилась, когда уже спустилась вниз. А к этому времени он опять закрыл глаза. Но ничего, успеется. Только бы поправился, чтобы не осиротела еще одна финская мать. А имя не все ли равно какое у него? Ну, пусть Пекка, или Тойво, или Юсси. Сам-то он от этого не сделается другим. И мать не перестанет его ожидать где-нибудь в Кякивуори или Мустаниеми. Только больно ему очень. Видно по лицу, как он страдает, бедный.
Вечером Тауно, подогнав к ее двору коров и овец, сказал:
– Мама к тебе хотела прийти сегодня, тетя Вилма.
– Хорошо, – сказала Вилма, но про себя решила не допустить этого.
Подоив коров и поставив молоко на простоквашу, она сама пошла к Сайми, накрутив предварительно на ногу полотенце. У Сайми она взяла свой пустой десятилитровый бидон, стараясь прихрамывать слегка, пока топталась на ее дворе. Та спросила:
– Ну как? Не полегчало ноге?
– Полегчало, – сказала Вилма. – Еще как полегчало. Видишь, уже совсем свободно теперь хожу.
– А я уж собралась было прийти к тебе и по хозяйству помочь.
– Нет, нет. Спасибо тебе. Сама теперь управлюсь.
– Значит, пригодился риванол?
– Да, да. Спасибо твоему Вилли. Очень пригодился. У меня же воспалилось тут все. И лист не помогал. А сколько я его извела! Теперь на поправку пойдет, слава богу.
И шагая от Сайми домой, она думала про себя: «Дай бог, чтобы пошло на поправку. И тогда все обойдется хорошо. А там и мир, может быть, скоро заключат. Ведь уже отдали назад все, что у русских взяли. Незачем им теперь дальше на нашу землю лезть. По всему видно, что уже близко мир. И тогда по домам пойдут наши мальчики».
И когда она подумала так, сердце ее сжалось знакомой горькой тоской. Да, верно, по домам пойдут мальчики. Но не все. Ее мальчик, ее бесценный, ни с кем не сравнимый Вяйно не придет домой никогда. Проклятые русские осиротили ее. И дни для нее будут идти за днями, тоскливо и безрадостно. А зачем они ей? Зачем ей жизнь, если некого будет ею согревать? Она для того и создана, чтобы согревать, чтобы давать жизнь всему, с чем соприкасается. Но кому теперь будет она отдавать отпущенный ей богом избыток тепла? Вот поставит она, даст бог, на ноги этого мальчугана и чем станет наполнять свои дни опять? Но как рада будет его мать, когда он вернется к ней! Как будет она рада, если она у него есть, конечно. Да. Если она у него есть…
И, приближаясь к своему одинокому дому, она вдруг пожелала в глубине своего сердца, чтобы не оказалось матери у этого юноши. Но тут же сама упрекнула себя: «Ой, что это со мной такое? Как не стыдно? Прости мне, боже. Что это я?»
Но, упрекая себя так, она вспомнила ту ночь, когда лежала рядом с юношей на верхнем полке бани, придерживая его в трудном положении на боку, и как вдыхала теплый запах его молодой кожи, так похожий на запах кожи ее сына. Да, как счастлива будет твоя мать, мой бедный мальчик, когда ты вернешься к ней и обнимешь ее. Если бы ты знал, как счастлива бывает мать, когда ее обнимает сын, особенно после разлуки. И твою мать ждет это счастье, если она у тебя есть, конечно. Если она есть. Неужели есть? О боже, прости меня…








