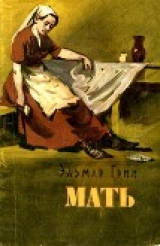
Текст книги "Мать
Рассказы"
Автор книги: Эльмар Грин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Часовой у крыльца сделал шаг вперед, и я узнал форму солдата суоелускунта. Кто-то другой стоял на крыльце, прячась от дождя. Я торопливо сказал по-фински то, что придумал по дороге:
– Срочно к капитану Вайсбергу с рапортом!
Я уже раньше слышал фамилию этого офицера.
Суоелускунтовец что-то сказал по-немецки, и с крыльца голос буркнул:
– Хирайн[10]10
Войдите.
[Закрыть], – и часовой-эсэсовец тоже посторонился, давая мне дорогу.
Я пробежал сени и ворвался в комнату. Я должен был вежливо постучать сначала и спросить разрешения. Но я вбежал и крикнул:
– Лиза! Лиза!
Но никого не было в первой комнате, а из второй комнаты выглянул эсэсовский офицер и выпрямился по-военному, глядя на меня вопросительно.
Но сквозь раскрытую дверь я уже увидел во второй комнате Лизу и бросился к ней. Она лежала на кушетке, запрокинув голову, и глаза ее были закрыты.
Офицер подскочил к ней первым и быстро поправил на ней платье. А потом он схватил со стола стакан с водой и начал на нее прыскать изо рта. Лицо ее и без того уже было мокрое. Он уже прыскал на нее до моего прихода, но не мог привести ее в сознание. Но отчего же она была без сознания, моя бедная Лиза?
– Лиза, – позвал я, – Лиза!
Я приподнял ее мокрую голову левой рукой и, трогая ее лицо своими губами, снова позвал ее тихо:
– Лиза, Лиза…
И она услышала наконец. Большие синие глаза ее открылись, и она стала приподниматься на кушетке. А офицер стоял и смотрел со стаканом в руке.
Я помог ей приподняться левой рукой, потому что в правой руке у меня все еще была винтовка. Она узнала меня, но смотрела куда-то мимо и все шептала: «Домой, домой…»
Я поднял ее на ноги, довел до дверей и пропустил вперед, чтобы не толкнуть ее в дверях.
– Иди, иди домой, Лиза, – сказал я. – Иди домой.
И она вышла, согнув плечи и держась рукой за косяк. Платье ее не было как следует расправлено…
Я все еще плохо соображал, что все это значит. У меня все перемешалось в голове, и я хотел, чтобы рядом оказался кто-нибудь большой и сильный, который помог бы мне разобраться во всем этом. Как я жалел, что оторвался от Леппялехти. Мне казалось, что если бы он в то время оказался рядом со мной так близко, чтобы я мог прикоснуться к его огромному плечу, то я бы наверно знал, что делать. Но я был один. Перед моими глазами прошла, согнув плечи и пошатываясь от слабости, моя бедная Лиза в помятом платье, а я стоял, как истукан, и ничего не делал. И я хотел кричать и плакать от злости на себя. Но в это время кто-то тронул меня за плечо, и я оглянулся.
Эсэсовский офицер сказал по-фински: «odotta»[11]11
Подожди.
[Закрыть] и закрыл двери. Потом он достал бумажник и стал зачем-то отсчитывать советские деньги. Я стоял, и смотрел, и ждал. Бумажки мелькали между его пальцами так быстро, что у меня зарябило в глазах. Я не сразу понял, что он хочет, но когда он отсчитал несколько десятков мелких бумажек и сунул их мне, махнув при этом рукой на дверь, я понял, что он хочет, и я понял вообще все, что здесь произошло. И бумажки выпали из моей руки на пол.
Я шагнул к офицеру, сам еще не зная хорошенько – зачем, а он шагнул от меня. Я ничего ему не сказал, только разевал рот и хлопал глазами, глядя то на его погоны, то на маленькие черные усики над его красными губами. Но он шагнул от меня назад и крикнул мне по-фински:
– Pois! Mene pois![12]12
Прочь! Иди прочь!
[Закрыть] – и оглянулся на револьвер, который лежал на столе.
Но на меня его финские выкрики не действовали. Плохо он выучил финские слова для того, чтобы командовать здесь. Лизу, опозоренную Лизу, видел я перед своими глазами. Больше я ничего не хотел понять.
Я прыгнул вперед, чтобы не дать офицеру схватить со стола револьвер, и выставил вперед штык. Но он оказался ловким дьяволом. Он перескочил через мой штык и все-таки схватил револьвер.
Но я тоже не ждал. Я не дал ему даже повернуться ко мне лицом и ткнул его в бок штыком раз, два и три. Я видел, как из него побежала кровь, видел, как он сполз по краю стола на пол. Я слышал, как он страшно закричал, видел, как открылась дверь и в комнату вбежал немецкий часовой.
Тогда я ударил прикладом по лампе, разбил стекло и дунул на огонь. После этого я отскочил в сторону так далеко, что немецкий часовой проскочил мимо. А я и его тоже ткнул в темноте наугад штыком и ударил прикладом.
Я очень здорово ворочал в этот вечер винтовкой, в точности так, как меня учили русские командиры на летних лагерных сборах.
Немецкий часовой тоже закричал, но не упал, и начал тыкать в темноте своим тесаком куда попало. Тогда вбежал финский часовой и заорал в дверях:
– Что здесь такое?!
А я крикнул по-фински:
– Немцы финнов бьют!
И он тоже сунулся в темноту комнаты. Но я его не тронул и выскочил вон.
К крыльцу бежали какие-то люди с винтовками и автоматами. Я увидел на них немецкую и финскую форму. Некоторые из них попробовали загородить мне дорогу, но я еще раз крикнул: «Немцы финнов бьют!» и побежал дальше. Кое-кто из них побежал за мной.
Тогда я свернул в боковой переулок и, пробежав еще немного, пошел шагом, держась поближе к заборам.
Мне очень хотелось узнать, где Лиза и дошла ли она домой. Но как тут узнать, когда за твоей спиной черт знает что творится и по твоим следам бегут и рыщут какие-то чужие люди! Кто они такие? Кто их звал сюда? И какое право они имеют гнаться за мной, свободным человеком? Они пришли сюда, загадили мой дом, растерзали мою сестру и теперь гонятся за мной, как будто я собака.
Мне хотелось колоть штыком направо и налево, хотелось проткнуть еще какого-нибудь насквозь и ударить прикладом. Я хотел колоть, и бить, и кричать во все горло, потому что мне было больно. Что-то щемило и грызло мне грудь, и я хотел разогнать эту проклятую боль.
И вдруг кто-то крикнул мне по-фински в самое ухо:
– Назад! Нельзя сюда подходить! Ты опять лезешь! Сколько раз говорил!..
И я увидел перед носом того самого человека, который уже грозил мне арестом.
– Пошел ты к черту! – сказал я.
А он выставил штык, щелкнул затвором и снова заорал:
– Назад!
И он еще смел на меня орать! Меня, у которого Лизу… И опять все перемешалось в моей голове. Я прыгнул вперед, ударил по его винтовке так, что она откачнулась в сторону, и проткнул его штыком насквозь. Я проткнул его без всякого труда, как чучело на ученье, и даже сам удивился.
– На, гитлеровский холуй! Получил?
Он забился на земле, но я только пнул его ногой. Не будет больше кричать на меня, сволочь. Стоял бы и молчал на своем посту, если жить хотел. Пускай-ка вот теперь покараулит здесь, продажная шкура. Кого он тут караулит?! Я постоял немного на месте и хотел уже идти куда-нибудь подальше, как вдруг вспомнил, кого он тут караулил. И я сразу бросился к сараю, отодвинул засов, открыл дверь и крикнул:
– Ванька!
В темноте кто-то заворочался, вставая на ноги. Я бросился туда и, держа винтовку штыком кверху, начал щупать в темноте свободной рукой.
– Ванька!
– Ну что? – спросил он из темноты.
– Выходи скорей отсюда. Скорей!
– Куда?
– Выходи, тебе говорят!
Я нащупал его в темноте и начал подпихивать к выходу. Он упирался. Все-таки я его выпихнул на дождь и слякоть. И здесь я увидел, что руки его связаны сзади. Я приставил винтовку к стене и осторожно перерезал ему ножом веревку на руках. Потом я шепнул:
– Бери ружье у часового и бежим скорей.
Но он не двигался с места и молчал, глядя на меня в темноте исподлобья. Я спросил его:
– Ты возьмешь винтовку или нет?
Он молчал.
– Бери, говорят тебе!
Я поднял винтовку и сунул ему в руки.
– Бежим, а то поздно будет! Слышишь – орут?
В темноте сквозь дождь кто-то уже подбирался к нам. Но Егоров продолжал стоять на месте.
– Ты пойдешь или нет, дьявол?
Я со злости ткнул его кулаком.
И в это время кто-то заорал в темноте по-фински:
– Вот он! Сюда! Сюда! – и бросился на меня. По голосу и росту я узнал того самого солдата, который ковырял пальцем свои грязные ноги на чистой постели моей матери.
Он бросился на меня, а я бросился на него, потому что я был злее голодного волка. Я не помню, что было у него в руках, но я выбил из его рук все, чем он махал, и проткнул его штыком в нескольких местах раньше, чем он упал.
– Бежим, – сказал я Егорову, и на этот раз он побежал, подпираясь на ходу винтовкой.
И вот мы бежали и шлепали с ним по грязи под проливным дождем, а потом перелезли через забор и побежали по огородам. Он все время припадал на одну ногу и очень тяжело дышал, но не отставал от меня. И мы еще раз перелезли через забор и побежали полями прямо к реке.
Но за нами все-таки гнались. Мы слышали то окрик, то свист с разных мест, позади нас и сбоку. На нас устроили настоящую облаву. И когда мы добежали до спуска к реке, к нам навстречу из-за груды камней выпрыгнули два суоелускунтовца.
Но Егоров не видел их. Он еще раньше споткнулся обо что-то своей хромой ногой и, скрипнув зубами, покатился вниз по скату берега вместе с винтовкой. А я встретил этих двоих на штык. Если бы винтовка была заряжена, я успел бы выстрелить в них, но у меня совсем не было патронов, и я принял их на штык.
Мне было тяжело действовать винтовкой, потому что я еще не отдышался, но я был очень обозлен и сам прыгнул к ним навстречу.
У одного из них был автомат. Он приставил его к плечу и хотел дать очередь, но вдруг остановился, вгляделся в меня сквозь темноту и дождь и заорал удивленно:
– Салаинен!
Оказывается, это был тот самый толсторожий парень, который так громко чавкал за моим столом и который так жадно облизывался, когда говорил о моей Лизе.
Он остановился, разиня рот, а я воспользовался этим и, пригнувшись пониже от его автомата, вогнал ему штык прямо в брюхо. Он только ахнул.
Это было не совсем хорошо пользоваться таким случаем, но черт с ним. Он был большой, жирный и сильный, а я – маленький, жилистый и слабый, которого все на свете обижали. Я имел полное право действовать, как мне было выгоднее, и я ничуть не пожалел его.
Но от второго я не успел увернуться. Второй навалился на меня сбоку и опрокинул. Он сначала хотел ударить меня по голове рукояткой пистолета, но промахнулся и только сшиб мою солдатскую кепку.
Зато грудью он толкнул меня так, что мы оба покатились вниз по склону берега. Падая, я узнал также и его. Это был тот самый унтер, у которого были такие сердитые глаза. Сползая с ним вниз, я почувствовал, какие у него крепкие кулаки.
Я укусил его за руку, и он выронил пистолет. Но от этого мне не стало легче. Все равно винтовкой я уже не мог действовать. Я выпустил ее и полез за своим пуукко[13]13
Финский нож.
[Закрыть]. Я не сразу его нащупал у пояса, а когда нащупал, то не сразу сумел выдернуть. Я слишком туго забил его в чехол после того, как освободил Егорова от веревок.
А тем временем мы с унтером все еще сползали вниз. Я лежал на спине, а он давил меня сверху, колотил и душил. У него были не руки, а молоты. Когда я попробовал оторвать их от моего горла, я понял, что не оторву, и мои руки показались мне самому слабыми, как цыплячьи лапки.
Я хотел укусить его за щеку или нос, но не мог поднять головы. А он душил меня и свирепо усмехался прямо мне в лицо. Он видел, что он сильнее и что победа за ним.
Я все-таки выдернул наконец из чехла свой нож, но в это время мне уже не стало хватать воздуха. Я начал дергать руками и ногами, но ничего не мог поделать. В глазах у меня потемнело, и я не помню, что я делал своим ножом. Я успел только почувствовать, что спина моя больше уже не сползает вниз по мокрой глине, и на этом кончилось для меня все…
Когда я открыл глаза, дождь все еще лил. Егоров спихивал с меня размякшего и тяжелого унтера, и я почувствовал, как вместе с дождем на мою руку капнуло что-то теплое.
– Скорей, – сказал Егоров, когда увидел, что я зашевелился. Он сунул мне мою винтовку и пошел к реке.
А я не пошел к реке. Я сел, подтянув под себя ноги, и остался на месте. Там, наверху, за моей спиной перекликались и пересвистывались те, кто нас искал. Они могли в любую минуту сбежать вниз по глинистому мокрому обрыву, а я сидел, не трогаясь с места, и со злостью смотрел на Егорова, который ковылял к воде, опираясь на свою винтовку.
Не хватало еще, чтобы он меня выручал, хромой черт! Очень мне нужна была его помощь – кто его просил? Я чуть не плакал от такой обиды. Рядом со мной лежал мой пуукко, который я выронил из рук. Даже его я не мог удержать, жалкий курносый гриб.
Я поднял нож и сунул его в чехол. Егоров оглянулся на меня и полез в воду. А я все еще сидел. Зачем он оглянулся? Уж не думал ли он, что я полезу за ним? Напрасно он так думал. Обойдутся здесь и без него…
Егоров вошел в воду по грудь, а я все сидел. Наверху кто-то крикнул:
– Внизу надо посмотреть! Внизу, у реки! Не упу-ска-ай!
И после этого послышалась также короткая немецкая команда. Тогда и я не стал ждать. Я тоже побежал к реке и вошел в воду. Вода в Кивийоки была холодная, но я и без того уже был весь мокрый и поэтому не почувствовал большой разницы. Егоров уже плыл к середине реки, выставляя над головой винтовку. Поплыл и я, держа винтовку над головой.
Течение отнесло меня гораздо ниже Егорова. Когда я начал вылезать на противоположный берег, то услышал чужие голоса позади себя у самой реки. Они уже сбежали с обрыва вниз, но поздно. И сквозь дождь и темноту они не могли увидеть нас на этом берегу.
Я прошел немного вверх по берегу и увидел Егорова. Не знаю, ждал он меня или нет, увидел меня или нет. Но когда я увидел его, он повернул в лес.
Дороги наши были с ним разные. Но я все-таки пошел за ним. Я должен был сказать ему, что я плевать хотел на его помощь и что пусть он от меня благодарности не ждет. Но я не сразу нашел его среди деревьев. Он уже далеко ушел. Мне пришлось немного пробежать, чтобы поравняться с ним.
Он шел и хромал, опираясь о землю винтовкой. А я стал придумывать, чем бы уколоть его посильнее.
– Прытко шагаешь, – сказал я по-фински. – Мало тебя там трясли?
Он молчал, продолжая ковылять вперед, и я тоже помолчал немного. У обоих нас хлюпала в сапогах вода. Дождь уже начал переставать, но с деревьев по-прежнему текло на наши головы. Я был без шапки и чувствовал каждую каплю. А он сумел сохранить на голове свою кепку, и это еще больше злило меня. Я покосился на него и сказал:
– Попрыгаешь теперь! Это тебе не агитировать…
Он вдруг замедлил шаги и прислонился плечом к стволу большой сосны. Я тоже остановился. Я видел, как часто поднималось и опускалось его плечо и как покачивалась в его руке финская винтовка с тесаком, на котором еще виднелись не совсем смытые дождем следы крови унтера.
Я все еще не высказал ему всего, что хотел, потому что никак не мог найти сразу подходящих слов.
Но я ждал, когда он снова тронется вперед, чтобы сразу же выложить ему все.
Неинтересно было задевать его, пока он так стоял. Трудно пронять каким-нибудь словом человека, который свесил голову и дышит часто, как овца в жару.
И я уже решил отложить это на другой раз и уйти обратно, потому что больше мне с ним нечего было делать. Но в это время его плечо поползло вниз по шершавому стволу сосны, ноги подогнулись и он лег на землю, выпустив из рук винтовку.
Я подождал немного, прежде чем уйти. Он не шевелился. Я окликнул его:
– Ванька! Ванька!
Но он молчал и не шевелился. Тогда я подошел к нему и приподнял его голову. Она была мокрая и холодная, и кепка с нее свалилась наконец. На этот раз и он не удержал ее на своей большой круглой голове. Но я поднял ее и снова надел на его мокрые волосы.
Я не знал, что с ним делать. Я позвал его еще раза два, но он опять не ответил. Тогда я положил его голову обратно на мокрую землю, встал и оглянулся по сторонам среди темного сырого леса.
Мне нужно было обратно, но куда идти? Домой или в ту самую воинскую часть, куда меня зачислили солдатом? Едва ли я попал бы домой или в ту воинскую часть. За рекой меня искали вовсе не для того, чтобы отвести домой или в ту самую часть.
Я топтался один среди темного леса, и сырая хвоя чавкала у меня под ногами. Никто ничего не мог мне посоветовать. Я был один.
– Ванька! – позвал я опять. – Ванька!
Но он, как нарочно, продолжал молчать и лежать без движения. А я не знал, что делать. Я топтался возле него, как привязанный, и никуда не уходил. Он-то, наверно, знал, что делать, но он лежал, дьявол, и ему было наплевать на меня. Никому на свете не было сейчас до меня никакого дела. И я готов был заскулить, как бездомный щенок.
Я опять подошел поближе к Егорову. Куда мне было еще идти? Он был единственный, кто еще оставался рядом со мной. Как я мог от него уйти?
И, стоя так возле него, я начал думать про себя о том, что он вовсе не был для меня таким плохим человеком, этот русский лесной рабочий Егоров Иван. Я хорошо помнил, как он пододвигал мне варенье, сахар и наливал чай за столом Степана Ивановича.
И он всегда встречал меня с улыбкой. Это я хорошо помнил. Где бы мы ни встретились и как бы озабочен он ни был, но он всегда встречал меня с улыбкой, всегда протягивал руку и говорил:
– Здравствуй, товарищ Салаинен.
Разве врагу протягивают руку? Такой человек, как Егоров, никогда не улыбнется врагу и никогда не протянет ему руку. Как это мне раньше не пришло в голову!
Я топтался возле Егорова и думал так напряженно, что заболела голова.
Ну пусть он русский, черт с ним. Но разве он не помог мне перевезти хутор вместе с моим старым садом, доставив этим переездом так много радости моей бедной Лизе? Он вовсе не обязан был делать это. И, может быть, он потому и сделал это, что он был русский и русская добрая была у него душа?
А Степан Иваныч! Разве не такой же, как Егоров, был седой Степан Иваныч, русский учитель, который так непростительно глупо погиб? Он лежал в сырой яме на опушке леса, по которому так любил бродить, и густой аромат земляники сомкнулся над его могилой…
Я вспомнил, как наутро унтер, из отряда Суоелускунта спрашивал у всех:
– Кто его зарыл ночью? Кто прикрыл его сосновыми, еловыми сучьями и насыпал над ним могилу?
Но никто этого не знал. Он смотрел на меня, когда спрашивал это, но я тоже не знал. Я так и ответил ему. А доказать что-нибудь другое он не мог, потому что он тогда вместе с теми двумя пьяными спал, как убитый, до самого утра. Откуда ему было знать: уходил я ночью из дому или нет? И никто никогда ничего не будет об этом знать. Я спал в ту ночь, как и все другие. Я готов был в этом поклясться кому угодно, даже Егорову. Вот и все.
– Ваня! – позвал я Егорова. – Ваня!
Я прислонил к дереву винтовку, встал перед ним на колени и снова слегка приподнял его от земли. Он был весь мокрый и холодный насквозь и очень тяжелый. Такие люди не бывают легкими.
Я прижал его к себе, чтобы отогреть немного, но чем отогреть. Я сам продрог, как пес. И я готов был заплакать от злости на то, что не могу ему ничем помочь. Я только покачал его слегка, как будто хотел убаюкать. И он вдруг открыл глаза. Я сразу же отпустил его и отодвинулся в сторону. А он узнал меня, улыбнулся и сказал по-фински:
– Ослаб я очень…
Я спросил его по-русски:
– Они били тебя?
Он кивнул головой и ответил тоже по-русски:
– А главное, ни разу не накормили.
Тогда я быстро выпрямился и начал хватать себя за мокрые карманы. Ведь мать что-то сунула мне на дорогу. А когда я переоделся в форму солдата, то переложил все, что у меня было, в новые карманы.
И я нашел у себя кусок пирога с черникой. Но на что он был похож! Бумага намокла и прилипла к нему, и сам он раскис и развалился. Я не знал, что делать с этим липким комком, и держал его перед собой в руках, как дурак. А Егоров улыбнулся и взял его. Он разломил его пополам и протянул половину мне. Но я сказал:
– Зачем? Не надо мне. Ешь, ешь!
А он ответил:
– Нет, возьми и ты, Хейно.
И после этого я больше ничего не мог ему сказать. Я только отмахнулся и отошел прочь. Слезы душили меня, и я не мог больше выдержать. Никогда прежде не называл он меня «Хейно», а тут назвал. Это что-нибудь да значило. Это очень много значило. Я не знал, куда деваться. Голова моя была готова лопнуть от боли, и мне хотелось кричать. Я лег позади деревьев на мокрую прошлогоднюю хвою и заплакал.
Черт его знает, почему я был такой плаксивый в ту темную сырую ночь! Я заплакал, уткнувшись лицом в хвою, и начал ее хватать губами и жевать, чтобы он не услышал, как я плачу.
Но он услышал, потому что я в конце концов разревелся, как баба, и не мог удержаться. А когда я немного успокоился, он подошел ко мне, тронул за плечо и тихо спросил по-фински:
– Пойдем?
– И я ответил ему по-русски:
– Пойдем.
Он сунул мне в руки мою винтовку, и мы пошли.
Я не знал, куда он шел. Но я готов был теперь идти за ним куда угодно – все равно. И пусть бы кто-нибудь посмел теперь его тронуть у меня на глазах. Я знал бы, что мне делать с моей винтовкой и штыком.
Я шел за ним и думал о том, как сильно мы все ошиблись, враждуя с русскими. Никогда не найдешь на свете друга лучше, чем русский человек. И какой сильный этот народ! С таким ли народом не дружить!
Егоров шел впереди, и по временам я различал в просвете деревьев его широкую спину. Винтовки наши задевали за листву, и на нас сыпались брызги.
Я шел за ним, и мысли мои шагали вместе со мной.
В мире творилось непонятное. Все так же мирно поднималось и садилось солнце, окрашивая небо теми же красками. Но на земле совершались непонятные и страшные дела.
Вольный финн призвал в свои леса жестокого, выхоленного гитлеровца и не мог понять, что этим отдал себя в его власть. Русский бился с этим гитлеровцем с такой яростью, что гудела земля и трещали кости. Получалось так, что он бился за свободу того же финна. А что делал в это время финн? Что делал финн?
Я слегка ускорил шаги, поравнялся с Егоровым и спросил по-русски:
– Мы еще вернемся, Ваня?
И он ответил мне по-фински:
– Да. Вернемся, Хейно.
И я опять спокойно пошел за ним. Раз он сказал «вернемся», значит так и будет. Лиза и мать будут свободны, и дом со старым садом – тоже.
Мы шли, а над нами в темноте шумели мокрые вершины. Мы шли долго, до самого утра, и я не устал нисколько– вот что было удивительно. Я только беспокоился за Егорова, который продолжал хромать, опираясь на винтовку.
На рассвете мы перешли по зыбкой поверхности какое-то болото и снова вошли в глухой лес. И здесь нас окликнул человек с автоматом:
– Пропуск!
Егоров ответил:
– Никакой пощады!
Человек с автоматом молча кивнул Егорову, и мы вошли в землянку.
И первый, кто поднялся нам навстречу при свете коптилки, был широкий и могучий, как сама земля, Матти Леппялехти. Он только что собирался ковырнуть трубкой в своем кисете, но, увидев Егорова, потянулся к нему, вытаращив от радости глаза и разинув рот, в котором все зубы были целы и крепки, как у лошади. И они поцеловались, черти, русский с финном, и я отвернулся, чтобы не особенно мешать им.
А потом к Егорову потянулись другие руки, и я отодвинулся еще дальше. В комнате было тесно. Я нащупал в полумраке скамейку и сел на нее, глядя в маленькое окно, за которым рассветало все больше и больше. А рядом со мной сел широкий и грузный Матти Леппялехти. Он покосился на меня раза два, черпая трубкой в своем кисете, и спросил:
– Трубка есть?
У него был густой и сильный бас, но слегка глуховатый, как будто шел не из богатырской груди, а из-под земли.
Я кивнул головой, и он протянул мне свой кисет. Я торопливо достал из кармана мокрую трубку и набил ее табаком. А он зажег спичку и сначала ткнул огоньком в мою трубку, а потом в свою. Проклятые слезы опять полезли из моих глаз, но неудобно было их вытирать. Ладно. Можно было считать, что это у меня от дыма. Я подвинулся слегка на скамейке так, чтобы чувствовать своим плечом плечо Леппялехти, и больше уже не шевелился.
И так мы сидели рядом с ним в то бледное летнее утро и курили наши трубки, глядя на стекло маленького окошечка лесной землянки. Все было на своем месте там, где слышалось медленное и могучее дыхание Матти Леппялехти.
С тех пор прошло немало времени и совершилось немало дел. Я бы рассказал о них, если бы умел рассказывать. Но это не так важно. Пусть люди думают, что я ни с кем на свете не желаю знаться. Но я-то хорошо знаю, возле кого мое настоящее место.
За окном кружатся снежинки, и мысли мои ведут такой же веселый хоровод. Главное, хорошо то, что я наконец знаю, что мне делать и куда идти. Этого мне не хватало раньше.
1943









