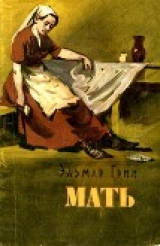
Текст книги "Мать
Рассказы"
Автор книги: Эльмар Грин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Когда к ней пришло то страшное письмо, она почти целый день просидела неподвижно, глядя в одну точку. И только коровы с овцами, придя вечером с пастбища, напомнили ей о том, что у нее есть обязанности, от которых она не имеет права отказываться, если не хочет за это потом ответить перед богом. А утром ее заставили ходить и двигаться опять они же, чьи жизни полностью зависели от нее. Так и не дали они ей сойти с ума от горя и одиночества.
Они не положили конца ее тоске, но и жизнь ее на этом не кончилась. Живые существа, наполнявшие ее двор, требовали своего, и она не могла их оставить. Все они доверчиво тянули к ней свои глупые морды и выжидательно таращили глаза. Как могла она обмануть их ожидания? От нее исходила к ним жизнь, и какое им было дело до того, что ее собственная жизнь перестала быть жизнью? Она была рождена для того, чтобы давать жизнь, распространять жизнь вокруг себя, и это она выполняла безропотно. Что еще могла она сделать, если так была устроена, себе на горе? Может быть, она теперь тоже хотела бы убивать и убивать! Но как ей добраться до тех, против кого кипел в ее груди гнев? Недосягаемы они были для нее. Полные суровой решимости, они теперь сокрушали и гнали обратно в Берлин единственную силу, которая отважилась было стереть их с лица земли. Что могла она сделать, если не они появлялись перед ее глазами изо дня в день, а те, кто заслуживал жизни? Ничего не могла она сделать, кроме как покорно нести отмеренные ей богом заботы. И только в торопливости находила она какое-то утешение. Торопливость в работе приглушала ее внутреннюю боль и словно бы подгоняла вперед время. Как еще могла она поторопить свою жизнь к желанному концу? Не было у нее другого способа.
Войдя в дом, она заглянула в печь. Дрова в ней уже превратились в жарко пылающие головни. Вода в чугунах клокотала, и выступающая поверх кипящей воды картошка подпеклась и зарумянилась. Отворачивая от жара пылающее румянцем лицо, Вилма потыкала картошку вилкой. Картошка сварилась. Действуя ухватом, она извлекла из печи оба чугуна и поставила их на плиту, служившую одновременно шестком. Прикрыв большой чугун крышкой, она прихватила ее сверху тряпкой и слила из него воду в деревянную лохань для помоев, а половину картофеля из этого чугуна вывалила в низенький, широкий ушат.
Окутанная горячим паром, она растолкла картошку в ушате деревянным толкачом. Этим же толкачом размяла в другом ушате три сладкие свеклины, сваренные накануне, добавила к ним толченой картошки и перемешала все вместе, присыпая сверху ржаной мукой. Заглянув еще раз в печь, она отодвинула подальше от огня кипящий кофейник, извлекла горшок со вчерашним супом и вылила его в третий ушат, самый маленький из всех. В супе была косточка, оставленная для Пейкко, и два маленьких кусочка мяса. Вилма поставила ушат на пол, чтобы дать супу остыть, и погрозила пальцем кошке, лежавшей на подоконнике:
– Не смей трогать, Мирри, слышишь? Это не твое.
Та лениво приоткрыла глаза и снова их зажмурила, как бы говоря этим, что с нее довольно и молока.
– То-то, – сказала Вилма. – Горе мне с вами. Так и норовите друг друга обидеть.
Подхватив оба ушата с толченой картошкой, она поспешила в поросятник. Ну и визг же там поднялся, когда она вошла. Особенно старались те двое, что находились в просторной загородке. Еще бы! Целую ночь не ели. Совсем извелись, бедняги. Пока она, перегнувшись через загородку, обтирала пучком сена их корыто, они совсем оглушили ее своим визгом и хрюканьем, тыча влажными рыльцами в ее руку. И стоило ей вывалить в корыто теплое картофельное месиво, как оба враз умолкли, жадно хватая ртами пищу, чавкая, оттесняя друг друга от корыта и залезая в него для удобства передними ногами.
Ушат с более сладкой смесью Вилма вывалила в корыто одинокой огромной Хелуне, ожидавшей своей печальной судьбы в такой тесной загородке, где она могла только стоять или лежать. Никаких иных движений от нее и не требовалось, дабы не растрачивался понапрасну накапливаемый ею жир. Она не проявила такой жадности к еде, как те двое, но, отведав месива, принялась поглощать его не менее охотно.
Вилма посмотрела на все это и вздохнула. Попробуй втолкуй вот этим тугим розовым живчикам, что не так уж много радости дает жизнь, они тебя, пожалуй, поймут! Да и Пейкко тебе такое скажет в ответ на этакие речи, что лучше и не пытаться ему доказывать. На ее обратном пути к дому он так выразительно заскакивал вперед, заглядывая ей в глаза, что она вынуждена была успокоить его:
– Да, да, Пейкко. Ты угадал. Пришла твоя очередь.
И он даже взвизгнул от радости и нетерпения. В комнате она добавила в его суп несколько кусков хлеба и вышла с ушатом в руках на крыльцо. Карауливший возле крыльца Пейкко уже не сводил с ушата глаз, пока она не поставила его на травянистое место у рябины. И тут наступили самые сладостные минуты его жизни.
Вилма постояла немного, наблюдая за тем, как он выхватывал из теплого, ароматного супа куски хлеба и мяса, лакая в промежутках жидкость. Свиной косточке он уделил особенное внимание, отойдя с ней немного в сторону и даже растянувшись на траве, чтобы насладиться ею в более удобном положении. А потом опять уткнулся носом в ушат, выедая оттуда хлеб, картошку, крупу и жидкость.
Да, все они, несмотря ни на что, хотели жить и есть. Не ею это было установлено, и не ей это нарушать. И если она хочет, чтобы у нее самой достало силы снабжать их пищей, то она не имеет права забывать и о себе. Таков неизбежный круговорот жизни, и никуда ей от этого не уйти.
Вилма сходила в амбар, взяла немного крупы для каши, спустилась в погреб, достала засоленную свиную косточку и две картофелины для супа, выдернула на огороде несколько морковин, свеклин и луковиц, натаскала из ручья полную кадку воды и поставила в печь обед для себя. А на завтрак поджарила три вареные картофелины из маленького чугуна и заварила в кофейнике ячменный кофе.
После завтрака она вымыла посуду, ушаты, чугуны, вынесла лохань с помоями, поставила в печь, в дополнение к супу и каше, горшок с молоком и чугун с чистой водой. Выждав, когда прогорела последняя головешка, она закрыла печь заслонкой, закрыла трубу и схватила стоявший в углу веник, предвидя с тайным страхом, что сейчас ее хлопотам придет конец и никакой защиты от страшных мыслей уже не останется.
Так оно и получилось. Она подмела пол в комнате, в сенях, обмахнула ступени крыльца и остановилась, припоминая, что еще такое не сделано в ее хозяйстве, требующее затраты сил и внимания? Как будто все было сделано. Только позавчера она закончила вспашку под зябь и вернула соседке Сайми ее мерина, которого впрягала вместе со своей кобылой в пароконный плуг. Незадолго до этого была закончена молотьба ржи, ячменя и овса на гумне старого Урхо. Зерно она уже засыпала в амбар, а солому удобнее будет перевезти зимой на санях. Перед молотьбой были засеяны озимые и снят овес. А до того были сняты рожь и ячмень.
Все эти работы она выполняла в компании с другими женщинами и мальчиками, переходя с ними из хозяйства в хозяйство. Так получалось намного быстрее. На ее земле они сделали за два дня то, на что ей одной понадобились бы недели. Самым кропотливым делом была летняя прополка полевых овощей. Но даже с этим они справились быстро. А для сенокоса успели ухватить лучшие солнечные дни первой половины июля, вовремя наполнив сеном все сараи. Такой выгодной оказалась эта совместная работа женщин из разных хозяйств.
И теперь у нее образовался свободный от полевых работ промежуток времени. Копать картошку еще было рановато, а кормовую свеклу с турнепсом – тем более. Оставалось пока одно: ходить за грибами и клюквой. К тому же там и внимательность была необходима да еще доставалось вдоволь и ногам, и рукам, и пояснице. А дома ей нечем было так себя загрузить. Войдя в комнату, она напрасно перебирала в памяти домашние дела. Стирать еще было нечего. Шитья тоже не накопилось. Заняться вязаньем она не могла. Эта работа оставляла свободной голову. А в свободную голову непременно лезли всякие черные мысли, от которых сердце сдавливало невыносимой тоской. Читать газеты и журналы она тоже теперь не желала. Как могла она читать о торжестве тех, кто убил ее сына? Даже библия не давала ей в последние дни утешения.
Она взяла с полки библию и наугад раскрыла ее. И как нарочно ей на глаза попались горькие слова из «Плача Иеремии»: «Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетования. Старцы уже не сидят у ворот; юноши не поют. Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили! От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши». Она поскорее закрыла библию и вышла в сени, где лежали корзины.
Одну корзину она взяла для грибов, другую для ягод и кроме того заплечный кузовок, сплетенный из бересты, куда можно было высыпать грибы из корзинки. Пейкко, лежавший с благодушным видом посреди двора, вскочил, заметив корзины в ее руках. Он догадался, куда она собралась, и выразил полную готовность сопровождать ее. Но она сказала строго:
– Будешь дома, Пейкко! Слышишь? И чтобы никуда! Смотри внимательнее.
Пейкко вильнул хвостом в знак понимания, но вид у него был недовольный. Некоторое время он даже шел за ней, надеясь, что она изменит свое решение. Но напрасно. Перешагнув ручей, она еще раз повторила свое наставление, и Пейкко остался за ручьем, тоскливо глядя ей вслед.
2
Пройдя вдоль своего картофельного поля, еще не тронутого пропашником, Вилма очень скоро подошла к лесу. Этот лес принадлежал крупному акционерному объединению, которое разрешало не только собирать в нем грибы и ягоды, но даже охотиться, подбирать сухой валежник и срезать сухостойные деревья. Это был пограничный лес, прилегающий к русской Карелии. Когда финские войска захватили в сорок первом году русскую Карелию, этот лес как бы слился с русскими лесами. И кто только в них не перебывал за время войны! Прятались там одно время русские, не успевшие вовремя уйти к себе на восток от финских войск. А потом в этих же лесах прятались финские дезертиры, которым надоела война и хозяйничанье гитлеровских войск в Суоми. Это по ним, значит, стреляли два дня назад солдаты финских регулярных частей, которые отходили теперь назад, на свою землю, как было условлено с русскими. Они отходили, оставляя, где надо, пограничную охрану и заодно просматривая леса. Скоро все они разойдутся по домам. И только ее Вяйно никогда не вернется к своему родному очагу.
Когда эти мысли снова коснулись ее своим черным, холодным крылом, она ускорила шаги. Ускоренный шаг– это хоть какое-то усилие. И кроме того, войдя в лес, она тотчас же принялась высматривать грибы и подобрала их немало, пока пробиралась по лесной тропинке среди молчаливых стволов к трем валунам. Возле них она остановилась.
Здесь, напротив этих трех крупных валунов, обросших мхом, протекал ручей, заслоненный с обоих берегов ольховником. Он был намного больше того ручья, что протекал мимо ее дома. Через него она не смогла бы не только шагнуть, но даже перепрыгнуть. Но чтобы этот ручей не смог стать для нее преградой, сын когда-то перебросил через него две толстые чурки, стесанные сверху, и плотно прижал их друг к другу забитыми в землю колышками. На один из колышков он повесил небольшой ковшик, сделанный им самим из бересты. Ручкой ковшику служил изогнутый прут ивы. Он повесил тут свое изделие, чтобы каждый переходящий этот ручей мог при желании напиться свежей студеной воды.
Иногда ей случалось встречать его здесь, когда он уходил с утра на охоту. Она присаживалась на самый низкий валун с вязаньем в руках и терпеливо сидела так, поглядывая в просвет, образованный его мостиком в ольховнике. Он появлялся в этом просвете всегда неожиданно, и первое, что она видела, – это радостную улыбку, в которой расплывалось его круглое лицо при виде матери. И какая же сладкая волна счастья проходила каждый раз по ее сердцу при виде этой улыбки!
Он и сейчас как живой встал перед ней с этой славной сыновней улыбкой, и она попробовала внушить себе, что именно таким он и появится сейчас опять перед ней из-за ольховника, густо обступившего с двух сторон звонкий ручей. Да и в самом деле, почему бы ему сейчас не появиться оттуда с белками или зайцем на поясе? Что-то там, правда, вторглось как будто в ее жизнь страшное и непоправимое, но ведь она уже установила, что это ей только показалось во сне. А на самом деле все обстоит благополучно, как всегда. И вот сейчас ее Вяйно должен появиться оттуда, из-за ручья. Вот молодец, что догадался наконец порадовать ее своим появлением, а то ей уже такое почудилось, что просто не дай бог! И письмо какое-то и еще что-то, настолько нелепое и страшное, чему и быть никогда не должно в жизни. Но, слава богу, все на месте: и ковшик берестяной и мостки. Да и сам он сейчас покажется с ружьем за плечами, улыбнется ласково, чтобы развеять все ее напрасные тревоги, и скажет: «Маловато сегодня, мама. Только три белки и один заяц да тетерев, – смотри, какой».
И она даже присела, как бывало, на низкий валун, поставив рядом корзинки и глядя с деланной беспечностью по сторонам. Жаль, не взяла она вязанья – хорошенький многоцветный шарф начала она для него еще с весны. Теперь бы очень кстати было кончить его и тут же показать ему. Но не беда. И так можно дождаться. Ей не привыкать ждать его с тех пор, как он остался у нее в жизни один. Подождет и теперь.
Она взглянула на небо. Оно было пасмурное, но дождем не пугало. Березы желтели, рябины желтели. А осина и черемуха больше наливались красным цветом. И молодой клен, заполнивший своей листвой промежуток между стволами сосны и ели, тоже пытался в осенней своей окраске подражать больше осинам, чем березам. Но это ему давалось туго. Зато кусты ивы и ольхи делали вид, что осень их совсем не касается, и силились удержать на себе зеленый летний наряд нетронутым. Но надолго ли? И только ели и сосны, возвышаясь над всей этой переменчивой яркостью, были спокойны за свой вечнозеленый, неумирающий цвет.
Вилма отвернулась от елей и сосен, вид которых опять пробудил в ее душе что-то грызущее. Зачем ей это грызущее? И откуда оно, если для этого нет никакой причины? Она отвернулась от их вечно молодых вершин и принялась внимательно рассматривать подобранные на пути сюда грибы, поглядывая все же время от времени на переход через ручей. Семь подосиновиков успела она подобрать и четыре подберезовика. Один из подберезовиков был старый. Она разломила его. Нет, он не был червивый и мог пригодиться. И три сыроежки тоже вполне годились в пищу. Только кому годились? О боже! Кому? Она еще внимательнее принялась перебирать грибы, пытаясь придать этому занятию характер обыденности, где все шло гладко и куда ничего страшного не врывалось.
Но где-то в глубине ее души не переставало таиться нечто грозное и беспощадное, которое не желало быть подавленным. Оно как бы выжидало там, это черное и злое, притаившись насмешливо, и заранее злорадствовало, предвкушая неизбежность своего появления наружу. И оно все возрастало и раздувалось там, вытесняя прочь всю ту ненадежную прозрачную хитрость, с помощью которой она пыталась это страшное и неистребимое прикрыть. И, вырастая, оно подавляло и захлестывало ее сопротивление, смеясь над ней, пока наконец не наполнило ее всю, торжествуя и издеваясь над ее наивными уловками. С холодной трезвостью оно безжалостно растолковало ей, что все то жуткое действительно совершилось и никуда ей от этого не уйти до конца своей жизни.
И никогда больше не появится из-за ручья с ружьем за плечами ее незабвенный Вяйно. Не может он появиться. Нет его на свете, ее единственного мальчика. Как это могло так получиться? Где же твоя мудрость, о господи? Нет его и не будет больше. И ничего у нее теперь не осталось. Осталась только тяжкая, грызущая боль. И она всегда будет при ней, эта боль, потому что его нет больше на земле и никогда не будет. Как матери вынести это? Как выплакать ей свое горе, если горю этому не видно конца и если нет больше слез для плача?
Схватив корзины, Вилма направилась к мосткам через ручей. Он журчал, как всегда, весело и звонко, и берестяной ковш висел на том же месте, готовый к услугам жаждущих. Она постояла немного над журчащей водой и подержала в руках берестяное изделие сына. Она даже зачерпнула им воды из ручья и глотнула ее, а потом опять повесила на место, защемив ивовую ручку в расщеплении колышка. Пусть висит здесь и выполняет то, для чего он предназначен ее мальчиком. Она поправила ковш на колышке, стараясь придать ему то же положение, в каком его оставил сын, а то как бы он не обиделся, увидя, что не так висит. Ничего, Вяйно, не тревожься. Я повесила его в точности, как он висел у тебя. Вот посмотри. Так ведь, верно? Я же помню хорошо, как он у тебя висел. Разве я забуду, глупый ты. Ну, видишь теперь? Висит, как висел. Разве не так?
И она опять не удержалась, чтобы не взглянуть в ту сторону, откуда ожидала его. Но его по-прежнему не было видно в просвете листвы. Тогда она сама прошла туда с мостика, протиснувшись между кустами ивы и ольхи. Ветки скользнули по ее груди и плечам, гулко зацепив корзины. Выбравшись на невысокий травянистый склон, она с надеждой взглянула вверх, туда, где продолжался лес, полыхающий жаром и золотом. Но никто не шел оттуда ей навстречу. И, понимая отчетливо, что никто оттуда и не выйдет, она бросила тоскливый взгляд вправо и влево вдоль заросшего кустарником ручья. И вдруг она замерла на месте, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. На узком травянистом склоне между лесом и ручьем в пяти шагах от нее лежал человек.

– Вяйно! – вскрикнула она и бросилась к нему.
Человек не шевельнулся. Он лежал ничком, головой к ручью, и его руки были слегка выдвинуты вперед, впившись полусогнутыми пальцами в траву. Видно было, что он пытался доползти до ручья, который манил его своим звонким журчаньем, но не дополз, потеряв силы и сознание в трех метрах от него. Взволнованная Вилма еще раз произнесла: «Вяйно!» – но уже без прежней надежды в голосе, ибо по форме кистей рук и очертанию уха уже догадалась, что это был не он. Тогда она остановилась в двух шагах от лежавшего и спросила громко:
– Кто здесь?
Но человек не отозвался. Он даже не шевельнулся в ответ. Неужели мертвый? Откуда он, боже мой! И все еще думая о Вяйно, она бросила на землю все корзины и склонилась над ним, пытаясь осторожно повернуть его лицо вбок. Нет, это был не Вяйно, слава богу, но тоже очень молодой парень, почти мальчик. В этом она легко убедилась, коснувшись рукой его подбородка. То, чем он оброс, было мягкое, пушистое и реденькое, почти незаметное на его подбородке и ничуть не укололо ее пальцев, как не кололи щеки и подбородок Вяйно, когда она брала их в свои ладони.
Юноша был жив. Она в этом убедилась, просунув руку за ворот его пиджака. Тело было теплое, и шейная артерия чуть заметно пульсировала. Она просунула руку дальше, к его груди, чтобы ощутить биение сердца. Оно билось. Но там ее пальцы окунулись во что-то теплое и липкое, и когда она извлекла их оттуда, они были в крови. Человек был ранен и полз, истекая кровью, к ручью. Но сил на это у него не хватило, и он потерял сознание, продолжая истекать кровью.
Коренастая, румянолицая Вилма была не из тех, кто способен только охать и беспомощно озираться при виде беды. Не теряя даром времени, она осторожно перевернула лежащего на спину. От этого движения на запекшиеся от крови раскрытые губы юноши вытекла изо рта свежая алая струя. Две тонкие струи вытекли также из запекшихся ноздрей. Было ясно, что кровь текла еще и оттого, что он лежал головой вниз по склону. Ее надо было остановить. Опустившись на колени, Вилма слегка приподняла теплыми ладонями безжизненную голову и приложила ее затылком к своей мягкой материнской груди. Придерживая ее в таком положении, она подхватила сильными руками плечи юноши и, приподнявшись с колен, повернула все его тело на травянистом склоне таким образом, что голова его оказалась выше ног.
Затем она бросилась к ручью, преодолев за одно мгновение те пять шагов, на которые не хватило сил у него. Тут же она вспомнила про берестяной ковш сына, зачерпнула им воды и вернулась к лежащему. Наливая понемногу из ковша в ладонь, она обмыла лицо юноши, обтерев его затем своим головным платком. Но лицо юноши продолжало оставаться неподвижным и бескровным, и только загар придавал ему какое-то подобие свежести.
Вилма еще раз прикоснулась рукой к его груди. Но трудно было уловить сквозь одежду биение сердца. Да и некогда было тратить на это время. Жизнь постепенно уходила из юноши вместе с кровью, от которой взмокла его одежда, и надо было его спасать. Она уже догадалась, что это был один из тех, которые прятались от войны в лесу. Власти не собирались оставлять их без наказания. Да и от народа они не получали особенного одобрения, особенно от тех, чьи близкие продолжали воевать на фронте против русских.
Но не время было сейчас пускаться в рассуждения о виновности этих людей. Умирал человек. Надо было спасти человека. Просунув под одежду юноши свой влажный платок, она прижала его к ране на груди и затем легла рядом с ним, примериваясь к его росту. Он был на полголовы выше ее, как и сын. Осторожно повернув его на бок и придерживая в этом положении, она подобралась плечами под его грудь и опрокинула его на себя.
Некоторое время она лежала на животе, придавленная тяжестью его тела и в то же время проверяя, насколько удобно он расположился на ее спине. Его подбородок пришелся к ее затылку. Поймав его руки, она перебросила их через свои плечи и, упираясь локтями в землю, поднялась вместе с ним на ноги. Почувствовав, что ноги юноши оторвались от земли, она крепче перехватила его руки, свисающие с ее плеч, и, согнувшись, медленно двинулась к переходу через ручей.
Вилма была крепкая женщина, но все же тяжесть крупного человека скоро дала себя знать. Однако устраивать передышки она не собиралась и только ускорила шаг, с удовлетворением ощущая спиной тепло, идущее от тела юноши. Жизнь в нем еще теплилась, и надо было успеть удержать эту жизнь в его теле, пока она еще не ушла. Быстро перебирая ногами, Вилма скоро вышла из леса и далее продолжала нести свою ношу полем, все ниже пригибаясь под ней, но не останавливаясь.
Пейкко яростно залаял, когда на дворе появилось невиданное двухголовое существо. Но Вилма прикрикнула на него:
– Замолчи, Пейкко! Перестань сейчас же!
Тяжело дыша, она поднялась на крыльцо, с трудом открыла дверь в сени и затем в комнату. Добравшись до кровати, она сперва сама легла на нее ничком, а потом осторожно спустила со спины на постель неподвижное тело. И, не успев даже перевести дыхание, она выбежала на крыльцо, где уже стоял недоумевающий Пейкко, и бросила внимательный взгляд вокруг, чтобы выяснить, не видел ли кто-нибудь ее, входящую в дом с такой необычной ношей. Нет, кажется, никто не видел. Она обежала дом и поднялась на несколько ступеней по приставной лестнице. Нет, никто не шел к ней со стороны усадьбы Сайми, и в других местах тоже никого не было видно.
– Оставайся тут, Пейкко, и смотри внимательно, – сказала она собаке и вернулась в дом, заперев за собой на защелку обе двери.
Юноша лежал на ее постели в том же неудобном положении, в каком она его второпях оставила. Прежде всего она расстегнула на нем пиджак. Рубашка под ним была изорвана и окровавлена. Пришлось осторожно стянуть с него и то и другое. Под рубашкой оказалась голубая застиранная майка, тоже разорванная напротив раны и окровавленная. Она сняла и майку.
Рана на груди была сквозная. Пуля пробила правую сторону груди, зацепив, должно быть, легкое, и вылетела чуть пониже правой лопатки, не задев ребра. Вторая пуля пробила мякоть левой руки выше локтя. Здесь она тоже прошла насквозь, попав спереди и выйдя сзади. Это легко определялось по двум круглым ранкам разной величины.
Она обмыла ему раны на груди и под лопаткой теплой кипяченой водой. Они уже слегка воспалились по краям, и она не решилась прижечь их йодом. Вместо йода она употребила столетник, разрезав часть его листьев ножницами на тонкие пластинки. На бинты она изорвала самую тонкую из своих простынь. Сквозная рана на руке юноши не успела еще воспалиться; и она залила ее йодом. Руку ей удалось перевязать быстро. Гораздо труднее далась ей перевязка ран на груди и под лопаткой. На это у нее ушла почти половина простыни.

И, перевязывая, она сказала с горечью:
– Боже мой, что делают с людьми! Кому это нужно, господи, чтобы твои же создания так терзали друг друга?
Перевязав раны на груди и под лопаткой, она сняла с него сапоги и всю остальную одежду. На внутренней стороне ляжки обнаружилась еще одна рана. Здесь пуля только скользнула по мякоти, проложив на ней желобок. Но крови отсюда успело вытечь немало. Брюки и трусы намокли от крови и прилипли к телу. Пришлось осторожно их отдирать. И еще одна рана оказалась у самой щиколотки. Здесь пуля, пробив кожу сапога, ударилась в кость и застряла в ней. Когда Вилма стянула сапог, пуля отвалилась от кости и упала на пол, вытряхнутая вместе с портянкой. Должно быть, это рана и заставила юношу в конце концов потащиться ползком, хотя кость и не была надломлена. Вилма залила ее йодом. Точно так же залила она йодом рану на внутренней стороне бедра. Ободранные в кровь колени и ладони рук тоже пришлось смазать йодом.
Потом она снова налила в таз теплой воды и, смачивая полотенце, обмыла всю остальную часть его тела ниже пояса. Тело этого юноши по своему сложению так напоминало тело ее Вяйно. И его кожа была такая же нежная и упругая. Сколько раз она ощущала ее под своими пальцами, проводя по ней намыленной мочалкой или просто так трогая от избытка материнской нежности, когда ему случалось быть без рубашки. Каким зверем надо быть, чтобы это живое, теплое и прекрасное терзать и предавать смерти! Как назвать это?
Она поднесла ко рту юноши маленькое зеркальце. Оно замутилось. Значит, он дышал. Тело его продолжало сохранять свое тепло. Осторожно вытянув из-под него намокшую, окровавленную простыню, она подсунула сухую и накрыла его одеялом, а под голову подложила две подушки.
Перебирая его одежду, она пыталась определить, кто он и откуда. Но ничего такого не нашла. В кармане брюк лежал грязный носовой платок, оторванный от большого куска белой ткани. В другом кармане лежал перочинный ножик с обрывком веревки. На узком кожаном поясе висел пустой чехол для ножа, который он, должно быть, потерял, пока полз. Был еще обрывок сложенной гармошкой газеты, похожей своим шрифтом на «Карьяла», были крошки табака и пустой раздавленный коробок спичек «Карху».
Она еще раз перебрала его одежду, надеясь найти хоть солдатскую книжку. Но перебирать было нечего. Рваные носки, дополненные портянками, старые черные трусы, выцветшая майка, рубашка без пуговиц, брюки, продранные на коленях, и рваный пиджак – таков был весь его наряд. Свой солдатский билет он, видимо, потерял или выбросил. На что дезертиру билет? Когда трое из их лесного убежища приходили сюда прошлой зимой просить пищи, из них тоже лишь один был в солдатской форме, да и то без погон. У другого сохранились только ботинки и шинель. А третий успел полностью пере-одеться в штатское, хотя и не решался покинуть совсем убежище, которое находилось у них примерно в десяти километрах севернее этих мест. Люди неохотно снабжали их едой. Отсыпая им в мешки ячменя или картофеля, каждый думал: «А с какой бы стати мне подкармливать этих, бежавших с фронта? Почему мой сын или муж должен там оставаться и проливать за них свою кровь?»
И вот их разогнали наконец. Да и вчера еще где-то там вдали постреливали изредка из автоматов, вылавливая, должно быть, одиночек. Досталось и этому мальчику. Сколько же он прошел потом по лесу, теряя кровь, и сколько еще прополз на руках и коленях после того, как больная нога перестала его держать и он потерял силы?
Она сложила всю его окровавленную одежду в намокшую простыню и стянула в узел. Запихнув его под кровать, она опять склонилась над юношей, просунув ладонь под одеяло к его обнаженному телу. Оно стало теперь еще теплее под одеялом, но сердце билось все так же слабо. Он был очень истощен, этот мальчик, ползший по глухому лесу неизвестно сколько времени, и, может быть, поэтому так долго не приходил в себя.
И тут она спохватилась, что ведет себя довольно-таки неосторожно. Занялась его перевязкой, а сама даже не выглянула ни разу. А вдруг придет кто-нибудь и увидит? Ведь его же заберут сразу. Повезут, растрясут, и он так и умрет, не приходя в сознание. Разве будут беречь такого, кто от войны убежал? А он еще совсем ребенок. Он даже не понимал, что делал. Он просто боялся – и все. Разве можно ребенка за это наказывать?
Она еще раз вышла на крыльцо и осмотрелась. Нет, никого не было видно. Но как-то надо было укрыть его от чужого глаза. А в доме не укроешь. Куда бы его поместить? В амбаре будет холодно. В баню разве? Больше некуда. Она сбегала в баню, стоявшую рядом с ягодным садом, недалеко от ручья. Там она прибрала верхний полок, освободив его от остатков веника, от шайки, ковша и мочалки. Вернувшись в дом, достала из чулана матрац сына и снесла его в баню. Вслед за матрацем принесла в баню простыню и подушки. В бане было прохладно. Ее следовало протопить, но дым, идущий из трубы, могла увидеть Сайми и подумать, что баня топится для мытья. А очередь приглашать в баню была за Вилмой. И Сайми могла вечером неожиданно появиться с обоими мальчиками в надежде попариться и помыться. Лучше протопить ее позднее, когда стемнеет и дым из трубы не будет виден.
Приготовив постель, Вилма выбежала и еще раз посмотрела вокруг с высоты лестницы, прислоненной к задней стороне дома. Никого не было видно. Тогда она оставила распахнутыми внутреннюю и наружную двери бани и опять поспешила в дом. Вначале она попыталась взять юношу на руки вместе с одеялом. Но он все же был тяжел и выскальзывал из рук. Одеяло мешало ухватить его поудобнее. Тогда она отбросила одеяло и взяла его на руки голого, обернутого лишь белыми повязками. Дверь в сени она толкнула ногой и оставила открытой, а дверь, выходящую на крыльцо, закрыла спиной. Она была сильная женщина и в баню несла его полубегом. А Пейкко бежал рядом, вопросительно на нее поглядывая. Положив его на верхний полок подальше от края, она сбегала домой за одеялом.
– Смотри внимательнее, Пейкко! – повторила она в который уже раз и, войдя внутрь бани, заперла за собой на крючок наружную дверь.








