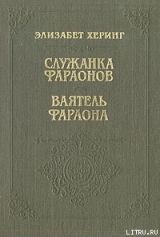
Текст книги "Ваятель фараона"
Автор книги: Элизабет Херинг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Никто не произносил ни единого слова. Было так тихо, точно смерть уже распростерла здесь свои крылья, хотя гробница была пока пуста и, если Атон будет милостив, останется пустой еще долго.
Пройдя примерно двадцать шагов, они достигли ниши, вырубленной справа в стене.
– Отсюда в сторону пойдет штольня, – сказал, повернувшись к своим спутникам, Эхнатон, – в которой каждая из царских дочерей должна получить свою собственную гробницу. – Он кашлянул. – Впрочем, для этого еще есть время.
Люди проходят еще двадцать шагов вперед. Ход сужается. Теперь нужно пройти через узкий вход, в который можно проникнуть только поодиночке. Они попадают в квадратное помещение длиной и шириной около восьми локтей и примерно такой же высоты. В задней стене этой камеры справа и слева пробиты еще два входа, которые ведут в следующее помещение таких же размеров. К этой камере справа примыкает третья, поменьше.
– Погребальная камера для царицы, – говорит Эхнатон. – Здесь, Тутмос, ты можешь начать работать. Пусть все стены будут украшены самыми красивыми изображениями, которые должны порадовать Ка моей супруги, когда он спустится сюда, чтобы навестить ее тело.
Все возвращаются в первое помещение. Тутмос подзывает человека со светильником и рассматривает стену. К сожалению, строение скалы не позволит сгладить ее здесь так, чтобы потом можно было вырезать рельефы.
Песчаник слишком порист, слишком растрескался и покрыт неправильной формы впадинами. Однако можно вырубить фигуры в основных чертах из гладкого камня, а потом перенести сюда и отделать все детали. Тутмос говорит это царю, и тот жестом руки выражает полное согласие с предложением мастера.
– На этой гладкой скале, – говорит Эхнатон и показывает на стену, что правее от входа, – ты должен изобразить меня и мою царственную супругу. И пусть фигуры наши будут больше, чем это есть на самом деле. И пусть будем мы восхвалять отца нашего Атона.
Мысленно Тутмос уже представляет себе эти изображения.
– В левом верхнем углу будет изображен Атон в образе солнечного диска, – говорит он, – благословляющий своими лучами царя и царицу и трех царских дочерей, стоящих за царственной супружеской четой.
– Четырех дочерей, – поправляет Эхнатон и, встретив удивленный и вопросительный взгляд Тутмоса, добавляет: – Царица сегодня ночью родила дочь.
Хотя эти слова и были произнесены чуть слышно, они звоном отдались в ушах Тутмоса. «Дочь, – подумал он сокрушенно, – снова дочь родила она, а не сына. Сегодня ночью! Итак, несколько часов назад Нефертити родила, а ее супруг даже не отложил осмотра гробницы, не остался с ней».
– Ну, о чем задумался, скульптор? – спросил Эхнатон и тут же бросил недовольный взгляд на Нахтпаатона и Мерира, которые перешептывались друг с другом и теперь сразу же замолчали. – Да, я хочу воздать хвалу моему отцу Атону, который дарит меня своей благостью. Он дарит мне детей один прекраснее другого! По его воле расцветает все больше красота их матери.
Он посылает свои лучи, и мир торжествует!
Просыпаются спавшие, открывают глаза,
Подымаются с лож, славят его воссияние,
Ибо он тот, кто жизнь им дал!
Земля вся ликует, когда он восходит,
Расцветают деревья и травы,
Животные скачут по зеленым полям,
Птицы вылетают из гнезд, крыльями славя его,
Все они оживают при пробуждении его!
Эхнатон замолчал и прислонился к стене. Тутмос не заметил печати утомления, появившейся на лице царя, – так все ликовало в его душе. Да, это гимн, великое славословие, и он удостоился его услышать из священных уст самого божьего сына. Он должен все это выразить. Лучи восходящего солнца поднимутся не только над храмом и дворцом, не только над царственной четой и царскими дочерьми. Нет! Они должны воссиять над простыми людьми, занятыми своими делами, над стадами лошадей и буйволов, над птицами и деревьями, над дикими животными. В левом углу он изобразит газель, взобравшуюся на скалу, осла, идущего по тропинке, и сокола, распростершего свои крылья.
Он рассказывает о будущей картине Эхнатону, но не знает, слушает ли его царь – так неподвижно его лицо. Но когда Тутмос замолчал, Эхнатон как-то неуверенно и даже чуть подавленно сказал:
– А на другой стене, там, у входа в соседнее помещение, ты изобразишь все живущие на земле народы восхваляющими моего отца, Атона.
Все народы! Пунтийцев, ливийцев, кушитов, людей из Речену и Сирии – не в оковах, не приносящих дань, а вместе со всем народом страны Кемет восхваляющих бога. Такую необычайно смелую мысль вряд ли кто-нибудь посмел бы высказать, кроме самого царя. И он, Тутмос воплотит ее в картине! В семь рядов поставит он их: воинов со знаменами и трубами, приветствующих восход солнца; жрецов с наголо обритыми головами и царедворцев в больших париках; пунтийцев с их узкими редкими бородками; людей из Речену и Сирии, у которых широкие развевающиеся бороды; черных кушитов с круглыми шапочками на головах и светлокожих ливийцев с голубыми глазами! В одних рядах люди будут стоять, других изобразит он коленопреклоненными, но всех – с простертыми к солнцу руками; только один человек в последнем седьмом ряду будет изображен низко склонившимся и целующим землю, потому что Атон благословил ее своими лучами. Тутмос даже улыбнулся, настолько реально представил он себе бородатого сирийца, словно тот готов был уже подняться и выйти из стены к нему навстречу. Но тут Эхнатон сказал:
– И в чужих странах я воздвигну храмы моему божественному отцу и пошлю туда моих скульпторов и моих жрецов, чтобы чужеземные народы узнали от них правду.
Слова эти глубоко запали в душу Тутмоса. Совершенно неслыханно! Никто до сего времени об этом и не мечтал! Так далеко от царской столицы, в которой бьется сердце мира! Где-то на краю земли. Далеко от Эсе и ребенка, которого она ждет!
– И я поеду? – спрашивает он и стыдится себя, потому что с трепетом, затаив дыхание, ожидает ответа.
– Нет, – отвечает царь, – ты, Тутмос, пока еще нужен мне здесь.
Эхнатон отошел на два шага от стены, прислонившись к которой стоял, и произнес:
– Ну, теперь…
Он хотел сказать, что желает удалиться в помещение, приготовленное для отдыха. И тут царю внезапно показалось, что земля уходит у него из-под ног. Все вокруг завертелось. Он замер, вытянув руки. Насмерть перепуганный Тутмос успел подхватить на руки лишившегося сознания Эхнатона.
Страшная растерянность охватила всех.
– Врача! – закричал Мерира. – Почему придворный врач не пришел с нами?
– Царь этого не захотел, – бросил в ответ Нахтпаатон, – врач должен был оставаться у царицы.
– Нужны носилки, – сказал Тутмос, повернувшись к слугам, – немедленно принесите носилки!
Эхнатон пришел в себя, когда слуги еще не вернулись. Он заметил выражение растерянности на лицах окружающих его людей, понял, что произошло, и сказал голосом, идущим откуда-то издалека:
– Успокойтесь, я удалился от вас, потому что отец мой предстал предо мною.
Он охотно разрешил посадить себя в носилки. Капли пота покрывали бледный лоб фараона.
«Плохи его дела, – подумал потрясенный Тутмос. – Плохи его дела, а сына у него нет».
В полном молчании движется процессия по обрамленному скалами, раскаленному жарой котлу. Не чувствуется никакого движения воздуха, способного освежить людей. Царь закрыл глаза. Трудно сказать, заснул ли он или вновь обрел покой в потустороннем царстве своего божественного отца. Когда рабы – всего один раз, чтобы передохнуть, – опустили носилки, Эхнатон громко сказал:
– Не говорите между собой о том, что произошло сегодня, чтобы разговор этот не достиг ушей царицы.
Три года сменили друг друга. Вновь и вновь река выступала из берегов и заливала плодородную землю. И снова вода уходила, а земля принимала посевы в свое плодородное лоно. Вновь и вновь склонялись перед серпом колосья. Родился младенец – сын. Тутмос взял его из рук Тени и сказал:
– Мы назовем его Руи. Руи, как звали его деда.
Храм Атона был закончен. Он красовался теперь во всем блеске в ярких лучах бога. Царь одарил милостью Бака, возложив на него почетное поручение – воздвигнуть единственному истинному богу жилища в чужеземных странах.
Илу стал теперь ни от кого не зависимым мастером, и Тутмос надеялся, что после отъезда Бака сможет чаще с ним встречаться. Впрочем, надежда эта оказалась обманчивой.
Старый Неджем умер.
Как-то днем Тутмос впервые отправился в усадьбу друга и протянул Бакет руку. И все же почувствовал, что примирение не состоялось. Ипу, который вел его через ворота, шепнул:
– Они говорят, что ты использовал свое влияние у царя, чтобы удалить отсюда Бака – единственного, кто мог бы тебе стать поперек дороги.
Ударом ножа нельзя было ранить Тутмоса больнее.
– Кто… кто мог так сказать?
– И сам Бак, и Бакет, и все, кто настроен к тебе недоброжелательно.
– Те, кто настроен ко мне недоброжелательно? Почему они все хотят мне зла?
– Ты слишком быстро выдвинулся! Это всегда вызывает злобу!
– Ну, а ты сам? Неужели и ты веришь этому?
– Разве я сказал бы тебе все это, если бы так думал?
– Но разве Бак не был обрадован оказанной ему честью? Не был рад, что ему дали новое интересное поручение?
– Рад? Неужели ты думаешь, что местные жители отступятся от своих богов, лишь только царь пошлет своих архитекторов и своих скульпторов в жалкую Речену или Сирию? Ни от своих богов, ни от своих интриг они не откажутся. Это может только переполнить чашу их терпения. Хабиру всегда готовы вторгнуться с севера, а вассалы царя, постоянно враждующие друг с другом, могут перейти и на сторону врага. Когда же начнутся переговоры с ними, каждый будет взваливать вину на своего соседа, а себя оправдывать тем, что он якобы вступил на чужую территорию только для того, чтобы обуздать кочевников. Воинов, а не скульпторов следует посылать царю на север.
«И он не понимает! – подумал про себя Тутмос. – Даже Ипу не понимает царя».
– Друг, – сказал он, обратившись к Ипу, – разве ты не знаешь, что замыслил Эхнатон? Он хочет завершить то, что начали столетия назад его предки. Он хочет объединить духовно, в почитании единого истинного бога, государство, границы которого были раздвинуты при помощи меча!..
– Все это не так, – прервал его Ипу. – Это лишь твое воображение.
– Мое воображение? – В голосе Тутмоса прозвучали раздражение и обида. – Разве ты не слышал великого славословия? Разве ты не знаешь, что Атон бог не только нашей страны, но и отец всего того, что он создал. Он дает жизнь и чужеземцам. Это он даровал им реку на небе, чтобы они, как и мы, получали из нее живительную воду! Почему ты вообще говоришь: жалкая Речену, убогая Сирия? Если ты правильно понял учение царя, то должен знать, что все народы и все страны созданы Атоном и он им дарует свою милость. Вожди и народы Сирии и Речену поймут наконец, что не угнетать их хотят и господствовать над ними, но объединить всех в одно великое царство.
– Как это – не хотят угнетать? Разве от них не требуют дани? И разве на полу царского дворца нет картин, по которым проходит Эхнатон, следуя к своему трону, картин, где зависимые от него правители изображены в оковах? На согбенные их спины ставит он свою ногу. И разве эта нога менее тверда и не попирает их столь же сильно, как нога его отца?
– Почему же тогда, – спрашивает Тутмос, и в голосе его уже не чувствуется прежней уверенности, – почему же тогда наш царь не направляется с войсками в чужие страны, как это делали его предки, когда там начинаются восстания? Ведь, по-твоему, он хочет их поработить?
– Знаешь почему, Тутмос? – Голос Ипу становится тише, и он настороженно оглядывается. – Я думаю, что он не решается покинуть страну из страха, что у него за спиной вспыхнет восстание!
– Нет! – закричал Тутмос. – Быть этого не может! Атон благословил своего царственного сына. Город, который фараон воздвиг своему божественному отцу, как чудо вырос за несколько лет перед нашими глазами. Там, где раньше была пустыня и никто не жил, множатся теперь стада, поднялись дома, окруженные садами, цветут и плодоносят фруктовые деревья…
– Тутмос! – Ипу взволнованно произнес имя своего друга. – Атон знает, как я хотел бы, чтобы ты был прав! Но как выглядит все вокруг, стоит лишь выйти за границы этого города…
Он внезапно умолк, точно в душе его зародилось подозрение.
– Ну ладно, – сказал он наконец, но голос его звучал удрученно. Забудь все, что я сказал. Может быть, это и неправда. Может быть, Баком владела только обида. Ведь это его взгляды я только что высказал тебе.
Бак? Главный скульптор царя? Первый, кого Эхнатон удостоил чести выразить в камне его божественное учение о правде? И он ведет такие речи только потому, что оказался ущемленным в своем тщеславии? Он поселил в сердце простодушного человека сомнения, отравил его недоверием! А Тутмос! Он отдал ему своего друга!
– Как твоя работа, Ипу? – внезапно спросил он. – Разве хорошо, что один из нас не знает, что делает другой? Не покажешь ли ты мне свою мастерскую?
Выражение лица Ипу моментально изменилось.
– Если ты хочешь… – сказал он нерешительно и повел Тутмоса к боковой пристройке своего дома.
Тутмос долго осматривал мастерскую, переходил от одной работы к другой. Одну за другой брал в руки гипсовые модели. «Хорошая работа», подумал Тутмос и сказал:
– Я пришлю тебе полотно, которое ткет моя мать. Тогда отливки получатся более четкими.
Он остановился у статуи царя и царицы. Не особенно хорошо удалось Ипу уловить выражение их лиц. И все же в жесте Нефертити, положившей руку на плечо супруга, при всей его нарочитой чопорности сквозила такая интимность, что Тутмос не мог оторвать от них глаз.
– Я хочу… Мне хотелось бы сделать так же, – сказал он тихо.
Эти слова тронули Ка Ипу. Они разрушили стену, возникшую между друзьями.
– Можно мне завтра прийти к тебе, – спросил Ипу, – и посмотреть твои работы?
– Не только мои работы, но и моего сына, – ответил Тутмос.
И камень свалился с его сердца.
Когда Тутмос вернулся домой, в самой большой комнате своего дома он увидел незнакомца. Эсе поставила перед ним обеденный столик с жареным гусем, овощами и фруктами. Незнакомец ел, а она прислонилась к его плечу, раскрасневшись от радости. Волна ревности захлестнула Тутмоса. Как вкопанный остановился он в дверях и не мог вымолвить ни единого слова. Эсе, заметив мужа, бросилась к нему навстречу.
– Приехал мой брат! Мой брат! – воскликнула она, не замечая волнения, охватившего мужа.
От этих слов Тутмос сразу пришел в себя. Жена подвела его к незнакомцу, приподнявшемуся со своего места. Тутмос внимательно посмотрел на своего шурина. Да, несомненно, он был похож на Эсе, но Тутмос никогда не слышал, что у его сестры Ренут была не только дочь, но еще и сын. Жена никогда не говорила ему об этом. Однако Тутмос не стал задавать вопросов Эсе, вновь целиком поглощенной своим гостем. Он пошел к матери, чтобы она ему все объяснила.
Старая Тени не сидела, как обычно, за своим станком. Тутмос нашел ее на заднем хозяйственном дворе дома, где служанки трепали лен. За этой работой Тени считала нужным наблюдать лично, ведь хорошую ткань можно сделать лишь из хорошей пряжи, а ее качество зависело от качества волокна, которое нуждалось в правильной и тщательной обработке. Неудивительно, что Тени следила за каждым движением служанок.
Она вовсе не обрадовалась, когда Тутмос отозвал ее в сторону, и не сразу даже поняла, о чем он ее спрашивает. Имела ли Ренут еще и сына? Нет, как это ему взбрело в голову? Как? Брат Эсе находится здесь?
Впрочем, был кто-то… Он действительно сын ее отца, но от другой женщины!
Уже не раз Тутмос собирался расспросить мать об отце Эсе. Сами женщины никогда о нем не заговаривали. Только однажды Эсе упомянула о нем, сказав, что он избивал ее мать. По всей вероятности, он был пьяница и грубое животное. Чтобы не смущать Эсе, Тутмос не стал тогда расспрашивать ее. Однако мать могла бы ему кое-что порассказать и ответить на его вопросы.
Но из Тени и вообще-то было трудно что-либо вытянуть, а в этот день она была как-то особенно глуха ко всему. Все, что он ей говорил, она воспринимала лишь наполовину; и это несмотря на то, что он кричал ей прямо в уши. Она снова и снова твердила, что Эсе могла иметь братьев и сестер по отцовской линии. Но где они находятся и живы ли – этого она не знает.
– Так пойди, посмотри на него и скажи, действительно ли он ее брат!
В дверях Тени остановилась. Ее охватила какая-то странная робость, которую она тщетно пыталась преодолеть. Гость в это время обгладывал гусиную шейку. Увидев старуху, он проговорил с набитым ртом;
– А, Тени! Ты не узнаешь меня?
– Это ты? – сказала Тени то краснея, то бледнея. – Какой ветер занес тебя сюда?
– Хороший ветер, матушка, хороший ветер, – ответил он и вытер уголки рта.
Вскоре Тутмос узнал историю своего шурина. В то время, когда Аба появился в Южном Оне в имении жрецов Амона, брат Эсе был в отлучке. Узнав, что там происходит, он решил не возвращаться домой, уехал в отдаленные места и поступил там на службу. Здесь до него дошла весть о счастье сестры. И он подумал: если Атон действительно единственный истинный бог (это понимал теперь каждый разумный человек), то он должен направиться в город его небосклона, в замечательный Ахетатон, о котором идет слава по всей стране. Такой человек, как он, скорее всего преуспеет именно здесь.
Тутмос захотел узнать, на каком поприще рассчитывает шурин преуспеть.
– На каком? Само собой разумеется, в качестве писца. Я знаю не только письмо нашего народа, но усвоил также язык и письмо Аккада, с правителями которого царь обменивается письмами.
Ну, если так, то Тутмос охотно похлопочет о своем шурине. Он намерен поговорить с Маи, который ищет как раз таких людей. Если он и не подойдет Маи, то тот сможет рекомендовать шурина другим вельможам. Слово его обладает большим весом.
Трижды приходили они в дом Маи, пока наконец не застали старшего управителя. В длинном узком помещении, служившем приемной, толпились самые разные люди: воины в коротких фартуках, концы которых спереди ниспадали треугольником; чиновники в просторных одеждах, державшихся на широких пестрых лентах; крестьяне и ремесленники в коротких набедренных повязках; только не было здесь ни одного жреца.
Тутмос и его шурин опустились, скрестив ноги, на пол у двери, приготовившись к долгому ожиданию. Уна – так звали шурина – начал рассказывать. Он любил поговорить и знал множество анекдотов. Тутмос не мог не признать, что все истории Уна излагал живо и увлекательно, но ему было как-то неловко из-за шурина, привлекавшего к себе всеобщее внимание. Сам Тутмос молчал. Только глаза его перебегали от одного лица к другому, и каждый раз взгляд останавливался на лице Уны.
Как богата его мимика! Вот сейчас он поджал губы совсем так, как это делает Эсе, когда сердится. А теперь лицо его разглаживается, и он начинает походить на жреца, шествующего в торжественной процессии. А вот он уже стал похож на пастуха, лежащего с мечтательным видом на траве под смоковницей, а теперь – на молодого придворного, вынужденного слушать доклад своего начальника, умирая от скуки. Но вот лицо Уны неожиданно исказила дикая злоба. Теперь Тутмосу казалось, что он знал этого человека, но имя его совершенно выпало из памяти. Так или иначе, лицо Уны сохраняло отпечаток ума и решимости, что не могло не производить впечатления на скульптора. Только изобразить такое лицо не так-то легко. Какое же из выражений, постоянно сменяющихся на нем, нужно запечатлеть?
Наконец появляется Маи. Все встают. Первым вскакивает на ноги Уна. Он склоняет голову низко к земле. Это выглядит так, словно он собирается облобызать ноги верховного управителя.
Маи не обратил, однако, никакого внимания на такое подобострастие: все это было для него достаточно привычным. Но он сразу же увидел Тутмоса, хотя тот стоял у стены и лишь слегка склонил голову.
– А, это ты, главный скульптор! Ты принес с собой модель моей статуи! Это меня радует. Иди сюда!
– Нет, модель еще не совсем готова, – сказал Тутмос, усаживаясь против верховного смотрителя.
– Но, значит, ты все же начал eel Хорошо, очень хорошо! – И Маи засмеялся, показывая остатки своих зубов.
– Но я пришел к тебе с просьбой… – сказал Тутмос.
– «С просьбой»? Всегда готов ее выполнить. Какую только просьбу своего друга не выполнит Маи!
– Речь идет об Уне, моем шурине, человеке, который умеет читать и писать.
– «Читать и писать»? Замечательно! Такие люди всегда нужны!
Теперь очередь была за Уной, и он немедленно вступил в разговор:
– Не только на языке нашей страны, но и на языке Аккада…
Уна произносит эти слова просто, как бы про себя, но в них сквозит чувство собственного достоинства. Слова эти произвели на Маи заметное впечатление. Он поднялся с места, прошелся взад и вперед по комнате, пошевелил пальцами, соединил руки, и по его лицу стало видно, что он обдумывает какую-то мысль. Наконец Маи спросил:
– Ты принес мне вести от Абы?
Тутмос вздрогнул, как от удара бичом. Что может иметь общего Уна с этим развратником, который истязал его сестру?
Уна, которого нисколько не удивил этот вопрос, спокойно ответил:
– Да, я привез письмо из Нехеба и прочту его тебе. – Произнося эти слова, Уна повернулся так, чтобы Тутмос не мог увидеть знака, который он подал глазами верховному управителю.
– Ты собираешься подождать здесь своего шурина? – спросил Маи Тутмоса. – Я ведь знаю, твое время очень дорого, поэтому не удивляйся моему вопросу.
Тутмос сразу же понял намек и распрощался. На обратном пути его мучила одна и та же тревожная мысль, хотя он и не мог бы выразить ее словами.
Уна вернулся, когда на небе уже появились звезды. Обычно Тутмос, Эсе и Тени ужинали вместе с подмастерьями, а жена Птаха наблюдала за служанками, подававшими блюда. На этот раз стол был накрыт в жилой комнате. Наблюдала за порядком и готовила блюда сама молодая хозяйка.
– Так вкусно, словно я у себя дома! – сказал Уна, протягивая руки к новым яствам.
Тутмосу не нужно было задавать ему никаких вопросов. Не отрываясь от еды, рассказал Уна об Абе. Тот оказался родственником Маи и управлял царским имением в Нехебе. Уна выполнял некоторые его поручения, поскольку занимал там должность писца налогового управления.
– Значит, это не тот Аба, который бесчинствовал в Оне?
– О, огради нас от него небо! Я слышал о нем только плохое. Правда, в Оне мне не пришлось побывать вновь, и, к счастью, Абу я никогда не видел. Но до меня доходили слухи, что его уже больше нет в Оне.
– Ну, а как там, в Нехебе?
– Что там должно быть? Там больше не почитают ни местную богиню Нехбет, ни ее супруга Тота, ибо Атон уже проник в сердце местных жителей.
– Вот как? В самом деле? – обрадованно спрашивает Тутмос.
Эсе подливает брату вино. Ее взгляд, полный нежности, переходит с одного мужчины на другого.
Ложась спать, она сказала Тутмосу:
– Я так рада, что приехал Уна. Я знаю, ты его полюбишь. Он такой хороший.
Тутмос не стал сдерживать сердечных излияний своей жены, и она продолжала:
– Когда я была маленькой и он дразнил меня, я часто плакала, но он не хотел меня обижать, а когда отец бил меня, брат всегда утешал меня украдкой.
Не приходилось сомневаться в том, что верховный управитель доволен Уной. Чуть ли не каждый день он что-нибудь присылал ему: зерно и мясо, птицу, фрукты и вино. Однако шурин как будто и не собирался обзаводиться собственным домом. Работал он у Маи очень недолго и через несколько недель перешел в канцелярию, возглавляемую Туту.
Тутмос попытался выяснить, не поссорился ли Уна с верховным управителем.
– Ну, что ты! – ответил Уна. – Но Туту – это «главные уста царя». Обо всем, что говорят послы чужеземных стран, он сообщает во дворец, куда он вхож всегда. Сам Маи считает, что мне полезнее служить у Туту и просто жалко использовать меня на должности, связанной лишь с налогами.
– Значит, теперь твое положение позволяет тебе взять жену? – спросил Тутмос.
– Да, но я должен буду много путешествовать. Что же будет делать моя жена одна?
Тутмосу не приходилось жаловаться: Уна приносил в дом гораздо больше того, что он мог съесть. Правда, иногда он принимал у себя некоторых чужеземцев, посещавших новую царскую столицу. Но, в конце концов, разве дом его не достаточно велик, разве не радуется присутствию брата Эсе, разве его сын не учится у него иностранным языкам, что никогда не повредит ребенку? Разве не отдыхает он сам, слушая болтовню Уны, когда усталым возвращается из своей мастерской? И когда Уна, уехав во второй раз, долгое время отсутствовал (он был прав, когда говорил, что часто будет в отлучке), Тутмос почувствовал, что ему явно чего-то не хватает. Он сказал об этом Эсе, и та, прижавшись к мужу, прошептала:
– Я так и думала.








