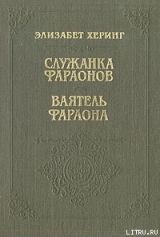
Текст книги "Ваятель фараона"
Автор книги: Элизабет Херинг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
6
Тутмос лежал с закрытыми глазами на своей лежанке. В комнате темно, и кроме его собственных вздохов не слышно ни звука. А на улице сияло солнце, и весь город пребывал в радостном возбуждении. Наконец-то молодой царь вместе со своими придворными прибыл в город! Правда, ни храм, ни дворец еще не готовы. Но Эхнатон не придавал этому значения, подобно художнику, которому готовое произведение доставляет меньше удовольствия, чем работа над ним. Царь едва сумел дождаться часа, когда его нога ступит на священную землю, которую Атон, его божественный отец, избрал местом его пребывания.
Помещения во дворце, предназначенные для царской супружеской четы и для царевны, были спешно убраны и приведены в порядок. Отделка больших парадных залов еще продолжалась, но все передавали слова царя о том, что удары долот звучат в его ушах, как музыка.
Тутмоса не привлекли к этой работе. Ему с трудом удалось добиться, чтобы его скульптуры попали на большую выставку, устроенную во дворце к приезду царя. Здесь были собраны для обозрения работы всех скульпторов города. Но Бак, глава скульпторов, «забыл» известить об этом Тутмоса. На счастье, Тутмос узнал – пока еще не было поздно – обо всем этом от Хори, который в праздничный вечер охотно шатался по улицам города. Когда Тутмос возмущенно напомнил Баку о себе, тот холодно извинился. На другое утро, незадолго до того, как царь со своей свитой прибыл на выставку, Тутмос вместе с Хори принес свои модели. Он очень огорчился, узнав, что Бак отвел для них самые худшие места. «Что я выиграл от того, – думал он с досадой, что изобразил царя почти так, как этого хотел Бак? Для чего я это сделал? Разве не обманывал я себя, когда говорил, что делаю это для сравнения? Разве я сделал это не для того, чтобы умиротворить Бака, которому и так никогда не перечил?»
Выражение лица Бака нисколько не изменилось, когда он взял в руки последнюю работу своего ученика. Ни радости, ни удовольствия не было на лице Тутмоса. Его мучила мысль, что правда не может сочетаться с трусостью.
Пока модели по указанию Бака расставляли по местам, Тутмос ходил взад и вперед по дорожке. Внезапно его голова начала раскалываться от боли.
Не раз уже повторялись у него эти боли в разгар работы. Обычно они начинались в висках и отдавали в затылок, заставляя выпускать резец из рук. Но такой сильной боли, как в этот день, он никогда не ощущал. Он даже мельком не взглянул на выставленные ценные вещи, осмотр которых в другое время несомненно доставил бы ему удовольствие. Не обратил он никакого внимания и на большие каменные чаши с ребристой поверхностью, внутри которых были искусно выращены крохотные садики из цветов лотоса, папируса и гранатового дерева. Даже вид каменной лягушки с широко раскрытым ртом, сидящей в центре садика, не вызвал у него улыбки. И когда Хори, разместив последнюю модель своего мастера, остановился у стола, на котором были разложены серебряные зеркала и широкие ожерелья, украшенные драгоценными камнями, с золотыми застежками в виде бутонов, Тутмос поспешил в тень, под навес, где он сел на корточки и закрыл глаза. Он думал, что сумеет успокоить боль, разрывающую его голову на части.
Никто не обратил на него внимания. Даже Ипу прошел мимо, не сказав ни слова. Было видно, что он спешил.
– Господин! Может быть, проводить тебя домой? – спросил Хори, который подошел, наконец, к своему мастеру и пристально вглядывался в его лицо, пытаясь понять, что с ним случилось.
– Нет, оставайся здесь! – коротко ответил Тутмос и поднялся. – Я как-нибудь дойду сам.
И он ушел, сжав зубы. Солнце припекало его непокрытую, разламывающуюся от боли голову. Взять один из зонтиков от солнца, сделанных из страусовых перьев (их ручки из черного дерева были инкрустированы золотом) и поставленных здесь для высших сановников, у него просто не хватило смелости.
Придя домой, Тутмос сразу же занавешивает окна и ложится в постель. Он пытается отогнать сверлящие мозг воспоминания о картинах, которые видел, но это ему не удается. Тутмос лежит с закрытыми глазами, но все равно перед ним мелькает бесконечный хоровод разноцветных мерцающих звездочек, еще более усугубляющий его страдания. Он зажимает уши руками, но даже едва уловимые звуки, все же доносящиеся до него, причиняют ему мучения.
Что это? Не открылась ли дверь?
Тутмос резко повернулся. Его ослепляет яркий солнечный свет. Испуганно смотрит он на темную фигуру, стоящую в дверях.
– Так вот где ты лежишь, Тутмос! – сказал низкий голос. – Я прошел через все помещения большого дома и не нашел ни души. В спальне стоит твоя кровать, а ты улегся в доме своего подмастерья.
– К чему мне все это немое великолепие, Пенту? – едва ворочая опухшим языком, возразил Тутмос, который узнал по голосу врача. – К тому же кто знает, смогу ли я оставить этот дом со всем, что в нем есть, за собой? Поэтому уж лучше вовсе к нему не привыкать.
Врач подошел к больному и взял его за руку.
– Ты говоришь так, потому что болен, Тутмос! Только когда люди заболевают, они начинают плести подобные глупости!
Он наклонился над Тутмосом.
– Твоя кровь не кипит, – сказал он уверенно, – да и пульс бьется не чаще, чем обычно.
– Червь сидит у меня не в крови, – возразил Тутмос, – а в голове.
– Так-так! – протянул Пенту и положил свою ладонь на лоб Тутмосу. – Ты говоришь… в голове, а может быть, в желудке? Тебя не тошнит?
– Тошнит, но…
– Так я и думал! Все же большинство людей едят слишком много. За счет одной четвертой того, что люди съедают, они живут. За счет же остальных трех четвертей живем мы, врачи!
Несмотря на мучившие его боли, Тутмос смеется. Он смотрит на Пенту, лицо которого стало надменным. «Эти врачи, – думает Тутмос, – считают, что они понимают все, что происходит в наших внутренностях, и могут определить, что мы съели».
Вслух он говорит:
– Может быть, ты и прав, Пенту. Но я довольствуюсь очень немногим.
– Тебе виднее, – согласился врач, и его лицо приняло еще более замкнутое выражение. – У меня есть один заговор, избавляющий от боли и тошноты, вызванных болезнью тела. Но раз ты считаешь, что демон поселился у тебя в голове, мне придется возжечь священную смолу и окурить тебя.
– О воля небес! Не надо! – взмолился Тутмос. – Как может этот тяжелый запах избавить меня от боли!
– Разве ты позволяешь кому-нибудь давать тебе советы, когда работаешь над моделью? – Голос Пенту звучал резко. – Поэтому и ты не учи меня, как мне избавить тебя от болезни! – Пенту подошел к жаровне, где, на свое счастье, нашел тлеющий еще уголек.
Он положил его в медную чашу, которую носил всегда при себе, бросил сверху какую-то смолу и немного благовония и принялся раздувать огонь. Пока плавилась смола и воздух в помещении наполнялся удушливым запахом, Пенту бормотал свои заклинания.
Тутмос не прислушивался к его монотонному голосу. Он повернулся на бок, спиной к врачу, закрыл глаза и старался дышать ртом. В горле у него стало першить. Будучи не в силах больше терпеть, он соскочил с лежанки и бросился к двери, чтобы вырваться на свежий воздух. Ничто не терзало так Тутмоса – ни солнечный зной, ни слепящий свет, ни шум, ни даже укусы комаров, – как эти пары, грозившие задушить его. Но Тутмос не успел добежать до двери – голова у него закружилась, началась рвота.
Пенту подскочил к нему и, поддерживая под руки, отвел обратно на лежанку.
– Вот видишь! – сказал он. – Я выгнал демона болезни. Теперь тебе станет лучше.
Пенту стал заливать дымящиеся угли в своей чаше.
«Я обязательно должен вылепить эту голову, – подумал Тутмос, – это лицо, полное самодовольства!» И в первый раз после упреков Бака он ощутил желание снова работать. А это для него гораздо важнее, чем избавление от головной боли. Тутмос приподнялся на лежанке и стал наблюдать за врачом.
Угловатый профиль Пенту, четко вырисовывавшийся на фоне светлой стены, глубоко врезался в память Тутмосу: слегка выдвинутый вперед нос, резко выделяющиеся брови, широкий рот, торчащие уши.
«Может быть, – думает Тутмос, – мне удастся взять хоть часть от самоуверенности Пенту, пока я буду лепить его лицо». Однако сердце подсказало ему другое. «Нет! Совсем не тот ближе стоит к правде, кто больше всего уверен в себе!» Этот внутренний голос испугал Тутмоса. «А как же царь? – пытается он возразить. – Разве царь не само воплощение правды и уверенности, силы и мужества, соединенных в одном лице?» – «Да, это так! На то он и сын Атона! А что касается сыновей человеческого племени…» Тутмос так и не смог довести свою мысль до конца. Страшная усталость охватывает его. Дыхание становится ровнее. Прежде чем уйти, Пенту бросает на спящего гордый, удовлетворенный взгляд.
Уже далеко за полночь Хори вернулся домой. Ведь во дворе дворца было выставлено столько интересного, что, даже часами осматривая все это великолепие, можно было запомнить лишь незначительную часть его. Здесь были работы и золотых дел мастеров, и товары горшечников, и многочисленные сосуды, изготовленные из гранита, песчаника, алебастра. Были выставлены оружие и конская сбруя, резные фигурки из дерева и мебель: столы и сундуки, отделанные золотом и лазуритом. Конечно же, здесь были и работы скульпторов, а также разноцветные ткани, ленты и многие другие вещи, которые так хотелось посмотреть.
Когда на выставку прибыл царь со своими придворными, выгнали многих бесцельно слонявшихся зевак, но Хори разрешили остаться, так как он работал в мастерской одного из скульпторов. Хори стоял совсем близко, когда старшая царевна, Меритатон, взяла в руки косметическую ложечку, выполненную в виде плывущей девушки, которая в вытянутых руках держала плоскую баночку для мази. Он слышал, как царская дочь воскликнула: «Она мне очень нравится!» и как царь сказал несколько дружелюбных слов мастеру, изготовившему ложечку.
Горячая волна крови прилила к лицу Хори, когда он представил себе, что и ему удастся сделать подобную вещь, которая понравится кому-нибудь из царской семьи. Он подумал, что его товарищи по ремеслу, когда его похвалит царь, будут завидовать ему так же, как сейчас он завидует резчику, чья работа пришлась по вкусу царевне.
Потом Хори оттеснили от царя, и он лишь издали увидел синюю корону царицы с развевающимися вокруг пестрыми лентами. Затем запах, идущий от изжаренного на вертеле быка, привлек его внимание, и Хори остался посидеть там, где можно было хорошо поесть и выпить. Когда же он вспоминал о своем больном господине, то утешал себя тем, что попросил врача Пенту заглянуть к Тутмосу.
Но в конце концов все приедается и радует мысль, что можно вернуться домой, где ждет тебя любимая лежанка.
Тутмос проснулся от шума, который поднял вошедший Хори. Скульптор разозлился на этого болвана, не желающего проявлять никакого уважения к своему господину. Однако сразу же успокоился, обнаружив, что головная боль прошла, не оставив даже тяжести в висках. В помещении по-прежнему держался легкий запах лечебной смолы, но сейчас Тутмос находил его даже приятным и с удовольствием глубоко вдыхал воздух. Он лежал молча, не желая, чтобы Хори почувствовал его пробуждение. Он не хотел выслушивать рассказы Хори о том, что его совсем не интересует. Да и что мог сказать Хори? Конечно, никто даже не обратил внимания на его работы, даже бегло не оценил их. К чему все это приведет? Наверное, все сколько-нибудь важные работы будут возложены на других скульпторов, а ему придется довольствоваться заказами мелких чиновников.
Удивительно, что эта мысль нисколько не огорчила Тутмоса. Может быть, Пенту вместе с демоном, сидевшим в его голове, выкурил и червя, точившего его сердце.
Почему Хори не может в конце концов успокоиться, чтобы дать ему возможность снова заснуть?
Завтра рано утром он собирается вновь приняться за работу. Он вылепит голову врача, чтобы потом преподнести ее в качестве подарка.
Но что это за шаги шуршат по песку? Это не Хори, ведь он уже ушел в свою каморку. До Тутмоса доносятся приглушенные звуки голосов. Они все ближе и ближе.
Кто-то идет к нему? Его разыскивают среди ночи?
Ужасные мысли сжимают сердце Тутмоса и заставляют вскочить на ноги. Нет, он не совершал никакого преступления. Он не преступник. А вдруг царю что-нибудь наговорил Бак?
Тутмос соскочил с лежанки, распахнул дверь – и увидел смущенное лицо главного скульптора. В темноте он не мог узнать пришедших вместе с ним людей.
Бак, оправившись от замешательства, вызванного внезапным появлением Тутмоса, заговорил. Его голос звучал необычайно дружелюбно.
– Я узнал от Хори, что тебе стало плохо, Тутмос. Когда праздник окончился, я поспешил тебя навестить. Я не мог прийти раньше – царь был бы недоволен моим преждевременным уходом. Как ты себя чувствуешь, сын мой? Надеюсь, твоя болезнь не опасная?
– Ничего страшного, – ответил Тутмос смущенно. – Проходите же в дом! Нет! Не сюда! Пойдемте в дом напротив! Комнаты уже обставлены.
Тутмос зажег масляный светильник и, заслоняя пламя ладонью, повел всех через двор к новому дому. Ночь была безветренная, а черное небо усеяно звездами. Тутмос предупредительно распахнул перед гостями дверь, ведущую в переднюю комнату, и пропустил их. При этом он мельком взглянул на Ипу, и его сердце забилось быстрее. Но слова, которые он собирался сказать ему, застряли у него в горле.
Люди, пришедшие с Баком, молча расселись, кто на стульях, кто на циновках, постеленных на полу. Некоторых из них Тутмос знал – это были подмастерья Бака, других видел впервые. В кувшине не было воды, и прибежавший Хори не смог даже полить на руки гостям, как этого требовали правила приличия. Тутмос стал просить извинения, но Бак жестом дал ему понять, чтобы он не беспокоился. Старый Неджем не мог удержаться, чтобы не рассказать о выставке во дворе дворца. Она была, конечно, очень богатая, но та, что он видел в прежней столице пятнадцать лет назад, при вступлении на трон третьего Аменхотепа… Тут Бак перебил его.
– Кстати, царь очень хвалил твои работы, Тутмос, – сказал он. Особенно одну из них…
– Какую? – спросил молодой скульптор с дрожью в голосе. Что если царь похвалил последнюю его работу, которая совсем не нравится ему и которую он вылепил из трусости (да, именно из трусости)?
– Ну, а ты как думаешь, какую? Конечно же, лучшую из твоих работ, самую лучшую!
С этими словами Бак протянул ему именно ту гипсовую модель, которую совсем недавно сам же сурово порицал. Тутмос ошеломлен! Он не верит ни глазам, ни ушам своим. Но в тоне Бака не было и оттенка смущения, когда он сказал:
– Ты должен, как только поправишься, немедленно прийти во дворец. Наверно, царь пожелает сделать тебе большой заказ. Мне он поручил отделку храма Атона. Нам так много еще нужно сделать, просто рук не хватает!
Вероятно, Бак ждал, что и Тутмос скажет что-нибудь. Но он продолжал молчать, исподлобья глядя на главного скульптора. Под этим пристальным взглядом Баку пришлось опустить глаза и замолчать. Все остальные тоже замолкли. Наступила гнетущая тишина, которую, наконец, прервал неуверенный голос Бака:
– Ты не должен думать, Тутмос, – сказал он откашливаясь, – что я не вижу разницы между этой твоей работой и всеми остальными изображениями царя. Я сразу же оценил, насколько ты услужил своей работой богине Маат. Меня беспокоило лишь то, что ты можешь не угодить царю…
– Неужели ты думаешь, что глаза того, кто живет ради Маат, так слепы, что не увидели бы правды? Знаешь ли ты, что это…
Тутмос хотел сказать: «оскорбление царя», но Бак перебил его:
– Ты слишком молод еще, мой друг, чтобы правильно судить о людях, о царях и даже о правде! Но ты еще столкнешься с этим, ты еще поймешь, что я хотел тебе только добра. Давай оставим этот разговор! Твой дом уже построен и обставлен. И он всегда будет полной чашей, так как царские заказы тебе обеспечены. Мне кажется, что, прежде чем набирать себе подмастерьев, тебе сперва следует подумать о хозяйке этого дома! Сейчас, по-моему, настало самое время поговорить об этом.
Но прежде чем Бак успел закончить эту фразу. Тутмос бросил взгляд на Ипу. Сердце его затрепетало, когда он увидел скорбное выражение лица друга.
Тутмос ответил не сразу. Наступила тягостная тишина. Все смотрели на Тутмоса. Глубоко вздохнув и глядя прямо в глаза скульптору, он сказал:
– Может быть, было бы лучше, если бы ты выдал свою дочь за моего друга Ипу. – Голос его звучал тихо, но без тени сомнения. – Мне кажется, он был бы лучшим мужем для Бакет. К тому же он заслужил этого больше, чем я!
При слабом свете масляного светильника Тутмос все же увидел, как потемнело лицо Бака. Главный скульптор поднялся и сказал:
– Если ты так думаешь, Тутмос, то нам не о чем говорить друг с другом. – Голос Бака настолько изменился, что Тутмос не сразу узнал его.
Бак направился к двери и вышел.
Комната быстро опустела. Никто из мастеров не сказал ни слова. Они молча поднялись и ушли. Тутмос провел их через приемную и сразу же вернулся, закрыв за ними дверь.
Он мог, конечно, вернуться в свою спальню в домике подмастерья. Но, чувствуя, что за остаток ночи ему уже не удастся заснуть, подошел к столу, над которым висел светильник, и взял в руки гипсовую модель. В мерцающем свете черты лица фараона, казалось, ожили. Только теперь, после мучительного напряжения, которое в течение нескольких недель терзало его душу, Тутмос почувствовал облегчение. Ему хотелось смеяться и плакать. И стало стыдно самого себя. Он молча сел, ощущая, как удары сердца отдаются во всем теле.
– Зачем ты это сделал, Тутмос? Зачем? – внезапно услышал он чей-то голос.
Тутмос сразу же очнулся. Это же был голос друга! Сколько времени он уже не слышал его!
– Ипу! – позвал Тутмос. – Где ты? Иди скорей ко мне, Ипу!
Из дальнего, едва освещенного угла комнаты поднялась коренастая фигура.
– Ты приобрел себе врага, Тутмос! Смертельного врага!
– Зато я сохранил друга! Друга на всю жизнь.
– Ах, Тутмос, если ты это сделал ради меня, то должен сказать, что я недостоин этого!
– Что ты говоришь?! Это ведь я причинял тебе боль! Правда, невольно, не зная сам. Но ведь это задевало тебя за живое. Если ты на меня не сердишься…
– Нет, Тутмос. Но за твое благородство мне приходится платить неблагодарностью.
Слова Ипу поразили Тутмоса, и он не знал, что ему сказать на это. Ипу после недолгого молчания продолжал:
– Еще задолго до твоего прихода мастерскую я часто обменивался с Бакет дружескими словами. Я не делал этого за спиной ее отца, да он и не имел ничего против. «Она еще слишком молода, – сказал он мне однажды. – Но когда придет ее пора, я поговорю с ней о тебе». Эх, мне следовало бы договориться обо всем, прежде чем она увидела тебя!
Через некоторое время после того, как ты начал работать в мастерской, девушка совсем изменилась по отношению ко мне. Когда замечала меня издали, старались уйти подальше. А когда ей не удавалось избежать встречи со мной, лишь коротко и нехотя отвечала на мои вопросы. Я ходил как безумный. Я не мог себе представить, что явилось причиной такой перемены. Я даже не подозревал, что дело в тебе. Мне и в голову не приходила такая мысль: ведь я ни разу не видел, чтобы вы хотя бы говорили друг с другом. Нет, Тутмос, тебе не нужно оправдываться, я знаю, что ты не помышлял о ней до тех пор, пока ее отец при мне не заговорил с тобой об этом. Но я совершенно уверен, что она сама уговорила отца сосватать ее за тебя. У Бака не было оснований противоречить ее желанию. Это было еще до того, как царь пожаловал тебе мастерскую, но и тогда уже было ясно, что ты пойдешь дальше меня.
Ну, а что делать теперь? Разве она не возненавидит тебя, когда узнает, что ты отказался от нее? А если я… все-таки женюсь на ней, разве она не будет требовать от меня, чтобы и я ненавидел тебя? И все-таки, мне кажется, тебе не следовало так явно отказывать Баку. Ведь он мог объяснить Бакет, будто он сам передумал. Ах, как прав он был, когда сказал тебе: «Ты слишком мало знаешь о людях, о царях и о правде!».
– Может быть, в отношении людей он и был прав. Что же касается царя, то царь все-таки предпочел мою модель многим другим.
Эти слова Тутмос произнес совсем медленно и так тихо, что их едва можно было разобрать. Но как только Ипу понял смысл сказанного, он возразил:
– Нет, Тутмос! Не царь заметил первым твою работу, а царица. Это Нефертити обратила внимание на гипсовую маску. Для меня до сих пор загадка, как она заметила ее. Твоя модель была заслонена большой каменной чашей, выполненной в виде сирийской крепости с зубчатыми стенами и башнями. Может быть, именно чаша привлекла ее внимание. Наверно, она взглянула в промежуток между башнями, как в окошко, и увидела глаза своего супруга, смотревшие на нее с гипсовой маски. Взор их проник в ее душу, и она, протянув свою прекрасную руку через каменную чашу, достала гипсовую модель, повернулась к Эхнатону и сказала: «Я хочу, чтобы статую для твоего Ка вылепил скульптор, изготовивший эту гипсовую модель». Я случайно стоял совсем близко и все это слышал собственными ушами… Нет! – поправился Ипу. – Я не случайно оказался так близко, я собирался незаметно переставить твою гипсовую маску в другое место, туда, где фараон собирался пройти еще раз. Бак ничего про это не знает, ведь он не слышал слов царицы. Царь подозвал его лишь затем, чтобы узнать имя автора этой работы.
Ипу сказал так много, что Тутмос не в силах был все сразу осмыслить.
Неужели Нефертити, которую Тутмос представлял себе как во сне, из сотен скульптурных изображений мужа заметила лишь его работу, стоящую за другими вещами, и оценила ее как лучшую? Эхнатону тоже понравилась маска, понравилась даже вдвойне, потому что его супруга доказала своим выбором, что не только бесконечно любит его, но и – что гораздо больше для него значило – понимает все его мысли.
Тутмосу было приятно, что Ипу от всей души старался ему помочь, и в то же время досадно, что Бак попытался извлечь из всего этого возможную для себя пользу.
– Нет, Ипу, – сказал Тутмос, – если ты думаешь, что работы Бака более правдивы, чем мои, то ты ошибаешься. Если я хочу служить правде, я не могу стать его зятем, и не только потому, что хотел тебе сделать добро! Я даже боюсь, мой дорогой, что сослужил тебе плохую службу, и если ты в дальнейшем будешь избегать встреч со мной, то я смогу это понять. Избегать? Ну что ты! Больше всего мне хотелось бы оставить мастерскую Бака и перейти к тебе подмастерьем.
Как мольба о помощи прозвучали эти слова Ипу, и сострадание родилось в сердце Тутмоса. Сколько пришлось перетерпеть его другу, сколько перенести! И он сказал:
– Не подмастерьем, Ипу, а мастером…
– Нет, Тутмос! Не нужно так делать! Ты же не хочешь еще больше обидеть Бака, да и девушку тоже?
«Он лучше, чем я», – со стыдом думает Тутмос и, не что возразить, молча пожимает руку Ипу. Некоторое время они стоят друг возле друга. Ипу направляется к выходу. Тутмос прощается с другом у двери и выходит его проводить.
Прежде чем окончательно проститься, Ипу сказал:
Ну, а что будет с тобой, Тутмос? Тебе совершенно необходимы женские руки, которые поддерживали бы порядок в твоем большом доме. Ты не хочешь взять к себе свою мать, если она еще жива?
Мать! Если… она еще жива!
Кто околдовал его так, что он раньше не подумал об этом? До тех пор, пока жрецы властвовали в Южном Оне, ему не следовало там показываться, чтобы не подвергать ни себя, ни мать смертельной опасности. Ну, а теперь, когда власть жрецов сломлена, что дурного мог бы ему сделать тот же Панефер, ему, скульптору царя? И если Тутмосу предстоит изготовить статуи Эхнатона для его Ка, разве не придется ему все равно ехать в каменоломни на юг? Где в другом месте можно найти более подходящий камень?
– Сам Атон осенил твою голову этой мыслью, – произнес Тутмос. – Он сделал это, чтобы еще раз доказать, что ты никогда не перестанешь быть моим другом. Да, я обязательно возьму мать к себе! Дай бог, чтобы она была еще жива!
Он прижимается лбом к плечу друга и быстро уходит. Когда он идет по двору своего дома, на востоке уже занимается первая полоска начинающегося дня.
В эти утренние часы Тутмос больше не может заснуть, да он и не пытается заставить себя это сделать. Пролежав с полчаса, он встает и идет к колодцу, чтобы освежить осунувшееся после бессонной ночи лицо.
Тутмос выходит на объятую утренней тишиной улицу. Но вот уже раздаются и первые звуки просыпающейся жизни. Это его шаги гулко стучат по мостовой.
Он идет по теневой стороне улицы без всякой цели и, вспомнив мотив какой-то песенки, начинает ее напевать.
Когда до сознания Тутмоса дошло, что он поет, мастер испуганно огляделся вокруг. И только тут он заметил, что находится далеко за чертой города, на том месте, где горы, как бы полукругом окружавшие город, подходят к самому берегу реки.
Скалы здесь образуют отвесный обрыв, Тутмос поднимается вверх по протоптанной тропе. Головокружительная высота не останавливает молодого скульптора. За трудности подъема он вознаграждается все новыми прекрасными видами. Сейчас он находится в самой северной точке долины Атона. Тутмос смотрит на другую сторону реки, стиснутую в этом месте высокими скалами. Он любуется тем как утренний ветер играет парусами кораблей. Тутмос продолжает взбираться дальше по тропинке и с удовольствием обнаруживает, что она тянется вдоль всего горного хребта. Он не знал, что отсюда можно осмотреть город, обойдя его по полукругу, и с разных сторон любоваться его красотой.
Прежде чем повернуться спиной к реке и пойти вправо, скульптор заметил каменную глыбу необычайной формы, стоящую в нескольких шагах от обрыва, спускающегося прямо к воде. Ее правильные очертания говорили о том, что рука человека уже касалась этого камня. На тщательно отшлифованной стороне, обращенной к тропинке, Тутмос обнаружил надпись.
«Наверно, это пограничный камень, – подумал Тутмос. – Значит, я нахожусь на северной границе Ахетатона».
Когда Тутмос был еще ребенком, он не имел возможности научиться чтению и письму в Доме для учения, подобно сыновьям жрецов и чиновников. Поэтому он должен быть благодарен Иути. Старик обучил Тутмоса, и надписи на стенах храмов и памятников не остались для него немыми. Они раскрывали ему свои тайны, хотя это и стоило зачастую большого труда. Старый Иути говорил, что лишь тот скульптор хорош, который не только своими изваяниями, но и начертанием имени человека может предохранить его от забвения и даровать вечную жизнь.
– Неужели ты всю жизнь хочешь зависеть от того, кто будет подписывать твои работы, а ты даже не сможешь прочесть, что он написал? – спрашивал Иути рассерженно, когда Тутмос хныкал, мучительно разбирая надписи.
Для Тутмоса не составляло труда запомнить форму письменных знаков, но его злило, что он лишь с большим трудом мог понять их значение. Кругом весело щебетали птицы и жужжали пчелы, а он должен был тростинкой наносить надоевшие ему знаки на глиняном черепке. Но прежде чем Тутмос сумел усвоить значение каждого письменного знака (некоторые передавали один звук, другие – группу звуков, а многие просто определяли общее понятие, к которому принадлежало данное слово), ему немало пришлось потрудиться. Однако старик не оставлял его в покое до тех пор, пока Тутмос кое-как не освоил эту премудрость.
Тутмос невольно вспомнил своего старого мастера, остановившись перед камнем и разглядывая ряды иероглифов на нем. Что бы сказал Иути о его лучшей работе, на которую обратила внимание царица и которая заслужила похвалы Эхнатона? Неужели старик не простил бы его? Его, нарушившего волю старого мастера?
Тутмос даже испугался, когда понял, что ссора с покойным волнует его гораздо больше, чем разногласия с главным скульптором Баком, который жив и может доставить ему еще очень много неприятностей. Почему же так? Неужели Иути каким-то непонятным образом был ближе к правде, чем Бак? Неужели Бак, на словах столь ревностный приверженец правды, делает это только для того, чтобы заслужить признание и похвалу?
Он сделал движение рукой, как бы отгоняя грустные мысли, и, подойдя к скале с надписью, начал читать:
6-й год царствования, 4-й месяц Всходов, 15-е число. В сей день Его величество был в Ахетатоне в своем ковровом шатре, который был поставлен для Его величества – да будет он жив, невредим, здоров! – в Ахетатоне и название которого «Атон доволен». Воссиял Его величество – да будет он жив, невредим, здоров! – на колеснице из светлого золота, подобно Атону, когда восходит он на небосклоне и наполняет Обе Земли своей любовью.
Предпринял он добрый путь в Ахетатон в первый раз, когда нашел его. Основал он его в качестве памятника Атону, как приказал ему его отец Ра-Хорахти, ликующий на небосклоне, в имени своем как Шу, который есть Атон, одаренный жизнью на веки веков, чтобы создать ему памятник в нем.
Повелел он, чтобы в день основания Ахетатона справили великие жертвоприношения хлебом, пивом, откормленными быками, скотом всяким, птицей, вином, плодами, благовониями, овощами всякими прекрасными.
Затем Его величество отправился на юг и остановился перед своим отцом Атоном на горе к юго-востоку от Ахетатона, и лучи Атона были на нем, давая жизнь, счастье, делая молодым тело его ежедневно.
И произнес клятву царь Верхнего и Нижнего Египта, живущий правдой, Нефйрхепрура-Ваэнра, сын Ра, живущий правдой, владыка венцов, Эхнатон: «Клянусь отцом моим Атоном и расположением моим к царице и детям ее, которой да будет дан преклонный возраст, великой жене царя Нефернефруатон-Нефертита – да будет она жива во веки веков! – в течение миллионов лет под защитой фараона – да будет он жив, невредим, здоров! И да будет дан преклонный возраст царевне Меритатон и царевне Мекетатон, детям ее, которые да будут под защитой царицы, их матери, на веки веков.
Это моя истинная клятва, которую я хотел произнести и о которой я не скажу, что неправда, во веки веков.
Что касается южной пограничной плиты, что находится на горе к востоку от Ахетатона, то это она будет пограничной плитой Ахетатона, около которой я сделал остановку. И не преступлю я ее в южном направлении во веки веков.
Да будет поставлена юго-западная пограничная плита точь-в-точь на одном уровне с ней на горе к югу от Ахетатона.
Что касается средней пограничной плиты, что находится на горе к востоку от Ахетатона, то это она будет пограничной плитой, около которой я сделал остановку на горе к востоку от Ахетатона, и не преступлю я ее в восточном направлении во веки веков.
Да будет поставлена средняя пограничная плита, что будет на горе к западу от Ахетатона точь-в-точь на одном уровне с ней.
Что касается пограничной плиты к северо-востоку от Ахетатона, около которой я сделал остановку, то это она будет северной пограничной плитой Ахетатона. И не преступлю я ее в северном направлении во веки веков.








