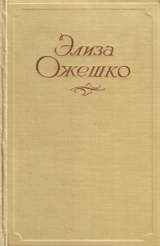
Текст книги "Аргонавты"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Через несколько минут квартира Краницкого опустела, оба его приятеля уехали, а он снова сидел, ссутулясь, на кушетке и, опустив голову, вертел двумя пальцами золотой портсигар. Улица за окнами была довольно пустынная, и в комнаты донесся грохот удалявшегося экипажа. Краницкий напряженно прислушивался, а когда стук затих, он вдруг остро пожалел, что не поехал туда, где поют, шутят, едят, пьют – в ослепительном свете, в волнах смеха. Но его тотчас охватило непреодолимое отвращение ко всему. Он был так печален, так подавлен, болен… Как же они, его молодые друзья, не остались с ним посидеть? Он ведь не раз им делал всевозможные одолжения, да просто всегда был к их услугам и горячо любил обоих, особенно Марыся, ce cher enfant [59]59
Этого дорогого мальчика (франц.).
[Закрыть]… И многих других… Сколько раз он выхаживал их во время болезни, утешал, выручал, развлекал… Теперь, когда он не может бежать вслед за ними, как пинчер за своей хозяйкой, с ним остались только тишина и мрак.
Мрак окутывал гостиную, и во всей квартире царила тишина. Нарушил, ее стук шлепающих по полу калош, и в дверях из кухни показалась Клеменсова. На высоком ее лбу, над седыми бровями поблескивали стеклянные глаза очков, а на левую руку был натянут мужской носок, который она начала штопать. Стоя в дверях, она смотрела на этого согбенного, вдруг постаревшего человека, застывшего в угрюмом молчании, и качала головой.
Потом, неслышно ступая, подошла к оттоманке, уселась на табурет, стоявший рядом, и шепотом сказала:
– Ну, чего ты все молчишь и тоску свою пережевываешь в одиночку? Поговори со мной, все-таки станет полегче…
Краницкий молча поглядел на нее, а старуха еще тише спросила:
– Что же она? Очень тебя любила? Правда? Как же это случилось, что она опять вернулась к тебе?
Несколько мгновений Краницкий колебался или раздумывал, затем облокотился на валик и, подперев голову рукой, заговорил:
– Вам, мать, я могу рассказать все: к нашему обществу вы не принадлежите, к тому же вы благородный, преданный и самый близкий мне человек…
В тихой комнате раздался трубный звук: это Клеменсова вытащила из кармана уголок грубого платка и высморкалась. Глаза ее были мокры. Краницкий вздрогнул, поморщился, но продолжал:
– Когда мы впервые встретились после разлуки, на нас повеяло весной. Вы ведь знаете, мать, расстались мы только потому, что я был недостаточно богат, чтобы жениться на бедной девушке. Мама и мысли не допускала, что моей женой может стать гувернантка… а вскоре она вышла замуж за этого богача. Фью, фью! Как преобразилась эта гувернантка, эта девушка, скромная, как фиалка! Светская дама, всегда оживленная, роскошно одетая, элегантная… Но воспоминания о деревне, о полевых цветах, о первом сердечном трепете овеяли нас дуновением нашей весны… Любила ли она мужа? Pauvre, chere âme! [60]60
Бедная, дорогая! (франц.)
[Закрыть]Вначале она, кажется, привязалась к нему, но он постоянно покидал ее, не проявлял к ней внимания и упорно, неуклонно гонялся по свету за миллионами… Вечно она оставалась одна. И в свете и дома одна… Дети еще были малы, а она так слаба и нежна и так нуждалась в преданной дружбе, в ласке… С первой минуты я сердцем был у ее ног, и она это чувствовала, а он, уезжая, меня оставлял при ней как советчика, опекуна и отчасти даже покровителя, да по-кро-ви-теля… Выскочка! Глупец! Такой умный – и так глуп, ха-ха-ха!
Злорадный, мстительный смех исказил его лицо, красные пятна над бровями расплылись до половины лба, собравшегося в крупные складки.
– Не волнуйся, Тулек, не волнуйся… еще заболеешь, – уговаривала его Клеменсова, но он уже не мог остановиться и продолжал свои излияния.
– И все же год или даже больше между нами ничего не было. У нас завязалась дружба, но она держала меня в отдалении, боролась с собой… Вы знаете, мать, имел ли я успех у женщин…
– Ох, имел, на вечную свою погибель, имел! – забрюзжала старуха.
– С юных лет я обладал даром художественного чтения и многим ему обязан…
– Уж и обязан! Чем это ты обязан? Беспутством своим да неустройством?.. – опять начала браниться Клеменсова, но он, не замечая этого, продолжал:
– Однажды ей очень нездоровилось после мигрени, был поздний вечер, в огромной пустынной квартире погасли огни, дети спали… Я ухаживал за ней, как брат и как мать. Затаив свои чувства, я не проявил ни малейшей неделикатности и вел себя так, словно бодрствовал у постели больного любимого ребенка. Развлекая ее беседой, я не повышал голоса, подавал ей лекарства и конфеты. Потом я стал читать. Не раз она говорила, что мое чтение действует на нее, как музыка. Мы читали Мюссе. Но вы не знаете, кто это. Певец любви, той любви, которую свет называет преступной. Она попросила принести ей что-то из соседней комнаты, я пошел, а когда вернулся, взоры наши встретились, и… «в этот день мы больше не читали» [61]61
Строка из поэмы «Божественная комедия» великого итальянского поэта Данте (1265–1321) («Ад», песнь V).
[Закрыть].
Последние слова он едва вымолвил, закрыл лицо платком, уткнулся головой в валик дивана и неподвижно застыл, может быть даже плакал. Клеменсова нагнулась, уголок грубого платка высунулся из ее кармана, и в комнате снова раздался трубный звук. Потом вместе с табуретом она придвинулась еще ближе и, коснувшись его плеча рукой, обтянутой носком, зашептала:
– Полно тебе, Тулек, не убивайся! Пусть уж вас судит господь, судья праведный, но и милостивый! А мне жалко тебя, да и ту бедняжку жалко! Что же? Сердце не камень, человек не ангел! Но ты уж не убивайся! Все проходит, и твое горе пройдет! Может, когда-нибудь еще будет тебе не так плохо на свете! Может, еще успокоится твое сердце в Липувке, в родном углу… Может, мы еще надумаем со Стефком, как тебя вытащить из этого городского омута.
Краницкий не отвечал; старуха продолжала::
– Опять я получила от Стефка письмо.
– Что же пишет этот почтенный человек?
Клеменсова снова раскипятилась:
– И верно, почтенный, а ты зря его так зовешь, будто из милости или в насмешку. Вот притча арабская! Он хоть и крестник мне, а не сын, да лучше иных родных… Пишет, что хозяйство в Липувке идет слава богу, что посадил он еще сто черенков плодовых деревьев да что недельки через три или четыре приедет и привезет денег.
– Денег! – прошептал Краницкий, – Вот это хорошо!
– Еще бы не хорошо: давно ростовщик забрал бы у тебя эту рухлядь, да один раз я его за дверь вытолкала, а в другой упросила подождать.
Она засмеялась..
– А вытолкать-то его куда было легче, чем упросить: силы у меня много, а он маленький, как комар. Ну да этот раз я чуть руки ему не целовала, так уж он согласился ждать… «Только, говорит, для вас, за то, что вы такая слуга, как мать». И верно, как мать! Своих детей у меня нет, да и никого у меня на свете нет, один только ты!
Краницкий глядел на нее и медленно покачивал головой. Устремив ему в лицо огневые, вдруг омрачившиеся глаза, она так же медленно качала головой в большом чепце.
Горевшая на столике лампа заливала молочно-белым светом и головы этих двух печальных людей, понимавших друг друга без слов, и расставленную у стены разноцветную коллекцию трубок, а в золотом портсигаре, который Краницкий вертел двумя пальцами, зажигала мгновенно гаснувшие огоньки.
V
Алойзы Дарвид после торгов находился в отличном настроении, приобретя на очень выгодных условиях дом с обширным участком. Дом, правда, мало его интересовал – это была развалина, годная только на слом, чем ему предстояло в ближайшее время заняться, – зато участок под садом представлял необычайную ценность. Он был расположен близ одного из вокзалов, где предполагалось возвести большое общественное здание, а потому стоимость его неизбежно должна была возрасти.
Дарвид хотел перепродать его, а затем взять подряд на постройку здания. Это было уже третье предприятие, попавшее ему в руки со времени возвращения, то есть за несколько месяцев. Но что же делать, если того, главного, за которое он с радостью отдал бы эти три, он до сих пор не только не добился, но даже не может толком узнать, в каком оно положении! Иногда это не дает ему спать, однако не мешает заниматься тем, что уже завоевано и начато.
Был ясный, слегка морозный день, мириады алмазов искрились в инее, опушившем деревья, и на снегу, устлавшем широко раскинувшийся сад. Дарвид в сопровождении землемера, архитектора и инженера прогуливался по саду, но прогулка эта была предпринята отнюдь не для созерцания природы, закованной в унизанный бриллиантами мрамор и алебастр. Инженер явился с предложением приобрести участок и энергично защищал интересы своих доверителей; землемер и архитектор говорили каждый о своем, жестами показывая в разных точках пространства расположение и контуры будущего строения. Дарвид в блестящем цилиндре и в узкой, по моде, шубе с редкостным, очень дорогим воротником ровным шагом расхаживал по снегу, больше слушал, чем говорил, и молча улыбался с довольным видом, как вдруг в глаза ему ударил ослепительно яркий свет. Перед ним, подобно великолепной колонне, высилось дерево; на концах сучьев в радужном сиянии пылали, как свечи, хрупкие ветки, изваянные из алебастра. Словно из фонтана разноцветных огоньков, от этой колонны, покрытой искусной резьбой, взметались снопы радужных лучей. Дарвид быстрым движением вскинул на нос пенсне и, досадливо поморщась, буркнул:
– Какой нестерпимый свет!
Архитектор, разглядывая дерево, с улыбкой заметил:
– Такой колонны не создал ни один ваятель, даже в древней Греции!
– Жаль только, что она бесполезна, – тоже улыбаясь, ответил Дарвид.
– Вы не большой любитель природы!.. Вот и я также… – начал инженер.
– Напротив, напротив… я иногда замечаю в природе то или другое, – пошутил Дарвид. – Но стать, как вы говорите, любителем природы мне было некогда. Это роскошь… Людям железного труда она недоступна… для этого нужно иметь время!
С этими словами он отвернулся от прекрасного произведения природы и двинулся дальше, но снова остановился. В нескольких шагах от него тянулся забор, отделявший сад от улицы, и в уличной сутолоке он заметил что-то, сразу привлекшее его внимание.
Близился час отправления одного из поездов на железной дороге. По широкой, не совсем еще застроенной улице проносилось множество карет и санок в сторону вокзала. Позвякивая упряжью, катили сани, пронзительно скрипел под колесами снег, поминутно раздавались окрики возниц. Дамские и мужские шляпы, всевозможные меха, ливреи кучеров, клубы пара, летящие вслед за лошадьми, покрытыми цветными сетками, – все это сливалось в пеструю, колеблющуюся, сплошную ленту, с шумом и гомоном скользившую по снегу в морозном воздухе, искрящемся на солнце.
Одна карета казалась запертым цветником. Из окон выглядывали, выплескиваясь наружу, розы, камелии, гвоздики и фиалки. В глубине кареты, утопая в разноцветных волнах венков, букетов и корзин, виднелась дамская шляпа с большими полями. Вслед за каретой мчались сани, запряженные парой рослых лошадей, которыми правил кучер с огромным меховым воротником; в ногах у седоков, двух молодых людей, стояла еще корзина цветов, но уже самых редких и самых дорогих – орхидей. Карета и сани промелькнули в уличной толпе, как чудесное видение весны, неожиданно возникшее из снега и мгновенно исчезнувшее. Дарвид обернулся к спутникам:
– Кто эта дама в карете с цветами?
– Бианка Бианетти.
Это имя не требовало комментариев. Дарвид удовлетворенно улыбнулся. Ничего удивительного, что Мариан вместе с этим барончиком провожает на вокзал женщину, пользующуюся европейской славой, и везет для нее цветы! Напротив, напротив! Он и сам несколько раз в жизни… А если не больше, то лишь потому, что у него не было времени.
– Забавная история сегодня произойдет на вокзале, – начал инженер. – Для Бианки заказан экстренный поезд, который отойдет через пять минут после обычного.
– Зачем? – спросил архитектор..
– Не трудно догадаться: чтобы лишние пять минут наслаждаться лицезрением и обществом знаменитой певицы.
– Экстренный поезд! Какое безумие! – воскликнул Дарвид. – Кто же это сделал?
Инженер и архитектор обменялись многозначительными взглядами, наконец инженер ответил:
– Ваш сын.
Судорога пробежала по лицу Дарвида, но он совершенно спокойно сказал:
– Ах, правда! Теперь я припоминаю! Мариан мне что-то рассказывал об этом. Я попытался его отговорить, но если он настаивает… Что же делать? Il faut, que la jeunesse se passe! [62]62
Молодость должна взять свое! (франц.)
[Закрыть]
С этими словами он начал прощаться, пожимая руки своим спутникам.
– Мне очень неприятно, что мы не кончим сегодня наши дебаты, но я вспомнил о важном деле. Пожалуйста, зайдите ко мне завтра утром в обычные приемные часы.
Дарвид приподнял шляпу и ушел. Усаживаясь в карету, он бросил кучеру:
– На вокзал! Скорей!
У платформы уже стоял под парами локомотив с вереницей вагонов. Толпа хлынула на засыпанный снегом перрон и устремилась к вагонам. Дарвид тоже вышел, отыскивая глазами юное лицо, наполнявшее тревогой его бессонные ночи. Вначале он не мог его найти, но через минуту большую часть толпы поглотили вагоны, а горстка людей, находившихся здесь в роли зрителей, сбившись в кучу, не отрываясь, смотрела в конец перрона. Там, в руках нескольких человек, расцвел чудесный сад и какая-то пара весьма оживленно беседовала по-итальянски. Певица, красивая брюнетка, с горящими, как черные звезды, глазами была итальянка. Разговаривал с ней белокурый молодой человек, казавшийся моложе ее, красивый и изысканно одетый. В нескольких шагах от них стоял с небрежным и рассеянным видом тщедушный, рыжеватый, тридцатилетний барон Блауэндорф.
В морозном воздухе раздался второй звонок, сзывая пассажиров. Артистка, прелестно улыбаясь, простилась кивком головы и двинулась к вагону, но юноша, ловко повернувшись, преградил ей путь, продолжая что-то говорить и не сводя с нее упорного взгляда. Еще не выказывая беспокойства, она остановилась и, улыбаясь, слушала.
Алойзы Дарвид стоял на перроне, смешавшись с толпой; до ушей его доносились обрывки разговоров.
– Не уедет! – произнес чей-то голос.
– Уедет! Еще достаточно времени! – возразил другой.
– А он нарочно ее задерживает, чтобы не уехала!
– Но она действительно прелестна! И улыбается так же восхитительно, как поет!
С другой стороны возле Дарвида переговаривалось несколько голосов.
– Молодец малый! Вы посмотрите, посмотрите, как он ее заговаривает, а ведь нарочно… Бедняжка, придется ей, как миленькой, вернуться в город!
– Как можно! Это будет просто невежливо с его стороны!
– А кто этот белокурый красавчик? – спросила какая-то женщина.
– Молодой Дарвид. Сын этого известного коммерсанта.
– Такой молодой! Совсем мальчик!
– Когда у человека миллионы, он, как персик на солнце, быстро созревает.
– На каком же это они языке говорят? Не могу разобрать, но не по-французски.
– По-итальянски: она ведь итальянка.
– Ну и ловко же он болтает по-итальянски, что твой итальянец!
Тот же голос, который говорил о персике, заметил:
– Миллионы – все равно как святой дух: к кому придут, тот сразу на всех языках заговорит.
Все отъезжающие уже скрылись в вагонах, и, сухо постукивая, стали захлопываться дверцы. На этот раз артистка заторопилась, но молодой Дарвид сказал несколько слов, и она сначала с удивлением взглянула на него, а затем по лицу ее разлилась обворожительнейшая улыбка. На что-то соглашаясь и за что-то благодаря, она кивнула головой с видом королевы, милостиво соглашающейся принять от своих подданных изъявления почтительнейшей преданности.
В толпе, окружавшей старшего Дарвида, кто-то засмеялся:
– Ну и хват малый! Ведь не пустит ее!
– А какой красавчик этот молодой Дарвид! – отозвался девичий голосок.
– Как есть королевич! – прибавил другой.
– Что же это будет? Она не уедет!
– Уедет!
– Бьемся об заклад!
– Согласен!
В одну минуту за спиной Дарвида несколько человек побились об заклад в том, уедет или не уедет сегодня женщина, с которой разговаривал его сын. На тонких губах миллионера появилась довольная улыбка, глаза из-за стекол пенсне глядели на сына почти с нежностью. Королевич! Да! Сколько непринужденной грации в движениях! Какое великолепное пренебрежение к глазеющей на него толпе! А видно, везет ему в любви! Эта артистка с европейской славой так и пожирает его своими черными очами.
Раздался третий звонок, и в то же мгновение воздух прорезал протяжный свист. Колеса вагонов медленно и мерно завертелись и покатили по рельсам.
– Так и есть! – крикнул кто-то в толпе. – Не уехала!
– Я проиграл! – отозвалось несколько голосов.
– Как хорошо, что этот красавчик поставил на своем! – прозвенел девичий голосок.
Вдруг с дальнего конца перрона снова донесся свисток паровоза и послышалось четкое постукивание колес о рельсы; вдали показалась какая-то черная масса, с каждой секундой она приближалась, и, наконец, под султаном дыма явственно обозначились очертания паровоза и нескольких вагонов. Это был поезд-игрушка, маленький, свежевыкрашенный; горела на солнце желтизна меди, сверкал синевой лак, алели в окнах бархатные подушки. Поезд остановился. Проводник распахнул дверь и замер в выжидательной позе, а Мариан жестом пригласил в вагон знаменитую артистку.
Теперь стоявшая на перроне кучка людей все разгадала и пришла в восторг. Причудливость затеи, на которую была выброшена такая уйма денег, поразила воображение людей умеренных, пробудив в них сочувственный интерес к золоту и к сумасбродным выходкам, независимо от их цели и значения. По перрону разнесся сухой всплеск аплодисментов, но вскоре паровоз снова дал свисток, и маленький экстренный поезд тронулся в путь, отстав от большого, обычного, всего на пять минут.
Алойзы Дарвид встал у входа в вокзал, откуда мог наблюдать за сыном, медленно идущим по перрону. Он смотрел на Мариана с тревожным любопытством, заметив в нем, к своему удивлению, нечто непонятное. Вопреки тому, чего следовало ожидать и что казалось естественным, в выражении лица и в движениях Мариана не чувствовалось ни юношеской радости или удовлетворения совершенным поступком, ни грусти, вызванной отъездом женщины, ради которой он совершил этот поступок. Когда на перроне раздались аплодисменты, юноша обернулся и окинул толпу мимолетным взглядом с таким равнодушием, как будто это был предмет, недостойный даже презрения. Теперь тоже весь его облик выражал полнейшее равнодушие, даже скуку, от которой опустились углы губ и чуть поблекли розовые щеки, а в синих прозрачных глазах, устремленных вдаль, запечатлелись неудовлетворенность или разочарование, Мечта или даже мечтательность, тщетно ищущая в пространстве некий неуловимый призрак. Он не заметил отца: прозрачные глаза его смотрели куда-то вдаль; не заметил Дарвида и барон, долго рывшийся в кошельке, пока не достал, наконец, десятирублевую бумажку и не бросил ее носильщикам, которые внесли в вагон свертки и цветы певицы. При этом он процедил сквозь зубы:
– У меня нет мелочи!
Мариан, не выходя из задумчивости, как бы безотчетно сказал:
– Как странно!
– Что? – спросил барон.
– То, что все на свете так мелко, мелко…
– Кроме моего аппетита: аппетит у меня сейчас огромный! – воскликнул барон.
«Ну и тех баснословных сумм, которые, должно быть, тратит Мариан», – подумал Дарвид, направляясь к своей карете.
Проходя по вокзалу, он услышал еще несколько замечаний, которыми обменивались в публике.
– За пятиминутный разговор с красивой женщиной отвалить столько денег – это характер!
– Многообещающий мальчик! А?
– Особенно для папы!
– Говорят, и долгов же у него, как волос на голове!
– Он и занимает в расчете на папин карман…
– Или на папину смерть…
Другие говорили:
– В таких руках эта «maleparta» [63]63
«Maleparta»– от латинской пословицы: Male parta, male dilabuntur, т. е. дурно приобретенное, дурно и гибнет.
[Закрыть]скоро полетит ко всем чертям.
– Почему maleparta?
– А что, можешь ты себе представить святого Франциска Ассизского, который наживал бы миллионы?
Пока карета проезжала одну улицу за другой, в голове Дарвида теснились самые противоречивые мысли. Да, да, этот мот способен поглотить золотой песок из любой золотоносной реки! Но с каким изяществом он это делает – поистине королевич! Можно гордиться таким сыном, но вместе с тем он сильно обеспокоен и огорчен. Нельзя допускать, чтобы это продолжалось до бесконечности. Мальчик делает долги в расчете на его смерть! И эта полнейшая праздность! А чего стоит человек без труда? На нем уже сказываются последствия безделья: какое-то преждевременное увядание, бесплодная мечтательность… Но как хорош собой! У него такой вид, как будто он родился с княжеской короной на голове!
Поднимаясь по мраморной лестнице своего дома, Дарвид сказал одетому в ливрею швейцару:
– Когда пан Мариан вернется, передать, что я прошу его зайти ко мне.
Час или больше Дарвид провел один в своем кабинете за письменным столом, просматривал разные письма и счета, что-то отмечал и записывал, но по лицу его то и дело пробегала отвратительная судорога и от нервных движений руки отвратительно шуршала бумага… Наконец дверь из прихожей открылась, и с шляпой в руке в кабинет вошел Мариан. Едва переступив порог, он начал:
– Добрый день, отец. Я очень рад, что ты меня позвал, уже давно я не имел удовольствия разговаривать с тобой. Мы оба так заняты. Несколько недель меня целиком поглощала Бианка Бианетти.
Он держался вполне свободно, хотя был совсем не весел. Дарвид, стоявший возле круглого стола, пристально поглядел на сына и спросил:
– Ты влюблен в эту актрису?
Мариан искренне, почти громко рассмеялся:
– Такой вопрос, дорогой отец, это святилище, возведенное на маковом зернышке; любовь, говорят, святыня, а моя прихоть в отношении этой прелестной Бианки…
– Маковое зернышко, которое ты возишь по свету в экстренных поездах, – докончил Дарвид.
– Ты уже слышал об этом?
– Я это видел.
– А, ты был на вокзале! Странно, что я тебя не заметил.
Он пренебрежительно махнул рукой.
– Снова разочарование. Я так мечтал об этом сюрпризе для Бианки и так был уверен, что это доставит мне живейшее удовольствие… Между тем я убедился, что и это пустяк, не новый и ничтожный, как все вообще. И всегда одинаково: то, что так долго создает воображение, мгновенно разрушает здравый смысл. Невозможно выдумать ничего необыкновенного. Мир так стар, что нам он достался уже в виде изношенной тряпки.
Он сел в кресло возле стола и поставил цилиндр на ковер. Дарвид, не меняя позы, ответил:
– Если воображение создает глупости, не удивительно, что здравый смысл мгновенно разрушает эти здания.
– А кто может быть уверен, что созданное им мудро? – прервал Мариан.
И, вынув из кармана портсигар, спросил:
– Ты позволишь, отец?
Затем, учтиво протянув портсигар отцу, снова спросил:
– Может быть, ты тоже закуришь?
Дарвид, нахмурив брови, отрицательно покачал головой и, усаживаясь, спросил в свою очередь:
– Почему после моего отъезда ты сейчас же перестал посещать университет? Я не раз задавал тебе этот вопрос, но так и не получил ясного ответа.
– Извини, отец, но мне всегда страшно лень писать письма. В устном разговоре я охотно тебе объясню…
Дарвид прервал его:
– У меня нет времени для длинных разговоров, поэтому скажи мне сразу: тебя не влечет наука?
Мариан пустил тонкую, как нитка, струйку дыма и, подумав, начал:
– Нет, отчего же? Я вовсе не питаю отвращения к науке. Напротив, я много читаю, и любознательность является как раз одной из самых отличительных черт моей индивидуальности. Уже в детстве я поглощал огромное количество книг, но школьных уроков не учил никогда. Все этому удивлялись, а объясняется это очень просто и ответ напрашивается сам собой. Пассивные личности подчиняются правилам, а для энергичных, одаренных высоким интеллектом они нестерпимы. Правила и обязанности – это стойла, в которые человечество запирает свой домашний скот, чтобы он не потравил возделанных полей. Волы и бараны терпеливо стоят в загонах, личности же с высокой организацией их разрушают и выходят на свободу. Я должен быть абсолютно свободен во всем и потому перестал посещать этот трактир, где наука определенного сорта отпускается в определенные часы определенными порциями. По просьбе и настоянию мамы, я проявил, однако, немало доброй воли: с юридического факультета перешел на естественный, а затем на философский, надеясь, что меня хоть что-нибудь заинтересует и что тогда я смогу разогнать бурю отчаяния, охватившего бедную маму. Но я не смог. Профессоры оказались скучнейшими людьми, студенты – каким-то сбродом. Светская жизнь меня еще забавляла и поглощала все мое время; неудовлетворенное воображение уносило дальше и выше, и я прекратил эти скучные, к тому же совершенно бесцельные занятия, которые только раздражали меня.
Он затушил в пепельнице докуренную папиросу и, глубже усевшись в кресло, продолжал:
– Насколько я мог заметить, обычно люди систематически изучают науки ради одной из двух целей: либо они намерены посвятить свою жизнь так называемому спасению человечества, либо вынуждены зарабатывать себе кусок хлеба. Ни то, ни другое для меня не может быть целью; что касается первой, то я руковожусь индивидуалистическими принципами, ведущими к анархизму. Так называемое спасение человечества в нашу упадочную эпоху уже стало почти неправдоподобной басней, а голая правда состоит в том, что каждый живет собой и для себя. Кому судьба улыбнется, тот живет более или менее приятно, кому не повезет – погибает. Всем управляет случай и удачное или неудачное стечение обстоятельств. Невозможно обратить землю во всеобщий рай, как нельзя маленькую планету превратить в огромную. Спасение человечества – это один из наркотиков, выдуманных для усыпления человеческой скорби. Альтруисты завели целую аптеку таких наркотиков, желающие могут ими пользоваться, это их право. Но я не хочу, чтобы меня усыпляли. Я индивидуалист и не понимаю, почему Павел должен страдать ради облегчения страданий Гавла. Пусть Гавел сам думает о себе, так же как Павел, и, если это люди благоразумные, они как-нибудь проживут, не прибегая к пузырькам с этикетками. Таково мое мнение относительно одной из целей, ради которых люди систематически изучают науки. Что касается второй…
Он достал портсигар и, закурив папиросу, продолжал:
– Что касается второй цели, то совершенно очевидно, что мне, твоему сыну, незачем самому выпекать свой хлеб. Таковы мои убеждения, и я изложил их тебе с тем большим удовольствием, что издавна питаю искреннее уважение к силе и независимости твоего ума. К тому же я уверен, что лучше тебя, дорогой отец, меня никто не поймет.
Он ошибался. Его плавная, учтивая речь осталась совершенно непонятой. Быть может, впервые в жизни Дарвид не понимал человека, с которым разговаривал. Он был изумлен. Вместо праздного, легкомысленного юноши, которого страсти толкали к расточительству, перед ним сидел мудрец, мыслящий и разочарованный, с брюзгливой усмешкой на губах, с иронией во взоре и в речи. Эта брюзжащая мудрость, сочетающаяся с непомерной самонадеянностью, уверенностью в своей правоте и независимости, казалась особенно поразительной в стройном и нежном юноше, с розовым лицом, с голубыми, как незабудки, глазами и немного усталым ртом под маленькими, юношескими усиками. При этом великолепный слог, изысканность и безупречная учтивость в движениях, в голосе, даже в комплименте, которым он изящно закончил свою речь.
Дарвид был изумлен. Ему некогда было следить за новыми направлениями в мыслях и характерах, некогда изучать постоянно меняющиеся формы, в которые время отливает разные поколения людские. На миг он оцепенел, наконец на губах его появилась ироническая улыбка. Этот мальчик со своими теориями просто смешон!
– Все, что ты сказал, просто смешно, – возразил Дарвид. – Ты создал принцип из полного отсутствия принципов. В твоем возрасте такие взгляды, такой скепсис – это противоестественно. В твоем почти детском, возрасте ты с этим багажом просто смешон!
Теперь уже Мариан, вскинув голову, с удивлением взглянул на отца. Он тоже ждал совсем иного.
– Смешно! Смешны! Смешон! – вскричал он. – Что это значит, отец? Это не довод. Я был уверен, что мы вполне сходимся во взглядах. Однако с глубочайшим изумлением вижу, что это не так. Как же, отец, значит, ты не следуешь девизу: каждый живет собой и для себя? Но ведь нельзя относиться с большим презрением ко всем крашеным горшкам, чем это делал ты всю свою жизнь. Или, может быть, это разногласие только мнимое? Пожалуйста, приведи мне доказательства. «Смешно» – это не доказательство. Я могу быть смешон и все-таки прав. Отсутствие принципов? Что же? Принципы – это один из самых ярко раскрашенных горшков, и потому в нем трудно разглядеть, что это глина. Но это не важно. Пожалуйста, объясни точнее. Какие принципы ты имеешь в виду?
Дарвид с судорожно подергивающимся лицом ответил:
– Какие? Моральные. Разумеется, моральные…
– Да, да, но, пожалуйста, разъясни мне подробнее, что это за принципы. В чем они заключаются?
Дарвид снова замолк. В чем они заключаются? Да что он, ксендз или гувернантка, чего ради он стал бы над такими вещами ломать себе голову? Другое дело юриспруденция, математика, архитектура, биржа, банки… Но вопросами морали он никогда не занимался, ему было некогда. Глухой гнев охватил его, и, когда он заговорил, слова со свистом срывались с его губ:
– Мой милый, ты ошибся адресом. Не отцы прививают детям принципы морали. Это дело матерей. У отцов нет на это времени. Воскреси в памяти свое детство, вспомни принципы, которые прививала тебе мать, и ты найдешь ответ на свои вопросы.
Мариан засмеялся.
– Извини, отец, но то, что ты сказал, напоминает мне одного моего приятеля, который пишет книги. Un pauvre diable [64]64
Бедняк (франц.).
[Закрыть], но мы ввели его в общество, потому что он талантлив: это легитимация. Так вот однажды кто-то его спросил: «Что ты делаешь, когда, описывая что-нибудь, наталкиваешься на трудности?» – «Стараюсь их преодолеть», – ответил он. «А если не можешь преодолеть их?» – «Тогда делаю петлю, то есть, как заяц, бросаюсь в сторону и не говорю того, чего не умею сказать». Так и ты, дорогой отец, поступил, как этот автор, – ты сделал петлю! Ха-ха-ха!
Он смеялся. Но Дарвид становился все сумрачнее и холоднее. Как ни странно, перед этим профессором он несомненно и все больше чувствовал себя школьником. Между тем Мариан продолжал:
– Оставим в покое бедную, дорогую маму. Это воплощение нежности и прелести. Если что-нибудь в этом роде еще не стало для меня крашеным горшком, то это чувство умиления, которое она мне внушает. Она часто говорила мне, да и теперь еще говорит о принципах, но самая лучшая и самая милая женщина все-таки остается женщиной. Чувствительность, рутина и вдобавок отсутствие логики: теория сама по себе, а практика сама по себе, не правда ли? Но ты, отец, это знаешь лучше меня, у тебя было больше времени для исследований этой половины человечества…
Голубые глаза его искрились, золотые кудри упали на белый лоб, а с губ, опушенных маленькими усиками, плавно слетали слова, становившиеся все смелее и все чаще перемежавшиеся отрывистым смехом.








