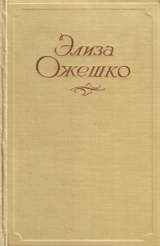
Текст книги "Аргонавты"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Элиза Ожешко
Аргонавты
Господину Францишку Годлевскому на память о долгих совместных размышлениях и беседах – лучах света во мраке —
от автора
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Это был дом миллионера. В парадных комнатах мебель и стены переливали красками и отсветами, словно перламутровая раковина. В зеркалах отражались картины, а паркетные полы лоснились, как зеркала. Темные тона ковров и тяжелые занавеси, казалось бы, должны были скрадывать блеск великолепия, но в действительности придавали ему почти церковную торжественность. Все тут сверкало, искрилось, играло пурпуром, лазурью, золотом, бронзой, всевозможными оттенками белизны, отличающими гипс, мрамор, муар, слоновую кость и фарфор. Китайские и японские безделушки, люстры, бра, канделябры, вазы, утварь в стиле давно минувших веков наряду с изысканным изяществом последней моды, – поистине вершина декоративного искусства. К тому же все тут было отмечено тонким вкусом и тактом: и искусный подбор вещей и живописная их расстановка, в которых безошибочно угадывались рука и ум незаурядной женщины.
Убранство этого дома, несомненно, поглотило суммы, колоссальные для бедняков и весьма значительные даже для людей состоятельных. Владельцем его был миллионер.
Свои миллионы Алойзы Дарвид не получил в наследство, а нажил собственным железным трудом, неустанно продолжая их приумножать. Энергия, трудолюбие и изобретательность его были неиссякаемы. Казалось, дела для него были, как для рыбы вода – стихией, дающей свободу и благоденствие. Какие дела? Многообразные и грандиозные предприятия: возведение общественных зданий и создание наземных и водных путей, купля и продажа, обмен самых разнородных ценностей и денежные обороты на рынках и на бирже. Преуспевать во всем этом мог лишь человек, обладающий самыми противоречивыми свойствами: смелостью льва и осторожностью лисицы, когтями ястреба и гибкостью кошки.
Жизнь его проходила за карточным столом, который представляло собой все пространство огромного государства; то была многолетняя неистово азартная игра, в которой банк обычно держала слепая судьба. Расчет и ловкость, имевшие тут большое значение, все же не всегда могли предотвратить случайность. Нужно было уметь не поддаться случаю и, припав под его ударами к земле, сжаться, чтоб вслед за тем прыгнуть еще выше и, отразив удар, схватить новую добычу. Успех его, как вода в реке, то подымался, то снова спадал, горячность непрестанно охлаждалась трезвым размышлением и расчетом.
Итак – почтовые кареты, вагоны, звонки и спешка вокзалов, искрящиеся снега далекого севера, громады гор на границе, разделяющей два полушария, реки, пересекающие бескрайние просторы, далекий горизонт, подчеркнутый угрюмыми очертаниями извечно безлюдной тайги. Потом снова сумятица, блеск и суета пышных столиц, а в столицах множество дверей: одни распахнуты настежь, другие плотно закрыты; но там, где их нельзя открыть во всю ширь, гибкая кошачья лапа просовывается в щель.
Ему приходилось покидать семью на долгие месяцы, иногда на годы, но и живя под одним кровом, он не выказывал привязанности, не сходился короче и попрежнему был в ней редким гостем. Привязанность, дружба, всякая чувствительность даже в отношениях с самыми близкими людьми требовали свободного времени, а на это его у Дарвида не хватало, как не хватало на то, чтобы задуматься о предметах, не связанных с цифрами, чертежами, датами, то есть с петлями той сети, которой он опутал свою мысль и свой железный труд.
Наслаждения, радости жизни находил он то в мимолетном увлечении женщиной, вспыхивавшем внезапно, между делом, в пути и развеивавшемся вместе с дымом мчавшегося вперед паровоза, то в редком кушанье, которым можно было полакомиться где-нибудь в далеких краях, то в прекрасном пейзаже, невольно приковавшем взор и мгновенно исчезнувшем, то в недолгой, но азартной карточной игре; однако важнее всего были для него связи в высших сферах – с одной стороны, полезные, а с другой – безмерно льстившие его самолюбию. Деньги и положение в обществе – вот две оси, вокруг которых вращались все помыслы, чувства и желания Дарвида – так по крайней мере казалось; но кто же может с уверенностью сказать, что в человеке заложено только то, что проявляется в его поступках? Наверное, никто, – даже он сам.
На этот раз Алойзы Дарвид отсутствовал три года и лишь несколько месяцев назад вернулся в родной город и в лоно семьи, но, как и раньше, был в ней редким и рассеянным гостем. Снова его поглотили дела. С первой же недели, чуть ли не с первого дня, Дарвид увидел тут новое поле деятельности и жаждал его захватить, чтобы на нем совершать свои подвиги, достойные Геркулеса. Однако это зависело от некоего весьма высокопоставленного лица, к которому он никак не мог проникнуть.
Кошачья лапа уже несколько раз округлялась, пытаясь просунуться в щель, – тщетно: дверь была заперта! Дарвиду необходимо было обстоятельно и конфиденциально побеседовать, но он не мог этого добиться. Тогда он прибегнул к средству, которое неоднократно себя оправдывало.
Он нашел личность, обладавшую способностью всюду втереться и всего достигнуть, используя любые обстоятельства, чтобы завязать нужные связи и влиятельные знакомства. Подобные личности обычно бывают довольно темными, но Дарвида это не смущало.
Он считал, что на дне жизни всегда отстаивается темная муть, подобная илу в золотоносной реке. Думая об этой мути, он презрительно усмехался, но, не колеблясь, брал ее в руки, чтобы посмотреть, нет ли в ней крупицы золота. Своих темных помощников Дарвид называл гончими, потому что они травили зверя в чаще, не доступной охотнику. Невзрачные, почти невидимые, они умели даже лучше, чем сам он, сжиматься, перескакивать и пролезать. Несколько дней назад он спустил такую гончую за желанной аудиенцией, но до сих пор не получал никаких вестей. Это беспокоило его и выводило из себя. Он жаждал ринуться на новое поприще, как лев за добычей – на арену.
Спускались сумерки, погружая в полумрак анфиладу больших и малых гостиных. Алойзы Дарвид сидел в ярко освещенном кабинете, убранном богато, но просто, почти строго; он принимал посетителей, являвшихся по разным делам: с докладами, счетами, предложениями и просьбами.
Все в этом кабинете было выдержано в темных тонах, массивное, громоздкое, очень дорогое, но не бросавшееся в глаза. Ничего яркого или причудливого, во всем благородная простота и комфорт. Книги в великолепных застекленных шкафах, две большие картины на стенах, письменный стол, заваленный бумагами, посредине комнаты круглый стол, на нем карты, брошюры, толстые фолианты; вокруг стола массивные кресла, низкие и глубокие. Кабинет был просторный, с высоким потолком, с которого спускалась великолепная, люстра, заливавшая круглый стол ослепительным светом.
Далекий предок Дарвида, Язон Аргонавт, наверное, выглядел совсем иначе, когда плыл в Колхиду за золотым руном. Время, меняя способы борьбы, соответственно ваяет черты героев. Язон рассчитывал на силу своей руки и меча, Дарвид – только на мозг и нервы. Оттого и нервы его и мозг развились за счет мускулов, претворившись в особую силу, которую лишь знаток мог разгадать в невысокой худощавой фигуре Дарвида и в его узком, обтянутом сухой кожей лице, бледном и настолько подвижном, что, казалось, оно вздрагивало при каждом дуновении ветра, уносившего корабль к обетованным берегам.
Медью горели на этом лице две узкие полоски рыжих бакенов, прикрывавших шелковистыми кончиками туго накрахмаленный воротничок сорочки; короткие рыжеватые усы оттеняли бледные тонкие губы, на которых мелькала необычайно изменчивая и выразительная улыбка: она то ободряла, то отпугивала, привлекала или держала в отдалении, поощряла, выказывала недоверие, становилась заискивающей или насмешливой – чаше всего насмешливой. Однако главным средоточием силы казались его серые, как сталь, глаза, холодные, колючие, очень глубокие и проницательные, долго и пристально останавливавшиеся на каждом предмете; они глядели из-под насупленных рыжих бровей, подчеркивавших высокий, удлиненный небольшой лысиной лоб, гладкий и поблескивавший, как слоновая кость, на котором залегли между бровей крупные морщины, словно облако напряженной мысли и тревоги. То было холодное, умное и энергичное лицо с печатью мысли на лбу и выражением иронии в очертаниях губ.
Юрист, один из известнейших в городе правоведов, держа в руке свод законов, читал вслух одну статью за другой. Дарвид, стоя, внимательно слушал, но улыбка его становилась все более иронической, а когда правовед умолк, он тихо заговорил. Этот сдержанный, словно из осторожности приглушенный голос был его особенностью.
– Прошу извинить, но все, что вы прочитали, неприменимо к интересующему нас случаю.
Он взял из руки юриста книгу, с минуту полистал ее и в свою очередь начал читать. Принимаясь за чтение, он надел очки в роговой оправе, которая еще сильней оттеняла желтоватую бледность его сухощавого лица. Знаменитый юрист был удивлен и сконфужен.
– Вы правы. Я ошибся. Вы превосходно знаете законы.
Как же он мог их не знать, если они служили ему и оружием и предохранительным клапаном!
Юрист молча уселся в глубокое низкое кресло, и тогда архитектор разложил на столе проект общественного здания, постройку которого должны были начать весной и кончить к зиме. Снова Дарвид вдумчиво слушал, молча разглядывая чертежи, а в стальных глазах его искрами вспыхивали зарождавшиеся в мозгу мысли, которые он стал излагать опытному специалисту. Говорил он тихо, плавно, очень сжато и ясно. Архитектор отвечал почтительно и, как перед тем юрист, с некоторым удивлением. Боже правый! Этот человек все знал и во всем разбирался: в дебрях юриспруденции, математики, архитектуры он чувствовал себя так свободно, словно расхаживал по собственной комнате! Дарвид заметил удивление собеседников, и губы его дрогнули иронией. Неужели эти люди воображают, что он взялся за такие предприятия, как слепец, вздумавший различать цвета? Иные так поступают, и они гибнут! Он понимал, что сейчас можно воздвигнуть пирамиду богатства только на фундаменте колоссальных знаний, но лишь ему была памятна длинная вереница бессонных ночей, когда он добывал эти знания.
Теперь у стола стоял стройный, худощавый юноша в поношенной одежде, с резкими, почти грубыми движениями и горящими темными глазами, которые говорили о гениальности. Это был совсем еще молодой, но уже знаменитый скульптор; начинающаяся чахотка, заливавшая лицо его слишком ярким румянцем, выдавала себя и неестественным блеском глаз и сотрясающим грудь жестким, отрывистым кашлем. Он говорил об орнаментальных работах, которые должен был выполнить для зданий, сооружаемых Дарвидом, показывал рисунки, развивал планы, горячился, говорил все громче и все чаще кашлял. Дарвид поднял голову, по нервному лицу его пробежала судорога, и бережно, кончиками тонких белых пальцев он коснулся руки скульптора.
– Отдохните, – сказал он. – Вам вредно так долго говорить.
Потом, обращаясь к остальным, объяснил:
– Моя младшая дочь так же кашляет, и… это немножко меня беспокоит…
– Может быть, в Италию… – начал архитектор.
– Вероятно… я уже думал об этом, но врачи не находят ничего угрожающего…
Он повернулся к скульптору:
– Вам следовало бы поехать в Италию и ради памятников искусства и – ради климата.
Юноша, недовольный вмешательством в его дела, не ответил, продолжая излагать и мотивировать свои проекты, но одышка и все усиливающийся кашель мешали ему говорить. Тогда Дарвид поднялся и, прервав его, заговорил:
– Я слабо разбираюсь в вопросах искусства – не из презрения к нему, напротив: я думаю, что искусство – это великая сила, если пред ним преклоняется мир, но просто у меня не было времени. Поэтому не утруждайте себя изложением своих замыслов и проектов. Я заранее принимаю их и знаю, что делаю. Недаром мне посоветовал обратиться к вам князь Зенон, чей ум и тонкий вкус я высоко ценю. У него же я видел произведения вашего резца, и они привели меня в восторг. Многие говорят, что мы, промышленники и финансисты, представляем собой голую материю, лишенную духа. Однако творения вашего духа, украсившие особняк князя, не произвели бы на меня такого впечатления, если б я состоял из одной лишь грубой материи.
Ирония тронула его губы, но он предложил еще любезнее:
– Назначим гонорар.
И поспешно добавил:
– Вы позволите мне проявить инициативу?
Вопросительным тоном он назвал очень крупную сумму. Скульптор поклонился, не желая или не умея скрыть удивление и радость. Дарвид, легонько взяв его под руку, повел к письменному столу и открыл один из ящиков. Юрист и архитектор, оставшиеся за круглым столом, обменялись взглядами.
– Любимец князя! – шепнул один.
– Ловкость! Реклама! – тоже шепотом ответил другой.
Между тем Дарвид продолжал разговор с молодым скульптором.
– Понаслышке я знаю, – говорил он, – что скульпторы, приступая к работе, несут большие расходы, связанные с предварительной подготовкой. Вот задаток. Прошу вас не стесняться. Деньги должны служить таланту.
Скульптор был изумлен. Совсем иначе он представлял себе этого миллионера.
– Деньги должны служить таланту! – повторил он. – Впервые слышу, чтобы так говорил человек, у которого есть деньги! Вы в самом деле это думаете?
Дарвид засмеялся, но тотчас снова стал серьезен.
– Я думаю, – сказал он, – что отдал бы очень много денег, чтобы не было на свете такого кашля, как ваш.
– Это потому, что ваша дочь… – начал скульптор, но мгновенный порыв Дарвида уже прошел: с холодным видом он обернулся к круглому столу. В ту же минуту показавшийся в дверях лакей доложил о приходе нового гостя:
– Пан Артур Краницкий.
Вслед за лакеем вошел гость, столкнувшийся в дверях с уходившим скульптором.
Человек этот нес свой пятый десяток лет с юношеской гибкостью движений и искательно любезной улыбкой, не сходившей с еще красивого лица. Казалось, его озаряли остатки былой редкостной красоты, сквозь которые, как заношенная подкладка сквозь некогда пышную одежду, проглядывала тщательно маскируемая, пожалуй даже преждевременная старость.
Это был мужчина высокого роста, с правильным овалом лица, опушенного черными бакенами, с черными кудрями, которые едва прикрывали начинавшуюся с затылка лысину, и по-юношески кверху закрученными усиками над румяными губами; легко, как юноша, он пересек кабинет и с дружески фамильярным видом подошел к хозяину поздороваться. Однако в холодных глазах Дарвида загорелись огоньки гнева; кончиками пальцев он еле коснулся протянутой руки гостя, узкой, белой, очень породистой и холеной.
– Простите, простите, дорогой пан Алойзы, что являюсь в этот час, в час, когда вы заняты своими грандиозными, колоссально важными делами! Но, получив ваше приглашение, я поспешил…
– Да, – сказал Дарвид, – мне нужно поговорить с вами… Подождите минутку.
И он повернулся к двум стоявшим у стола посетителям, которые с нескрываемым любопытством прислушивались к его разговору с Краницким. Давно уже каждая встреча Дарвида с этим вечно гостившим у него в доме обломком аристократического рода возбуждала всеобщее любопытство. Дарвид долго не подозревал об этом, но недавно узнал, и теперь его острый взор уловил на губах знаменитого юриста едва заметную усмешку; под его взглядом такая же усмешка сбежала с губ архитектора. С минуту еще Дарвид поговорил с ними, затем проводил до двери, а когда она закрылась, сказал ожидавшему его гостю:
– Теперь я к вашим услугам.
Никто никогда еще не предлагал свои услуги таким ледяным тоном, в котором к тому же звучала затаенная угроза. Оттого Краницкий дольше, чем следовало, клал свою шляпу на стул, а на лице его отразилась тревога – наморщился лоб и обвисли щеки, в одно мгновение состарив его лет на десять. Однакоже, отвечая Дарвиду, он обернулся с непроизвольной, давно привычной грацией:
– Вы мне писали, дорогой пан Алойзы…
– Я вызвал вас, – перебил его Дарвид, – чтобы предложить вам некий договор и обмен…
Он вырезал из большой узкой книги листок, на котором поспешно набросал несколько слов, и, протягивая его Краницкому, начал:
– Вот чек в банк на… на крупную сумму… Ваши дела, как я слышал, находятся в весьма плачевном состоянии.
Краницкий просиял от радости и снова помолодел лет на десять. Все же, принимая чек, он промолвил, видимо колеблясь:
– Дорогой пан Алойзы… это поистине дружеская услуга, и вы оказываете ее даже без моей просьбы – это поистине великодушно, но, поверьте, как только доходы с моих поместий опять увеличатся…
Дарвид второй раз прервал его:
– Мы слишком давно знакомы, чтобы я мог не знать, что собой представляют ваши поместья и какие доходы вы можете с них получать. Нет у вас никаких поместий. Есть одна небольшая деревенька, но доходы с нее никогда не покрывали даже половины ваших нужд. В этой деревеньке вы бы прозябали всю жизнь, не увидев высшего света, если б матушка ваша не состояла в родстве с князем Зеноном и еще несколькими княжескими фамилиями. Только благодаря аристократическому происхождению вашей матери высший свет не понес этой потери. Мне известно о вас все. Не пытайтесь в чем бы то ни было вводить меня в заблуждение… Мне известно все.
Последние слова, произнесенные с подчеркнутой резкостью, привели Краницкого в глубокое волнение, с которым он не мог совладать.
– Parole d'honneur [1]1
Честное слово (франц.).
[Закрыть],– пролепетал он, – не понимаю, не могу постигнуть… Эта поистине дружеская услуга и этот тон… не понимаю…
– Сейчас вы поймете. Предложенная вам сумма – это не дружеская услуга, а простая торговая сделка. Прежде всего я требую, чтобы вы порвали всякие отношения с моим сыном Марианом…
Краницкий отшатнулся.
– С Марысем! – вскричал он, словно не веря собственным ушам. – Мне порвать с Марысем всякие отношения! Возможно ли? Почему? Как же это? Ведь вы сами…
– Это верно, я сам положил этому начало. Я хотел, чтоб семейство мое, живущее здесь постоянно, могло и во время частых моих разъездов поддерживать в определенных кругах желательные для меня отношения; поэтому я и просил вас быть связующим звеном между ним и этими кругами.
– Я ваше желание исполнил, – поднимая голову, прервал его в свою очередь Краницкий.
Дарвид, в упор глядя ему в лицо, говорил холодно, медленно и тихо, но голос его минутами прерывался от ярости, словно лед, трескающийся под струей кипящей воды.
– Да, но вы деморализовали моего сына. Сам он не дошел бы до такой степени испорченности и расточительности. Это вы отвратили его от науки, привили ему вкус ко всем видам спорта, ввели во все увеселительные заведения – от перворазрядных до самых низкопробных. Вернувшись после трехлетнего отсутствия, я нашел Мариана морально разложившимся. К счастью, он еще ребенок, ему всего двадцать три года, и его можно спасти. Начну я спасение моего сына с того, что запрещу вам поддерживать с ним какие-либо отношения.
Дарвид говорил, не повышая голоса, не жестикулируя, но при последних словах он стал грозен. Пальцы его вцепились в край стола, о который он опирался. Глубже залегли морщины между бровями, глаза блеснули сталью – он казался олицетворением ненависти, злобы и презрения. Но и Краницкий, вначале растерявшийся от удивления, теперь не слушал его и кипел гневом.
– Plait-il? [2]2
Как? (франц.)
[Закрыть]– вскричал он. – Что вы говорите? Уж не обманывает ли меня слух? Вы упрекаете меня? Меня, единственного человека, который свыше десяти лет заботился о вашем семействе и руководил вашим сыном во время вечных ваших разъездов? Вот это славно! Так вы уже забыли прежнюю нашу дружбу и то, что я, я ввел вас во все высокопоставленные дома и здесь и в других городах? Так вы забыли, как признавались мне в желании найти мужей своим дочерям в тех кругах, в которые они могли бы вступить, использовав, как мост, мои связи? Так вы уже забыли, как просили меня ввести Марыся в высшее общество и внушить ему правила, принятые в этом обществе? Право, это великолепно! Вы преспокойно уезжали на край света наживать свои миллионы, я тем временем исполнял все, чего вы желали, а теперь должен выслушивать упреки, которые по меньшей мере можно назвать неделикатными… Des reproches, des grossiéretés… Mais ça n'a pas de nom! C'est inouï! [3]3
Упреки, грубости… Но этому, нет названия! Это неслыханно! (франц.).
[Закрыть]Я оскорблен и требую удовлетворения…
Глубокое, искреннее негодование отразилось на его еще красивом лице, вспыхнувшем темным румянцем. Между тем Дарвид вдруг замолк, словно остолбенев. Да, да, человек этот говорил правду. Этого человека он использовал в своих целях. Он хорошо относился к Краницкому, почти любил его и дарил своим доверием. Но он не старался узнать его ближе, изучить; да и было ли у него время изучать и ближе узнавать людей, не участвовавших в его делах? Одно несомненно: что бы ни произошло, произошло это по собственной его вине. Где-то глубоко в его груди, в сокровенных тайниках, зашевелился клубок змей, холодный, омерзительно скользкий, и пополз вверх, подкатывая к горлу. Однако Дарвид поднял голову.
– В том, что вы сказали, немалая доля правды; тем не менее второе, чего я настоятельно требую, – это чтобы вы перестали бывать у меня в доме.
Краска залила лоб Краницкого, с губ со свистом сорвались слова:
– Если таково ваше отношение ко мне, как я должен истолковать только что оказанную мне услугу?
– Как плату за то, что вы когда-либо сделали для меня или моего семейства. Я расплачиваюсь, мы с вами квиты и – прощаемся навсегда!
– Ну, нет! – вскричал Краницкий. – Не вы один существуете на свете, и не от вас одного зависит, будут ли открыты, или закрыты для меня двери этого дома…
Дарвид, бледный до того, что, казалось, даже в узких губах его не осталось ни капли крови, двумя пальцами вынул из бумажника и издали показал Краницкому маленький, изящный конверт с письмом, адресованным пани Мальвине Дарвидовой. Темный румянец бесследно исчез с лица Краницкого, он побледнел и схватился за спинку кресла; глаза его широко раскрылись. Несколько секунд длилось молчание; между этими двумя побелевшими как полотно людьми встал ужас открытой тайны. Дарвид заговорил первый сдавленным, едва слышным голосом:
– Каким образом письмо это попало ко мне в руки – не имеет значения! Попросту случайно. Такие случайности очень обычны, а хороши они лишь тем, что порой кладут конец обману и – подлости.
Краницкий, вдруг постаревший, был все еще очень бледен, только на лбу его выступили красные пятна; пройдя несколько шагов, он встал против Дарвида, от которого теперь его отделял только круглый стол. Голос его звучал глухо, но черные горящие глаза смело глядели в лицо Дарвиду.
– Обман! Подлость! – начал он. – Это легко сказать! А разве вы не знали, что жена ваша в пору нашей ранней юности была почти моей невестой?
Иронически усмехнувшись, Дарвид подхватил:
– Которую вы покинули по приказанию мамы, пославшей вас в столицу за золотым руном…
– А вы, уезжая на край света за своим, – возразил Краницкий, – нашли возможным оставить меня стражем женщины, которую я когда-то любил. Вы считали себя неотразимым, даже когда вас отделяли от нее сотни или тысячи миль…
– Прекратим этот смешной спор… – поморщился Дарвид.
– Я кончаю его, – поспешно отозвался Краницкий, – предложением любого удовлетворения, какое вам будет угодно от меня потребовать. Жду ваших секундантов…
Дарвид громко и резко засмеялся.
– Поединок! Неужели вы полагаете, что в свете не узнают о его причине? Как это отразится на бывшей вашей невесте, меня мало интересует, хотя должно интересовать, потому что она носит мою фамилию; но у меня есть дочери и дела…
С минуту помолчав, он докончил:
– Скандал может повредить моим делам и наверное повредит будущности моих дочерей… Поэтому я не вызову вас на дуэль и даже не прикажу своим лакеям вас вытолкать вон!
Краницкий вздрогнул всем телом, как будто его ударили, но затем он выпрямился, словно обрел мужество, и, скомкав в руке банковый чек, бросил его прямо в лицо Дарвиду; бумажная пуля ударилась о медно-рыжие бакены и упала к ногам миллионера. Краницкий гибким движением, исполненным неосознанной, уже необычной для него грации, повернулся к дверям и вышел. Дарвид остался один. Теперь в этой огромной, великолепно убранной комнате, залитой ярким светом драгоценной люстры, он был один и, обхватив обеими руками склоненную голову, сжал ее, как клещами, белыми сухими пальцами. Сколько же горестей и тревог ждало его здесь после многолетнего отсутствия! Однако мучительней, чем горести и тревоги, терзало его другое. Клубок змей шевелился в его груди и подкатывал к горлу. То была боль, смешанная с чувством нестерпимого отвращения. Но Дарвид избегал высокопарных фраз и никогда не сказал бы, даже не подумал бы: «боль, отвращение». Так выражаются поэты и бездельники. Он, человек железного труда, знал только такие слова, как: «тревоги, неприятности, хлопоты». Но как ему поступить теперь с этой женщиной? Прогнать ее, как вскормленного молоком и медом зверька, который до крови укусил своего хозяина? Невозможно. Дети, особенно дочери, дела, положение в обществе, дом… Скандал может принести ему непоправимый вред. Значит, жить попрежнему под одним с ней кровом, видеть ее лицо, ее глаза… глаза, когда-то сиявшие для него… Да, иначе нельзя. Придется это терпеть и не давать себе волю, только не давать себе волю, чтобы не допустить никаких сцен, упреков, объяснений. Разумеется, никаких сцен, ссор, оправданий. Да и к чему они? Только лишняя трата энергии, той энергии, которая ему так нужна! А затем, самым тяжким наказанием для этой женщины будет именно упорное молчание, которым он отгородится от нее, как несокрушимой стеной. В словах, даже разящих, как меч, может прорваться какой-то отголосок, какая-то искра надежды на спасение, но безмолвие, таящее знание того, что произошло, – это могила; с утра и до ночи она будет зиять перед этой женщиной, день за днем погребая в себе и ее гордость и все, что в ней еще осталось человеческого. Презрение, безмолвное, как могила. И эта женщина будет есть его миллионы, смешанные с его презрением, будет наряжаться в его миллионы, затканные его ненавистью. Ненавистью? О да! Он ненавидит ее страстно, беспредельно, и только минутами, минутами звук ее имени странно отдается в его мозгу, как эхо чего-то очень дорогого, ушедшего навеки и незабвенного. Возможно ли? Возможно ли, что это делала она, Мальвина, та некогда чистая девушка, а потом, всего десять лет назад, женщина, любившая его так, что, когда он собирался надолго уехать, она с плачем бросилась к его ногам, умоляя не покидать ее! Сцену эту он отлично помнит. Ее бледнозолотые волосы в беспорядке рассыпались по груди и по плечам… роскошные волосы, и в их рамке слезы на ее лице сверкали, как бриллианты!..
Он поднял голову, выпрямился. Что за глупость! Какая чувствительность, экзальтация, и он тратит на это время и энергию! А ему они нужны совсем для другого. Ему нужно собрать все силы, чтобы достигнуть намеченной цели. И почему до сих пор не является та гончая и не приносит желанной вести? Ах, если б ему удалось добиться одного часа, только одного часа аудиенции. Он сумел бы уговорить, убедить, одержать победу над своими конкурентами и захватить целиком новое поле деятельности и спекуляции! Он знает: существуют препятствия, интриги, опасные противники, но именно это его и разжигает. Особенно теперь, когда на него обрушилось столько неприятностей и тревог, эта победа и новая работа могли бы для него стать ложечкой гашиша или стаканом крепкого возбуждающего вина. Надо поехать в клуб. Поиграть в карты, которым он нередко отдает несколько ночных часов, – это не доставляет ему большого удовольствия, но играет он с людьми, занимающими высокое положение в обществе или полезными в деловом отношении. Там же он может встретить и того человека, которого тщетно поджидает уже несколько дней.
Он протянул руку, собираясь нажать кнопку электрического звонка, как вдруг из-за портьеры на дверях, ведущих вглубь квартиры, послышался тонкий, робкий голосок, не то детский, не то девичий:
– Можно войти?
Поспешно бросившись к дверям, Дарвид так же поспешно крикнул:
– Можно! Можно!
В ту же минуту из черной темноты, наполнявшей соседнюю комнату, проскользнула в ярко освещенный кабинет какая-то фигурка; это была девочка лет пятнадцати в светлом платье, высокая, худенькая, с тонкой талией и узкими плечиками. Тяжелая бледнозолотая коса слегка оттягивала назад ее небольшую, изящную головку; на детски округлом лице играл свежий румянец и, как вишня, алел рот, а из-под темных бровей глядели большие глаза. Вслед за девочкой, у самого подола ее светлого платья, шелковистым клубком катилось маленькое мохнатое существо – серенький пинчер.
– Кара! – воскликнул Дарвид. – Наконец ты пришла, малютка. Сколько раз я тебе говорил: всегда смело заходи ко мне! Ну, как ты себя чувствуешь? Не очень ты сегодня кашляла? А ездила на прогулку? С кем? С мисс Мэри или с Иреной? Входи, входи, усаживайся сюда, в кресло.
Взяв ее хрупкую руку в свою, он повел ее к столу, вокруг которого стояли кресла. Движения его выражали изысканную предупредительность, которую обычно проявляют по отношению к приятным, но мало знакомым особам; это была та степень вежливости, которую уже называют галантностью. Но к ней примешивалось чувство радости. Девочка тоже радостно улыбалась, однако пылала от смущения. Мелкими шажками она шла рядом с отцом, поминутно склоняясь, чтобы поцеловать ему руку. Ее шаловливая нежность была исполнена робкой прелести. Казалось, оба они очень радовались встрече, но сохраняли некоторую церемонность в обращении. Дарвид принимал ее в своем кабинете, как королевну, он усадил ее в кресло, потом сел и сам поближе к ней, не выпуская ее руки из своей. Между ними, на краешке платья своей хозяйки, в тревожной, неуверенной позе уселся серенький пинчер; видно, он не привык тут бывать. Девочка с робкой, счастливой улыбкой на полуоткрытых губах обводила взглядом мебель и стены, не решаясь заговорить, а может быть, не зная, что сказать. Она сидела очень прямо; маленькая рука, ее неподвижно покоилась в ладонях отца. Наконец она тихонько заговорила:
– Я так стосковалась по тебе, папочка, мне так хотелось поговорить с тобой, что… что я пришла.
– И отлично сделала, малютка. Почему ты так редко приходишь? Каждым своим посещением ты доставляешь мне большое удовольствие.
Говоря с дочерью, он, не отрываясь, смотрел в ее почти детское лицо. Сходство ее с матерью было так разительно, как будто в ней возродилась юная Мальвина. Только Мальвина, когда они познакомились, была гораздо старше; но такие же светлые у нее были волосы, такие же темные брови и глаза и те же очертания лба. Дарвид нахмурился, глубокие морщины пролегли между его бровями.








