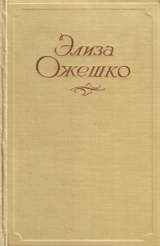
Текст книги "Аргонавты"
Автор книги: Элиза Ожешко
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– Почему ты так редко приходишь? – повторил он.
– Ты всегда так занят, – шепнула девочка.
– Так что же? – поспешно и резко ответил Дарвид. – Ты сказала это с упреком. Разве моя занятость предосудительна? Напротив, трудолюбие – это положительное качество, которое ставится в заслугу человеку. А мои дети должны ценить мой труд выше, чем кто-либо иной, потому что тружусь я ради них в такой же мере или даже больше, чем для себя!
Он не собирался говорить с этим ребенком так резко и угрюмо – суровость явилась внезапно, откуда-то изнутри, из смутного ощущения чего-то, чему он никогда еще не заглядывал в глаза. Да он почти и не знал этой девочки! Когда он уезжал в последний раз, она была ребенком, теперь стала почти взрослой. А она, соскользнув с низкого кресла на ковер, опустилась на колени и, заломив руки, заговорила быстро и горячо:
– Вот, папочка, твоя дочь на коленях перед тобой. Когда ты был там, далеко, она благоговела перед тобой, преклонялась и тосковала по тебе; теперь ты вернулся, и она любит тебя больше всего на свете.
Тут девочка отвернулась и опустила на пол серый шелковистый клубок, карабкавшийся ей на плечи.
– Пошел, Пуф, пошел прочь! Мне сейчас не до тебя.
Кара оттолкнула собачку, и та уселась в нескольких шагах от нее на ковре. Дарвид почувствовал, как слова дочери вдохнули в его грудь струю сладостного тепла, но он принципиально был против восторженности и превыше всего ценил сдержанность в чувствах и в их проявлении. Он поднял обеими руками склонившуюся к его коленям голову девочки.
– Не увлекайся, умерь свою пылкость. Спокойствие – вот прекраснейшее и необходимое свойство; без него не может быть хорошо выполнено ни одно дело, не будет точен ни один расчет. Твоя привязанность меня глубоко радует, но успокойся, встань с пола и сядь удобно…
Она сложила руки, как для молитвы.
– Прошу тебя, папочка, позволь мне остаться у твоих ног. Я мечтала, что, когда ты вернешься, мне можно будет часто и долго разговаривать с тобой, обо всем расспрашивать, все узнать…
Она закашлялась. Дарвид обхватил ее рукой и, не поднимая, прижал к груди.
– Видишь! Ты еще кашляешь! И часто это? Ну, не говори, ничего не говори. Пусть пройдет! Как обычно, скоро он у тебя проходит?
Кара перестала кашлять и засмеялась. Из-за пурпурных губ жемчугом блеснули зубы. Стальные глаза Дарвида вспыхнули восхищением.
– Уже все прошло!.. Нет, я не часто кашляю, иногда только. Я уже совсем здорова. А была очень больна – это когда я простудилась у открытого окна, когда тебя еще тут не было, папочка…
– Знаю, знаю. Этой пылкой головке вздумалось зимой среди ночи открыть окно, чтобы посмотреть, как выглядит при луне засыпанный снегом сад…
– Деревья, папочка, деревья! – смеясь, подхватила девочка. – Не весь сад, а только деревья, потому что при луне, покрытые инеем и снегом, они выглядят, как мраморные, нет, как алебастровые или хрустальные колонны, сверкающие бриллиантами и увешанные кружевами, а чуть подует ветерок, они осыпают землю жемчужным дождем…
– О господи! – вскричал Дарвид. – Мрамор, алебастр, кружева, бриллианты, жемчуг! Но всего этого в действительности нет! А есть только сухие стволы и сучья, иней и снег. Все это – твоя восторженность! Ты видишь, как она пагубна! Это она была причиной тяжелого воспаления легких, от которого ты до сих пор не оправилась.
– Уже оправилась, папочка! – небрежно ответила девочка и снова заговорила с глубоким чувством: – Дорогой мой папочка, а преклоняться перед чем-нибудь очень красивым или любить кого-нибудь всем сердцем – тоже восторженность? Если да, значит уж такая я восторженная, но без этой восторженности для чего и жить?
Задумчивость, напряженная мысль отразились в ее глазах и на тонком личике, свежем, как полевая роза. Она удивленно развела руками и повторила:
– Для чего жить? Дарвид рассмеялся.
– Я замечаю, что у тебя немного взбалмошная головка, но ты еще дитя, так что это пройдет.
Погладив сухощавой рукой ее бледнозолотые волосы, он продолжал:
– Благоговение, любовь и тому подобные чувства очень хороши и приятны, но они не должны быть на первом месте…
Девочка жадно слушала, застыв, как изваяние, с полуоткрытым ртом.
– А что, папочка, должно быть на первом месте?
Дарвид не сразу ответил. Что? Что же должно быть на первом месте?
– Обязанности, – сказал он.
– Какие обязанности, папочка?
Снова он с минуту молчал. Какие обязанности? Ну какие же обязанности?
– Разумеется, обязанность трудиться, упорно трудиться…
Румянец ярче разгорелся на лице девочки; она жадно ловила каждое слово отца.
– Трудиться – зачем, папочка?
– Как это – зачем?
– С какой целью? С какой целью? Никто ведь не трудится просто так, лишь бы трудиться! Так с какой же целью?
С какой целью? Как этот ребенок припирает его к стене своими вопросами! Он неуверенно ответил:
– Цели бывают разные…
– А ты, папочка, с какой целью ты трудишься? – поймала она его на слове.
Он отлично знал, с какой целью хочет предпринять такой огромный труд, как возведение множества зданий, требующихся для размещения войск, но не мог же он объяснить это ребенку. Между тем темные глаза ребенка глядели ему прямо в лицо, ожидая ответа.
– Что же? – сказал он. – Я… Мне мой труд дает значительные, иногда огромные прибыли…
– Деньги? – спросила она.
– Деньги.
Кара кивнула головой с видом, означающим, что это она давно уже знала.
– А я, – начала она, – если бы я захотела трудиться, я бы не знала зачем… Ну, зачем, с какой целью я бы могла трудиться?
Дарвид засмеялся.
– Тебе трудиться не нужно, я это делаю за тебя и для тебя…
В ответ ему звонкой гаммой прозвучал девичий смех.
– Папочка! – вскричала Кара. – Но в таком случае что же? Благоговение, любовь – это восторженность, труд – обязанность человека, однако трудиться не нужно; в таком случае – что же?
И снова она удивленно и вопросительно развела руками; глаза ее горели, губы вздрагивали. Дарвид недовольно поморщился и достал часы.
– У меня больше нет времени, – сказал он, – я должен ехать в клуб…
В эту минуту лакей, появившийся в дверях из прихожей, доложил:
– Князь Зенон Скиргелло.
Дарвид просиял от радости. Кара, еще стоявшая на коленях, вскочила и, оглядываясь по сторонам, крикнула:
– Пуф! Пуф! Идем, собачка! Идем!
– Где князь? – поспешно спросил Дарвид. – Уже здесь или в экипаже?
– В карете, – ответил лакей.
– Проси! Проси!
В радостном волнении, в которое привел его нежданный в эту пору приезд князя, он не заметил грусти, омрачившей лицо Кары. Она подняла с пола собачку и, прижав ее к груди, шепнула:
– Это уже в третий или в четвертый раз… я уже не знаю, в который раз!
Дарвид обернулся к ней:
– Можешь остаться, Кара! Ты ведь знаешь князя…
– Ох, нет, папочка! Убегаю… я не одета.
Ее белое в голубую крапинку платье было сшито капотиком, а волосы слегка растрепались. Схватив собачку, она побежала к дверям, за которыми царила темнота.
– Подожди! – крикнул Дарвид и взял одну из свечей, горевших на столе в высоких канделябрах. – Князь медленно поднимается по лестнице. Я провожу тебя и посвечу в темных комнатах.
С этими словами он провел ее в смежную гостиную; девочка с собачкой на руках шла рядом мелкими шажками, придававшими ее высокой фигурке детскую прелесть; когда они подошли к дверям, она повторила:
– Это, кажется, уже в четвертый раз… я уже не знаю, в который раз так получается!
– Что получается?
– Как только я начну разговаривать с тобой – бац! что-нибудь помешает!
– Что же делать? – усмехнулся Дарвид. – Если отец твой не пустынник и не мелкая пешка на шахматной доске этого мира…
Они торопились и проходили уже вторую комнату. Пламя свечи, которую нес Дарвид, зажигало мгновенно гаснувшие огоньки на позолоте стен и на полированной мебели. Как проказливые гномы, огоньки эти появлялись и исчезали в тиши и темноте пустынного дома. Дарвид подумал: «Как тут темно и пусто!»
Кароля, как будто угадав его мысль, сказала: – Мама и Ира сегодня на званом обеде у… Она назвала фамилию одного из властителей финансового мира и добавила:
– Потом они заедут переодеться и отправятся в театр.
– А ты? – спросил Дарвид.
– Я? В свет меня еще не вывозят, а посещать театр мне пока не позволяет доктор. Я буду читать или разговаривать с мисс Мэри и играть с Пуфом.
Кара погладила шелковистую голову собачки. В дверях третьей комнаты Дарвид остановился и отдал свечу дочери; худенькая рука ее слегка подалась под тяжестью канделябра.
– Дальше иди одна. Мне надо поспешить к князю.
Нагнувшись, девочка покрыла быстрыми горячими поцелуями руку отца, потом крепче прижала к себе собачку и, подняв свечу, озарившую ее розовое лицо и упавшую на плечо бледнозолотую косу, скрылась в темноте. Дарвид повернул обратно; торопливо проходя по большим неосвещенным комнатам, он вдруг испытал странное чувство, как будто сзади, из темноты, на него надвинулась, навалившись на спину какая-то тяжесть. Он оглянулся – ничего. Все так же тихо, пусто и темно.
«Что за глупость! Нужно будет приказать, чтобы освещали всю квартиру!..» – подумал он и вбежал в кабинет, где уже ждал его гость, человек средних лет, еще привлекательный, очень любезный и многоречивый; Дарвид поклонился чуть слишком гибким движением и, искательно улыбаясь, принялся благодарить князя, осчастливившего его своим посещением. Когда оба уселись в глубокие кресла, князь объяснил цель своего визита: он приехал пригласить Дарвида на охоту, которая в скором времени должна была состояться в его имении. Дарвид принял приглашение с изъявлениями чуть слишком поспешной и горячей радости. Но с высокопоставленными лицами он никогда не умел сохранять ту сдержанность, которая была ему свойственна в отношениях с другими людьми. Он и сам это чувствовал – и все-таки не умел. Тут он поддавался своей страсти, и она увлекала его. Князь восхвалял талант молодого скульптора, который прямо от Дарвида явился к нему и рассказал обо всем, что здесь видел и слышал.
– Я, право, был тронут вашей добротой к этому гениальному юноше и радуюсь тому, что он нашел в вашем лице столь великодушного покровителя.
Дарвид отметил про себя, что, как бы то ни было, стрелы его всегда попадают точно в цель. И неурочный визит князя и приглашение на охоту несомненно были следствием его любезности к молодому скульптору. С медоточивой улыбкой он начал:
– Этот юноша, кажется, тяжело болен. Однако переезд в более благоприятный климат еще мог бы его спасти. Я приложу все усилия, чтобы он не отверг денежной помощи, которую я намерен ему с этой целью предложить. Тем не менее я предвижу отказ, но сделаю все возможное, чтобы сломить его сопротивление, – во имя искусства и из сострадания к юноше, который наряду с другими достоинствами обладает еще и тем, что сумел завоевать ваше исключительное расположение.
Если бы Дарвид мог, он расцеловал бы самого себя за эту фразу, так она ему понравилась, особенно когда князь восторженно воскликнул:
– Вот в полном смысле слова прекрасная речь и прекрасное дело! Вы нашли поистине превосходное применение дарам судьбы.
– Не судьбы, князь, не судьбы, – вскричал Дарвид, – а железного труда!
– Такие труженики, как вы, – живо ответил князь, – это рыцари нашей эпохи, современные Дюгеклены [4]4
ДюгекленБертран – французский рыцарь XIV в., полководец короля Карла V. Воспет в средневековых поэмах и песнях.
[Закрыть]и Сиды! [5]5
Сид– герой испанского средневекового народного эпоса, в котором он воспевался как борец за освобождение Испании от арабских завоевателей.
[Закрыть]
Он поднялся и, пожимая руку «Сиду», еще раз напомнил ему о близком уже дне охоты. Это был настоящий аристократ, пользующийся широкой и отчасти заслуженной известностью. Дарвид сиял. Провожая князя в прихожую, он шел с таким видом, как будто клубок змей никогда не копошился в его груди, теперь полной горделивой радости. У дверей князь снова остановился, что-то вспомнив.
– Простите за нескромный вопрос, но меня это безмерно интересует. Верны ли распространившиеся по городу слухи о том, что барон Эмиль Блауэндорф в скором времени удостоится руки вашей старшей дочери?
Лицо Дарвида вдруг преобразилось: выражение его стало жестким и суровым.
– Если бы в этом слухе была малейшая доля правды, – сказал он, – я бы постарался искоренить ее вместе со слухом.
– И вы были бы правы! Совершенно правы! – вскричал князь.
Затем, нагнувшись чуть не к самому уху Дарвида, шепнул:
– Нет на свете золотоносной реки, которую не сумел бы выпить барон Эмиль. Это поистине пожиратель состояний. Он уже поглотил полтора…
Князь засмеялся и необычайно любезно прибавил:
– Я часто встречаю вашего сына… Нам представил его еще в прошлом году этот милейший Краницкий, и мы с женой очень, очень ему за это благодарны… Красивый, симпатичный, высокообразованный юноша! Вы можете им гордиться, можете гордиться!
Князь ушел. Дарвид в задумчивости остановился возле круглого стола; в глазах его и в усмешке застыла язвительная ирония, между нахмуренными бровями углубились морщины. Молодой скульптор, любимец князя, мог преспокойно наживать чахотку, расхаживая в рваной одежде, пока не явился выскочка, выручивший собственным кошельком карман аристократа, получив взамен приглашение на охоту. Вот что дают деньги! Почти всемогущество… Ха-ха-ха!
Из груди его вырвался смех, а в мозгу пронеслось: «Убожество! Убожество!»
Что, собственно, называл Дарвид убожеством, – он не отдавал себе ясного отчета, но был проникнут этим ощущением. Снова он услышал слова князя: «Этот милейший Краницкий» – и кровь волной ударила ему в голову. Все, о чем он на миг забыл, воскресло в его памяти, а в ушах звучал голос князя: «Этот милейший Краницкий!» Несколько раз он сам повторил свистящим шепотом: «Милейший, милейший!» И тотчас снова прибавил: «Убожество!»
А этот барон Эмиль, способный поглотить десятки золотоносных рек! И ему отдать руку дочери, отдать значительную часть состояния, нажитого железным трудом? Неужели Ирена в него влюблена? Но это ведь помесь вибриона с обезьяной! Придется подумать и о семейных делах, чтобы предотвратить несчастье. Взгляд его упал на дверь, за которой стояла тяжелая, глухая, недвижимая темнота. Словно окно в великую, непроницаемую тайну.
«Нужно приказать, чтобы освещали всю квартиру», – подумал Дарвид и в эту минуту услышал приглушенный стук кареты, въезжающей во двор. Он нажал кнопку электрического звонка.
– Приехала пани?
– Точно так.
– Скажи кучеру, чтобы подождал. Он отвезет меня в клуб.
В открытую лакеем дверь донесся, словно шум ветра, шелест шелков. Два длинных шелковых платья прошуршали в прихожей и проскользнули дальше, в темные комнаты; разгоняя мрак, впереди, почтительно изогнувшись, шел лакей с лампой в руках.
Пробужденные светом, запрыгали по лоснящейся мебели и позолоте стен блестящие гномики, то выбегая из темноты, то снова в ней прячась, загораясь и угасая на склоненных лицах, опущенных веках и безмолвных устах двух красивых, нарядных и печальных женщин.
II
Мальвина Дарвидова принадлежала к числу тех поздно стареющих женщин, которые в каждую пору жизни бывают иными, но всегда остаются прекрасными. Пленяли в ней не столько даже черты лица, сколько неотразимая прелесть улыбки, взора, речи и живого чувства. У нее были такие же, как в юности, бледнозолотые волосы, взбитые над низким, словно у греческой статуи, лбом, и нежное, чуть поблекшее лицо, на котором выделялись темные брови и большие темные глаза; они то ярко блестели, согревая мягким, ласковым взглядом, то снова гасли, затуманенные глубокой, горестной задумчивостью. Блистательная в своем кружевном наряде, с светлым ореолом волос, в которых радугой переливалась бриллиантовая звезда, она принимала поминутно входивших в ложу гостей с непринужденной любезностью женщины высшего света. Впрочем, ей были присущи многие черты так называемой светскости, которой она славилась в городе, к немалому удивлению людей, знакомых с ее прошлым. А что прошлое ее было весьма скромным – это все знали. В молодости, когда Дарвид занимал далеко не такое великолепное положение, как теперь, он женился на бедной сироте, учительнице. Видно, однако, Мальвина Дарвидова была одной из тех женщин, которым нужна только золотая оправа, чтобы сверкать как бриллиант. В высшем свете она блистала изяществом, элегантностью и изысканной речью, как будто принадлежала к нему от рождения. От нее веяло безмятежным, лучезарным спокойствием, порой даже веселым оживлением, и лишь иногда, редко-редко, маленькая морщинка, едва заметной черточкой перерезавшая греческий лоб, становилась глубже или опускались книзу уголки еще алых, красиво изогнутых губ, и тогда ее свежее, белое, нежное лицо принимало усталое выражение и казалось на десять лет старше, чем обычно. Но это были короткие и редкие мгновения, и после них Мальвина снова являлась, сияя красотой и роскошным нарядом, с блестящими глазами, чаруя металлическим тембром мягкого, сладостно звучавшего голоса. Она казалась старшей сестрой, почти ровесницей своей дочери. Знакомые, заходившие на минуту к ней в ложу, уходили со словами:
– Несравненно красивее дочери!
А чаще:
– Милее, симпатичнее дочери!
Однако и для Ирены Дарвид судьба не была мачехой, только жизнь, еще такая недолгая, наложила на нее какой-то странный отпечаток, поражающий и отталкивающий.
Если младшая сестра казалась живым портретом матери, то старшая напоминала отца высоким лбом, тонкими губами и – как ни странно в столь юном возрасте! – иронической усмешкой. Волосы ее отливали, как у отца, огненными отблесками золота и меди, а небольшие, как у Дарвида, серые глаза часто вспыхивали, освещая бледное, продолговатое лицо умным, холодным, проницательным взглядом. Стройный стан ее был несколько сухощав, движения и осанка угловаты и чопорны. В свете ее считали гордой, холодной, недоступной и – оригинальной, даже эксцентричной.
Давали пьесу, которой предшествовали шумные толки, поэтому в театре собрались все, кого причисляли в городе к так называемому высшему или модному свету; ложи были переполнены, пустовала лишь одна, но перед вторым действием дверь в нее с треском распахнулась, и оттуда донеслись бесцеремонно громкие, непринужденные разговоры. В ложу вошло несколько изящных, изысканно одетых молодых людей, видимо схожих по положению, вкусам и привычкам. С верхних и нижних ярусов к ним обернулись лица и бинокли. Князьки, молодые набобы, наследники старинных родов или огромных состояний! В ложах, в партере и на галерке из уст в уста передавали имена, прославившиеся сумасбродными выходками, остроумными словечками и ошеломляющими кутежами; имена, связанные с любовными и денежными историями, рассказывать о которых можно только шепотом, а цифры называть, широко раскрыв глаза от удивления. Этой зимой особенно много говорили в обществе о двоих: бароне Эмиле Блауэндорфе и Мариане Дарвиде; оба они принадлежали к семействам, составившим недавно, но сразу огромное состояние. Блауэндорфы насчитывали на несколько поколений больше и уже успели широко породниться со старинной знатью, зато состояние их быстро таяло в руках младшего отпрыска и рядом с совершенно новым зданием Дарвидов казалось лачугой. Эти двое привлекали к себе всеобщее внимание, возбуждая наибольшее любопытство, и о них уже вторую зиму ходили всевозможные слухи, распространявшиеся и среди театральной публики. Такие молодые и уже так известны! Блауэндорф, правда, значительно старше, ему уже лет тридцать, но он так невзрачен! Низкого роста, хилый, поблекший, с рыжими, коротко остриженными волосами, мелкими чертами лица и маленькими глазками; они прячутся за стеклами очков или смотрят на мир, близоруко щурясь с надменным, усталым видом. Тщедушный, низкорослый, болезненный, с поблекшей, измятой физиономией – он очень некрасив. Однако через его худые, желтоватые руки уже уплыло состояние умершего лет пять назад старика Блауэндорфа, а теперь уплывает второе, доставшееся ему по наследству от баронессы Блауэндорф, прослывшей своей благоговейной любовью к сыну, который был ее кумиром. Глядя на него, люди удивлялись, как это маленькое невзрачное существо могло поглотить такую уйму золота. Иное дело Мариан Дарвид! Он тоже вызывал удивление, но вместе с тем и симпатию. Совсем еще ребенок! И такой красавец! Ему едва ли исполнилось двадцать три года, но у него была статная осанка, грациозные движения и изысканные манеры, голова – светловолосая и кудрявая, как у херувима, и свежее, розовое лицо, на котором синели бирюзовые глаза, пожалуй слишком мудрые для его юных лет; они недоверчиво смотрели с насмешливым или скучающим выражением, как будто чего-то искали в мире – и не находили. Женщины рассказывают друг другу на ухо, что, живя в Англии, Мариан вступил в «Армию спасения» [6]6
«Армия спасения» – реакционная религиозно-филантропическая организация, основанная в 1865 г. в Лондоне священником Бутсом.
[Закрыть], однако не долго оставался в ее рядах и уехал в Париж, где стал членом клуба гашишистов; он и сюда привез обычай употреблять наркотики, вызывающие особое состояние, в котором являются необычайные видения. Сейчас гостит в городе певица Бианка Бианетти только благодаря этому мальчугану, который где-то в чужих краях покорил ее сердце. Одни уверяют, что он истратил на нее баснословные суммы; другие отрицают это и винят не певицу Бианку, а цирковую артистку Аврору, знаменитую тем, что ее благосклонности домогались в столицах принцы королевской крови. Этот прелестный юный набоб пришел, увидел и победил, а добившись ее расположения баснословной ценой, бросил свою добычу и привез сюда Бианку Бианетти. Впрочем, то ли еще можно о нем рассказать! И он и барон Блауэндорф стали для общества неисчерпаемыми кладезями подобных рассказов. Барон – тот гораздо старше, а у этого мальчугана жив отец. И именно отец его является источником неограниченного кредита. У молодого Дарвида столько же долгов, сколько золотых кудрей на голове. А что же на это папа? Да, что же? Папа опять ездил куда-то на край света и недавно вернулся после долгого отсутствия; надо думать, он скоро положит конец беспутству сына. Сомнительно, удастся ли ему? На белом лбу юноши лежит печать зрелости и порой чего-то еще, пожалуй усталости, а в синих глазах его нередко мелькает жесткое выражение – упрямое и презрительное. Иногда кажется, что он презирает весь мир. Оба они с бароном очень интересуются искусством и литературой. На произведения искусства они тратят едва ли меньше, чем на женщин и на пирушки. И тот и другой очень образованны. Барон играет, как артист, а Дарвид переводит стихи с нескольких языков. Впрочем, языков они оба знают столько же, сколько апостолы после сошествия святого духа.
Вначале в ложе появилось несколько похожих друг на друга молодых людей, но у большинства были в театре собственные места, сюда они заглянули на минутку и разошлись, а остались в ложе только эти двое: Блауэндорф и Дарвид. Однако за их креслами сидел кто-то еще, очень тихо и, видимо, стараясь не привлекать к себе внимания. Это был Артур Краницкий. Публика привыкла видеть его и здесь и повсюду с этими или с другими молодыми людьми, но чаще всего с этими. Он был тщательно побрит и причесан, черные усы его, по-юношески закрученные кверху, открывали пунцовые губы, и все же сегодня он выглядел значительно старше и скромнее, чем всегда. Обычно он много и громко говорил, смеялся, запрокинув голову, был оживлен и грациозен, стараясь ни в чем не уступать – и действительно не уступал – этим молодым набобам, среди которых одновременно казался их ментором и сверстником, неизменным спутником и милостивым покровителем. Сегодня он угрюмо сидел в углу ложи, обрюзгший, вдруг постаревший, с красными пятнами на лбу, не замечая ни публики, ни того, что происходило на сцене, и – главное – не делая усилий, чтобы его кто-нибудь заметил. Только рука его, как будто подчиняясь непреодолимой силе, поминутно вскидывалась из-за плеч сидевших впереди молодых людей, наводя бинокль на ложу Мальвины Дарвидовой. Он чувствовал, что не должен так упорно разглядывать эту женщину с бриллиантовой звездой над задумчивым лбом, и тотчас опускал руку, но через минуту снова поднимал бинокль и смотрел туда же. Словно подражая Краницкому, а в действительности забыв о его существовании, барон Эмиль совершенно так же не отрывает взгляда от Ирены Дарвид; не удостаивая вниманием остальную публику и артистов, исполняющих уже второй акт пьесы, он разглядывает в бинокль ее равнодушное, почти скучающее лицо с наглостью, которая могла бы смутить или рассердить другую женщину. Однако Ирена, вначале остававшаяся равнодушной, вскоре в свою очередь подносит к глазам бинокль и направляет его на барона. Стекла сближают их лица; пренебрегая всем, что происходит вокруг, они смотрят прямо в глаза друг другу, словно отгородившись от толпы и вдвоем господствуя над ней с высоты своих лож в бель-этаже. Эти два уставившихся один против другого бинокля обращают на себя всеобщее внимание, но ни барон, ни Ирена ничего знать не хотят, они не видят ни публики, ни разыгрывающейся на сцене любовной драмы. Долго и равнодушно они разглядывают друг друга, так равнодушно, что напрашивается вопрос: зачем они это делают? Может быть, только ради оригинальности, чтобы возбудить любопытство и негодование публики? Но вот немного спустя на лицах обоих появляется насмешливая, дерзкая и вместе с тем приятельски дружественная улыбка; в глазах барона вспыхивает огонек, а высокий лоб Ирены заливает бледный румянец и мгновенно исчезает. Опустив руку с биноклем, барон наклоняется к Мариану со словами:
– Trés garçonniére ta soeur! [7]7
Твоя сестра напоминает мальчишку! (франц.)
[Закрыть]Она смела, всех презирает и во всем разочарована. Une désabusée! [8]8
Разочарованная! (франц.)
[Закрыть]Весьма, весьма интересна!
– Она вызывает в тебе новую дрожь? – засмеялся Мариан.
– Да, совершенно новую. Эта порода женщин едва начинает появляться. Двадцать лет – и так выражена индивидуальность! Двадцать лет – и так знает цену крашеным горшкам!
– Это уж у нас семейное! – ответил молодой Дарвид, а Блауэндорф продолжал:
– Твоя мать неувядаемо прекрасна. Какие роскошные волосы и глаза! Но это совсем иной род красоты…
– Старинный! – заметил Мариан.
– Да, старинный, ясный. А панна Ирена поражает новизной и сложностью. Oui, c'est le mot [9]9
Да, именно так (франц.).
[Закрыть], сложностью! Все мы теперь сложны, полны контрастов, диссонансов, скрежета…
В зале раздался гром аплодисментов. Молодые люди переглянулись и почти вслух засмеялись.
– Что это они играют? – кивком головы показывая на сцену, спросил Блауэндорф.
– Ma foi [10]10
Клянусь честью! (франц.)
[Закрыть]Я не слыхал ни слова.
Мариан повернулся к Краницкому:
– Mon bon vieux [11]11
Старина (франц.).
[Закрыть], что там происходит на сцене?
Краницкий сразу опустил руку с биноклем и пробормотал:
– Plait-il? Что ты сказал, Марысь?
В его продолговатых, еще прекрасных глазах сверкали слезы.
– Го-го! У нашего романтика слезы на глазах! Пьеса, должно быть, трогательная! Послушаем!
Они стали слушать, но совсем не так, как все.
Когда на сцене борьба страстей заставляла учащеннее биться сердца зрителей и поэзия высоких слов зажигала на лицах румянец восторга, они расееянно и пренебрежительно усмехались; когда глупость, себялюбие или остроумная шутка вызывали улыбки или смех, они застывали в холодном, надменном и презрительном молчании; и, наконец, когда под нескончаемый и оглушительный гром аплодисментов опускался занавес, их руки чванливо покоились на барьере ложи. Это противопоставление своих ощущений впечатлениям и чувствам окружающих могло бы показаться ребяческим желанием выделяться в толпе, если бы в нем не сквозили слишком смелый вызов общепринятым вкусам и превратное понимание всех основ и ценностей жизни.
Незадолго до конца последнего действия в ложу Мальвины Дарвидовой вошел Краницкий и, молча поклонившись обеим дамам, неподвижно встал в глубине ложи. Мальвина ответила ему легким кивком головы, но лицо ее омрачилось тенью, словно прорвалась туча, таившаяся где-то внутри. Сдвинулись брови, прорезав лоб глубокой морщиной, опустились уголки губ, и лицо ее, осененное ореолом светлых волос, в которых сверкала бриллиантовая звезда, приняло страдальческое выражение, особенно заметное на красном фоне драпировок, украшавших ложу.
Но это длилось лишь несколько мгновений. Ложа заполнилась блестящим веселым обществом, среди которого выделялся седой человек с манерами сановника; он особенно низко поклонился супруге Дарвида и, с восхищением глядя на нее, улыбался, казалось, готовый пасть к ее ногам. Она поднялась навстречу, радушная, оживленная, чаруя исполненными грации движениями и звучным голосом, который прелестно модулировал, когда она отвечала любезностями на любезности, обещаниями на приглашения и замечаниями о только что окончившемся спектакле. Тем временем барон Эмиль подошел к Ирене и, указывая глазами на разгоряченную восторгом публику, спросил:
– Как вам нравятся эти орущие пастушки́?
Надевая поданную бароном накидку, Ирена ответила:
– Счастливые люди!
– Чем?
– Своей наивностью!
– Отличное определение! – воскликнул восхищенный барон. – Только пастушки могут быть такими счастливыми…
– И верить в эти крашеные горшки…
– Прадедовские горшки… – дополнил барон.
– Кто знает, – как бы с глубоким раздумьем продолжала Ирена, – действительно ли в них верили даже прадеды, или только…
– Прикидывались, что верят! Ха-ха-ха! Неоценимо! Превосходно! Как мы во всем с вами сходимся, не правда ли? Это аккорд!
– Но не без диссонанса, – заметила Ирена.
– Да, да, – подтвердил барон, – не без скрежета. Но это ничего. Напротив, это даже волнует…
В то время как они вели этот обмен мнениями, подобный мельканию холодной отточенной стали, Краницкий пробрался сквозь толпу, окружавшую Мальвину, и шепнул ей:
– Завтра в одиннадцать.
Брови ее нахмурились и дрогнули; не глядя на него, она ответила:
– Это рано.
– Необходимо. Катастрофа! Несчастье! – прошептал Краницкий.
Она подняла на него измученный тревогой взгляд, но в эту минуту Мариан подал ей руку.
– В назидание пастушкам, а также ради оригинальности и собственного удовольствия я буду сегодня примерным сыном и провожу по лестнице мою красавицу-маму!
Когда эта немолодая женщина шла по фойе в сопровождении изысканно изящного юноши с синими, теперь по-детски веселыми глазами, но с обычной саркастической усмешкой, словно приросшей к опушенным усиками губам, ее своеобразная красота и пышный наряд привлекали к себе все взоры.
– Я горжусь тобой, мамочка! Сегодня снова все пели оды в твою честь; даже Эмиль говорит, что ты затмеваешь красотой Ирену.
Мальвина одновременно смеялась и сердилась. Ее темные блестящие глаза с любовью глядели на прелестное лицо сына. Однако она сказала, стараясь казаться серьезной:
– Ты знаешь, Марысь, я не люблю, когда ты со мной разговариваешь таким тоном…
Он громко засмеялся.
– В таком – случае, мамочка, нужно было поскорей состариться, надеть чепчик и сесть у камина с чулком… тогда я был бы преисполнен робкой почтительности и удирал бы во всю прыть от такой скучной мамы!
– А если я не скучна, будь милым мальчиком и поезжай с нами домой. Попьем вместе чаю.






