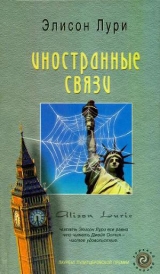
Текст книги "Иностранные связи"
Автор книги: Элисон Лури
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– Разумеется. Секундочку.
Отчасти потому, что Эдвин ему не очень нравится, Фред с ним всегда подчеркнуто любезен. Раздав Вогелерам напитки и представив Джо и Дебби другим гостям (Розмари куда-то упорхнула), Фред выходит вслед за Эдвином в коридор.
– Это касается миссис Харрис. – Как бы невзначай Эдвин спускается на нижнюю ступеньку изящно изогнутой лестницы. Отсюда не так заметно, что он ниже Фреда ростом.
– Да?
Неужели и Эдвин, которого Розмари любит и которому доверяет, хочет переманить у нее домработницу?
– Мне она внушает опасения. Судя по всему, она… как бы это сказать… человек очень властный. Ко всем и каждому относится с подозрением. И похоже, слегка неуравновешенна. Я очень боюсь, что она плохо влияет на Розмари – бедняжка все больше и больше ей подчиняется. Вы понимаете, о чем я. – Эдвин хмурит брови и становится еще больше похож на пухлого, серьезного малыша. – Повторяет за ней всякие глупости.
– Хм. – Фреду знакомы эти жалобы. Многие друзья Розмари говорили ему то же самое, только более резко. «Розмари без ума от этой женщины, – сетовали они. – Верит каждому ее слову».
– Знаете ли, некоторым актерам даже на руку, если собственная личность у них не слишком яркая. Намного легче перевоплощаться. Но есть и сложности.
– То есть как? – недоумевает Фред. Что Эдвин несет? Розмари, без сомнения, очень яркая, замечательная личность. Любит она передразнивать миссис Харрис – ну и что? Одно другому не мешает.
– Ладно, шутки шутками, верно?
Фред неохотно соглашается: шутки шутками.
– Однако это может зайти слишком далеко, вот что меня тревожит. Видите ли, я на будущей неделе уезжаю в Японию читать лекции, месяц с лишним буду далеко отсюда, и если вдруг что случится… Надя в Италии, я в Японии, Эрин едет в Америку сниматься в фильме, а бедняжка Пози сидит в четырех стенах в Оксфордшире со своими скучными маленькими дочками… В общем, чтобы спать спокойно, я должен быть уверен, что наша Розмари в надежных руках. Желательно – в ваших.
Фреду не по душе выражение «наша Розмари» и неприятна мысль о том, что возлюбленную нужно делить с Эдвином или с кем-то еще.
– Пообещайте мне. Вы-то знаете, какая она хрупкая. У нее бывают приступы ярости, с ней может быть очень трудно.
Фред кивает, стараясь не выдать недовольства. Никаких «приступов ярости» он у Розмари не замечал, не согласен и с тем, что миссис Харрис навязывает хозяйке свои суждения. Напротив, в последнее время он начал подозревать, что это Розмари навязывает – точнее, приписывает – свои взгляды миссис Харрис. Мало того что реплики слишком отточенные, они как будто отражают наименее лестные суждения самой Розмари. К примеру, балет всегда нагонял на нее скуку, а миссис Харрис, по словам Розмари, отзывается о нем так: «Скачут, ногами дрыгают, педики». Розмари презирает нынешнее правительство, а миссис Харрис называет его «сборищем чертовых мошенников».
Все чаще и чаще миссис Харрис находит для Розмари оправдания, если та что-то хочет или не хочет делать. Недавно устраивали ночной благотворительный концерт в пользу знаменитого старого театра в Ист-Энде. Розмари отказалась выступать, и не потому, что это неудобно, тяжело и невыгодно, а лишь потому, что миссис Харрис заявила: «Ребятам из Хэкни выкрутасы на сцене не нужны – они только и знают, что в телевизор пялиться. Лучше бы на эти деньги детскую площадку сделали. У меня там племянница живет, все знает». Как бы то ни было, миссис Харрис, если верить Розмари, сказала, что весь этот концерт – сплошное надувательство. На прошлой неделе, на званом обеде, друг Розмари Эрин возражал против этого и пытался – с большим терпением и тактом – переубедить Розмари. Она и слушать не стала. «Полно, милый мой, не болтай чепухи, – восклицала Розмари с серебристым смехом, накалывая на вилку пирожное (Розмари обожает „эти гадкие десерты“). – Ничегошеньки ты не знаешь о Хэкни, как и я. Миссис Харрис абсолютно права! Как всегда».
В душе досадуя на Эдвина, Фред возвращается к гостям и тут же видит, что Вогелеры не участвуют в общем веселье, а забились в уголок и успокаивают Джеки, а тот хнычет и пищит – будто скрипит выдвижной ящик.
– Дай я его возьму, теперь моя очередь, – говорит Джо, глянув на часы. С помощью Фреда на удивление тяжелый малыш в холщовой сумке перекочевывает на папину спину, и там хныканье и писк продолжаются с новой силой. – Надо дать ему печенье или что-нибудь вроде этого.
– Конечно. – Фред берет с тарелки канапе и счищает с него икру.
– Отлично. Кушай, мой хороший, – приговаривает Джо.
Джеки хватает печенье и неумело запихивает его в рот, осыпая крошками отцовский пиджак.
Пока Джеки спал на груди у мамы, его было почти не видно. А сейчас, когда проснулся и сидит за спиной у своего рослого отца, стал очень заметным в комнате и, на взгляд Фреда, смотрится довольно нелепо: спереди кажется, что у Джо две головы и четыре руки. Надо что-то предпринять. Мать когда-то учила Фреда, что, если гости пришли вместе, нельзя им стоять в сторонке и болтать друг с другом – нужно их разделить.
Решив начать с самого простого, Фред отводит в сторону Дебби и представляет ее одной писательнице как «американскую феминистку». («Неважно, что говоришь, когда представляешь людей друг другу, – учила Фреда мать, – главное, начать разговор».) Потом, чтобы не вести своего двухголового, четырехрукого, усыпанного крошками приятеля через всю гостиную, Фред знакомит Джо с театральным критиком, телеведущим и известным занудой, который стоит рядом, у камина, – под видом того, что Джо – гость из Америки, которому интересно узнать, какие спектакли стоит посмотреть в Лондоне. Вот и хорошо, – думает Фред и отправляется на поиски Розмари, а заодно и чего-нибудь выпить.
Но на душе у Фреда неспокойно из-за Вогелеров, и он без конца проверяет, как у них дела. Спустя двадцать минут Дебби уже беседует с другими гостями, а Джо застрял на одном месте и говорит все с тем же человеком – точнее, слушает его. Видно, что ему скучно. По привычке, знакомой Фреду еще со времен аспирантуры, Джо сдвинул очки на макушку, и они глядят из копны нечесаных, мышиного цвета волос, будто еще одна пара глаз, устремленных вверх, к чему-то более высокому и философскому.
А в целом Джо, в потрепанной одежде и с Джеки за спиной, на вечеринке у Розмари выглядит нелепо. Особенно не к месту он смотрится рядом с белым мраморным камином, где на резной полке стоят фотографии в рамках, приглашения с тиснеными буквами, безделушки и тепличные цветы в высоких вазах, отражаясь в большом старинном зеркале с золоченой рамой. Малыш не спит, капризничает, машет пухлыми ручонками, сжимает кулачки, дергает отца за волосы.
Фред уже готов идти к Джо на выручку, но тут в толпе начинается суматоха. Джо отступает назад, пропуская одного из слуг, а ручонка Джеки тянется к хрустальной вазе, полной высоких белых ирисов и оранжевых фрезий. Фред машет руками, кричит, но только пугает Джо и привлекает внимание гостей: многие успевают увидеть, как ваза, покачнувшись, падает и на знаменитого театрального критика обрушивается поток воды вперемешку с листьями. И, будто гром в грозу, через миг раздаются проклятия, испуганные возгласы и рев младенца.
– Прости, что так вышло с малышом Вогелеров, – говорит Фред, как только Розмари закрывает дверь за последними из гостей.
– Прости? Милый, это было чудесно! Это был гвоздь моей вечеринки! – Изысканная прическа Розмари растрепалась, помада стерлась во время прощальных поцелуев, а под левым глазом след от туши. Фреду это пятнышко кажется манящим и трогательным, как слезинка, нарисованная на щеке у мима. – Ну и физиономия была у Освальда! – Раскат смеха. – А его противные жирные рыжие волосы отстали от макушки и повисли сосульками; разумеется, с самого начала было ясно, что он зачесывает их на лоб этакой дурацкой челкой, чтобы не было видно лысины. Подумаешь, ваза разбилась, большое дело! – Розмари окидывает взглядом гостиную. Весь хрусталь и фарфор убрали, мебель переставили; ничто не напоминает больше о празднике – лишь влажное пятно на бежевом ковре и несколько цветочных лепестков на полу. – Замечательно. – Розмари опускается на низкий кремовый диванчик с подушками, затканными шелком.
– Я думал, ты разозлилась не на шутку. – Фред тоже смеется, вспоминая испуганный возглас Розмари, ее ужас и тревогу, потоки извинений, просьбу принести побольше полотенец, чтобы вытереть Освальда… С другой стороны, она же актриса.
– Нисколечко, милый. – Сбившиеся бледно-золотистые волосы Розмари рассыпались по спинке дивана, руки протянуты к Фреду. – Ах, это было чудесно!
– Чудесно, – эхом отзывается Фред. Душа его ликует. Никогда еще он не был так счастлив, как в эту минуту.
– Правда, милый. – Розмари высвобождается из его объятий после второго долгого поцелуя. – Это была одна из лучших минут в моей жизни. Как вспомню, что сказал Освальд о моей игре в спектакле «Как вам это понравится»! Столько лет прошло, а я вздрагиваю каждый раз. А каких только гадостей он не писал все эти годы о бедняге Лу! И даже о Дафне – можешь себе представить? Он так чертовски умело доказывал, что Дафна стара, чтобы играть героинь, – бедняжка едва не ушла со сцены. Мы все от души повеселились, когда он опозорился! И что за крик он поднял – глупо, пошло, хуже младенца! – Еще раскат смеха. – И главное, почти все это видели.
– Еще бы! – Суматоха, которую подняла Розмари, теперь видится Фреду в ином свете. – Ты об этом позаботилась.
Фред проводит рукой по спине Розмари, чувствует под тонким платьем соблазнительные формы и в который раз удивляется, откуда в таком нежном и шелковистом создании такая непреклонность и воля. Через пару минут, решает Фред, надо бы подняться и приглушить свет.
– Разумеется, – подтверждает Розмари с лукавой улыбкой. – Но у меня был помощник. Малыш – просто прелесть! Только, пожалуйста, милый, не надо приглашать их с ребенком снова – одного раза достаточно.
– Я и не приглашал. Я просил Джо и Дебби не брать его с собой. Честное слово.
– Верю. Честное слово, – передразнивает его Розмари и одаривает поцелуем, легким, словно бабочка. – Нельзя доверять этим хиппи, от них всего можно ожидать.
Не желая разрушать романтическое настроение, Фред не берется объяснять, что Вогелеры – никакие не хиппи. Он целует Розмари, та тихонько смеется и прижимается к нему крепче.
– Бог знает что могут сделать или сказать, – добавляет Розмари, слегка хмуря тонкие золотистые бровки. – Например, твой друг Джо, – что-то неуловимое в ее голосе дает понять, что ей Джо не друг и никогда другом не станет, – твой друг Джо говорит, что ты в июне собираешься назад в Америку. Я сказала, что он ошибся, что ты останешься хотя бы до осени.
– Он, к сожалению, прав, – подтверждает Фред с неохотой. – С двадцать четвертого июня я должен вести в Коринфе летние курсы. Я же тебе говорил, – добавляет он с нехорошим чувством, что говорил об этом Розмари очень давно, а в последнее время даже думать об этом не хотел.
– Ах, что за чепуха, – мурлычет Розмари. – Ты мне не говорил ни слова. Так или иначе, у тебя не получится просто взять и уехать: нас ждет столько всего интересного! Будет премьера пьесы Майкла, а еще я беру билеты на оперный фестиваль в Глиндбурне. А в июле начнутся съемки «Замка Таллихо» для следующего сезона, в Ирландии. Тебе должно понравиться. Там всегда так весело! Мы останавливаемся в прелестной маленькой гостинице, хозяева – пожилая пара, такие забавные чудаки! Готовят там восхитительно, бывает свежая лососина, настоящий ирландский хлеб на соде, пшеничные лепешки. И обычно полдня льет дождь, и тогда мы свободны на целый день.
– Здорово, – отвечает Фред. – Хотелось бы поехать. Но если я откажусь вести летние курсы, начальству это не понравится.
– Ну и что? – Розмари ерошит Фреду волосы. – Пусть себе злятся.
– Так нельзя. На кафедре станут считать меня безответственным, и когда будет решаться, дать ли мне бессрочный контракт, это сыграет против меня, я точно знаю.
– Ах, милый, – голос у Розмари мягкий, ласковый, – тебе не о чем беспокоиться. На самом деле все по-другому. Если ты хорошо работаешь, на тебя всегда будет спрос. Посмотри на Дафну: характер у нее скверный, но режиссеры до сих пор из кожи вон лезут, чтобы заполучить ее.
– В ученом мире все не так, – объясняет Фред. – Во всяком случае, в Америке. Да и я не звезда.
Розмари не спорит. Просто отодвигается от Фреда подальше. Светлые, тонкие волосы падают ей на лицо.
– В июне ты в Америку не уедешь, – шепчет она лениво, но с ноткой угрозы в голосе – будто дедушка Фреда правит бритву.
– Я должен уехать. Не потому, что мне так хочется, а…
– Я тебе наскучила.
– Да что ты!..
– Ты с самого начала хотел меня бросить. – Лезвие почти заточено.
– Нет! То есть да, но я же тебе говорил…
– Ты притворялся с самого начала. – Слова Розмари ранят его, как бритва.
– Нет…
– Все, что ты мне говорил, одни красивые слова… – Розмари всхлипывает.
– Нет! Я же люблю тебя, о господи, Розмари… – Фред рывком притягивает ее к себе. – Не говори так. – Фред баюкает Розмари в своих объятиях, вновь чувствует, какая она нежная, хрупкая, воздушная.
– Значит, не пугай меня.
– Не буду, не буду. – Фред покрывает поцелуями лицо и шею Розмари сквозь мягкие, растрепавшиеся локоны.
– Ты ведь не уедешь в июне, правда? – шепчет Розмари немного погодя. – Правда?
– Не знаю, – бормочет Фред, про себя гадая, что бы, черт возьми, такого сказать на кафедре, если и впрямь не поедет? Смятое платье из бледно-зеленого шелка сползает с нежных плеч Розмари, руки Фреда ласкают ее нагую грудь. – Любовь моя…
Но Розмари уворачивается от его ласк, вырывается.
– Принимаешь меня за дурочку, да? – говорит Розмари дрожащим голосом, какого Фред раньше никогда не слышал. – Решил, что я… как ты сказал про свою двоюродную сестру?., легкая добыча?
– Нет…
– А через месяц ты меня бросишь и уедешь в свою Америку. Думаешь, это тоже проще простого?
– Боже ты мой! Не хочу я ехать назад в Америку. Но, так или иначе, это ведь не навсегда. Следующим летом… – Фред снова протягивает руки к Розмари, но в этот миг она резко встает, Фред теряет равновесие и валится на диван, на белые шелковые подушки.
– Прекрасно, – говорит Розмари дребезжащим «голосом леди Эммы», как называет его Эдвин Фрэнсис. Фред слышал этот голос и раньше, но нечасто, и разговаривала она так только с упрямыми таксистами и официантами. – В таком случае прошу покинуть мой дом сию же минуту. – Розмари шествует к парадной двери, отворяет ее.
– Розмари, подожди! – Фред спешит за ней вдогонку.
– Вон. – Спутанные волосы падают Розмари на лицо, словно светлый занавес, ее прелестная грудь все еще полуоткрыта, но голос у нее строгий, равнодушный. – Вон отсюда. – Она указывает Фреду на дверь, будто выставляет кошку или собаку.
В этот миг хорошее воспитание идет Фреду во вред. Сам того не желая, он послушно переступает через порог.
– Ну выслушай же меня, всего одну минуту, ради бога… – начинает он, но Розмари хлопает дверью у него перед носом. – Подожди! Ты с ума сошла, Розмари! – кричит он блестящей сиреневой двери, медному дверному молотку с дельфином. – Я люблю тебя, ты же знаешь! Никогда в жизни я не был так счастлив… Розмари! Розмари!
Ответа нет.
7
[Винни] – дурья голова,
Пустим [Винни] на дрова!
Коль рубить невмоготу,
Отдадим ее коту.
Английская дразнилка
В первый раз за всю весну Винни заболела: у нее сильная простуда, влажный кашель и, похоже, вот-вот начнется бронхит. В это тихое дождливое утро она свернулась клубочком в кровати, под пуховым одеялом; у ног ее грелка, завернутая в кусочек фланели, а в изголовье рулон туалетной бумаги, поскольку в квартире не осталось ни одного носового платка. Грелка чуть теплая, а весь ковер вокруг кровати усыпан влажными комками бумаги. Винни от природы чистоплотна, и ей это отвратительно, но сейчас ей так тяжело и тоскливо, что уже не до грелки и не до бумажек.
Простуда сейчас для Винни – не только неприятность, а еще и позор. Она всегда верила и всем заявляла, что в Англии никогда не болеет, что микробы и головные боли, которые преследуют ее в Коринфе, не могут перебраться за ней через Атлантический океан, в ее настоящий дом. И как она теперь выглядит?
Более того, Винни подозревает, что заболела от плохого настроения, хотя вообще-то ни во что подобное не верит. Она чувствовала себя превосходно, пока на прошлой неделе не узнала, что ее грант не станут продлевать еще на полгода. Причиной болезни стала не сама по себе эта новость – Винни и не рассчитывала на дополнительные деньги, – а письмо, пришедшее в тот же день от нью-йоркской знакомой, известного ученого и члена комитета, который присудил Винни первоначальный грант. В письме знакомая сообщала, что не поддерживает нынешнее решение комитета. «Я старалась изо всех сил, – писала она, подчеркивая слова жирной черной линией, – но переубедить их было просто невозможно. Боюсь, это из-за того, что в нынешнем году в комитете Ленни Циммерн. Кстати, должна Вам сказать, очень многие считают его замечания в журнале „Атлантик“ крайне несправедливыми».
«Другими словами, – думает Винни, отматывая еще один кусок шершавой бумаги и вытирая маленький красный носик, – если бы не Л. Д. Циммерн, я могла бы остаться в Лондоне еще на полгода». Нехорошие, больные мысли, словно маленькие невидимые летучие мыши, взлетают с закрытых ставен, кружатся по темной спальне и шлепаются то там, то сям. За что Винни преследует Циммерн, который ее даже не знает? Чем она ему не угодила?
Чак Мампсон считает, что нечего выискивать причины. Мнение Чака известно Винни потому, что, размышляя, с кем бы поделиться, она выбрала Чака. Из всех ее знакомых он один не станет сплетничать, осуждать ее или жалеть. Два дня назад, когда Чак звонил из Уилтшира, Винни рассказала ему о том, как ее преследует Циммерн, при этом смягчив некоторые подробности. Вроде бы он ей просто «очень надоел». Самого же Циммерна она назвала всего-навсего «зловредным».
– Понимаю, – ответил Чак. – На самом-то деле он, может, не такой уж и зловредный. Может, он это не нарочно. Знаете, как бывает: надо что-то доказать, а для этого пример нужен. Вот и набрасываются на что-то и не думают, что за этим живой человек со своей судьбой. Такое со всяким может случиться. Я и сам по молодости так делал. Помню, был в Восточном Техасе, на заводе по переработке отходов, один начальник, который неправильно проводил испытания; у меня лицо его и сейчас перед глазами стоит. Я ему зла не желал, ей-богу. Даже не знал, что он есть на свете, но жизнь ему подпортил изрядно. Должно быть, и ваш профессор так же.
– Возможно, вы и правы, – прогундосила Винни в трубку. Она всегда так отвечает, когда не хочет спорить.
Действительно, может оказаться, что против нее лично Циммерн ничего не имеет. Вдруг у него предубеждение (корни которого в детстве, тяжелом и полном лишений) против детства вообще, или против женщин-ученых, или фольклора, или всего, вместе взятого. Однако это его не оправдывает. Как и любого преступника, его нужно судить по справедливости. И вынести ему приговор. И наказать.
По справедливости эту простуду заслужил профессор Циммерн, а не профессор Майнер; пусть у Циммерна раскалывается голова, болит горло, пусть его мучают кашель и насморк, пусть ему будет плохо. Винни представляет, будто у него та же самая болезнь, что и у нее, только желательно еще хуже, будто он в эту самую минуту лежит в постели, под тяжелой кучей одеял (обойдется без пухового, все равно в Америке они мало у кого есть). Он лежит в своей нью-йоркской квартире, должно быть, в одном из тех больших закопченных каменных зданий при Колумбийском университете. (На самом деле Л. Д. Циммерн живет на втором этаже роскошного дома в Вест-Вилледж.) Вот уже несколько недель – нет, месяцев! – ему то лучше, то хуже, фантазирует Винни. С тех самых пор, как он написал эту гадкую статью. А с тех пор как он высказался и проголосовал против того, чтобы Винни продлили грант, лучше ему вообще не становилось.
Циммерн пока не знает, что скоро ему станет еще хуже. Его простуда перейдет в бронхит, а бронхит – в вирусную пневмонию. Вскоре он окажется в одной из огромных, холодных, безликих нью-йоркских больниц, в руках у равнодушных безымянных докторов, усталых медсестер и хмурых, работающих за гроши санитаров-эмигрантов, почти сплошь наркоманов. Циммерна положат в палату на двоих, лучше ему не станет, а его друзьям – если он вообще с кем-то дружит – надоест его навещать. Винни живо представляет палату: грязное окно с видом на мрачные кирпичные стены, две высокие жесткие белые кровати, на второй из которых вонючий старикашка храпит, кашляет и ходит под себя, по телевизору с утра до вечера показывают одни викторины. Циммерн в линялом полосатом больничном халате равнодушно откладывает в сторону зачитанный до дыр «Таймс», берет с подноса пластмассовую чашку и тянет через соломинку затхлую тепловатую нью-йоркскую воду.
Больную Винни тоже пока никто не навещал, хотя она, собственно, никого и не звала. Когда Винни в плохом настроении или неважно себя чувствует, она всегда старается затаиться, пока ей не станет лучше. Даже совсем молодая, очаровательная женщина при сильной простуде кажется не такой хорошенькой, а Винни зеркало в ванной говорит, что сейчас она особенно некрасива; да и настроение у нее хуже некуда. И хотя в Лондоне у нее много знакомых, чутье подсказывает ей, что в основном это не друзья, а всего лишь добрые приятели (кроме разве что Эдвина Фрэнсиса, да и тот сейчас в Японии). Винни, конечно, любит их, но ей кажется – быть может, и несправедливо, – что их ответная дружба идет от природной доброты и человеколюбия, а не от глубокой сердечной привязанности. Винни боится подвергать эту дружбу суровым испытаниям. Если друзья и не испугаются, увидев ее такой, как сейчас, то наверняка станут жалеть, а Винни, хотя иногда и жалеет себя сама, вовсе не хочет, чтобы ее жалели другие, – даже мысль об этом ей ненавистна.
Чтобы защититься от такой опасности, Винни обычно начинает думать о невзгодах ближних и от души им сочувствует. Если бы она заболела в подходящую для простуд погоду – скажем, в начале апреля, – то с пользой поразмышляла бы о несчастьях Чака Мампсона: безработице, духовной нищете, недостатке образования, тоске, одиночестве, нелюбви к Лондону и печальном открытии, что его мудрый и благородный английский предок на деле оказался безграмотным попрошайкой. А заболей она пару недель спустя, добавила бы к списку несчастий Чака трудное детство и уголовную юность.
«Папаша» и «мамаша», рассказывал Чак, когда они с Винни в первый раз ужинали вместе, были люди темные, «без гроша в кармане» и не в ладах с законом. «Папаша был человек вовсе пропащий. Если хотите знать, полжизни просидел по тюрьмам. И на нас на всех ему было плевать».
Как поняла Винни, Чак и его многочисленные братья и сестры росли в какой-то загородной трущобе, а мать их надрывалась на работе и выпивала.
– Женщина-то она была неплохая, – объяснял Чак, накалывая на вилку непомерной величины кусок камбалы с виноградом и заедая картофелем с петрушкой (совершенно не умеет вести себя за столом), – только дома бывала редко, не могла за нами присматривать. А когда дела у нее шли плохо, злилась, и тогда нам доставалось будь здоров!
Чак и его братья росли как трава, и едва повзрослели немного, у них начались неприятности.
– Я спутался с плохой компанией. К девятому классу мы уже вовсю сбегали с уроков, ошивались в бильярдных или устраивали покатушки.
– Что? – переспросила Винни, изумляясь, насколько не к месту Чак и его история в изысканном, старомодном ресторане Уилера.
– Покатушки-то? Ну, это… Находите тачку, в которой оставили ключи, или заводите ее от другой машины и всей шайкой едете кататься. Выводите драндулет на большую дорогу и смотрите, чего он выжать способен, или берете девчонок – и айда с ними в соседний город. Если бензин кончается или за вами хвост, то бросаете на дороге. А еще, бывало, брали не машину, а пару лошадей. Потом нам эти забавы надоели. Стали вламываться в пустые дома. Просто так, чтобы поразвлечься, но если что-нибудь из вещей нравилось, брали себе. Лично я прихватывал фотоаппараты. Как-то раз в доме оказались люди и нам пришлось удирать. А потом никто не хотел сознаваться, что струсил, и мы давай выхваляться друг перед другом. Мол, в следующий раз возьмем пушку, и попадись кто на пути – всех перестреляем к чертовой матери. Один из наших знал, где его отец прячет пистолет. Можно считать, нам повезло. Нас поймали раньше, чем мы успели кого-то пристрелить, – и раньше, чем пристрелили кого-то из нас. Почти всех ребят взяли на поруки, а меня – как узнали, что у меня за семейка, – отправили в тюрьму для малолеток.
– Нет же, не тюрьма меня перевоспитала, – продолжал Чак свой рассказ, сидя рядом с Винни в партере «Ковент-Гардена», где они ждали начала «Фиделио». – Шутите? Вы были хоть раз в таком месте?.. Война перевоспитала! Меня призвали и отправили на Тихий океан, в инженерные войска. Если б не война, шел бы, наверное, и дальше по кривой дорожке и кончил бы, как отец. Только после войны перестало казаться, что убивать людей так уж весело, даже какого-нибудь япошку, который только и ждал, чтобы пристрелить тебя первым. А уж дома… Мне как-то прежний дружок рассказывал, как он пошел на ночную автозаправку с револьвером, а там малый дежурит. Не хотел никого трогать, просто услыхал шум в дальней комнате, испугался. И вот он лежит мертвый, мой дружок его лишил жизни. За что, спрашивается? Из-за каких-то пары сотен долларов. Это, знаете ли, не для меня.
– Понимаю. – Винни окинула взглядом огромный зал – сияние ламп, малиновый бархат, ярусы позолоченных лепных балконов – и снова взглянула на Чака и его кожаный галстук-ленточку. Ей показалось, будто столкнулись два мира. – И вы, значит, встали на путь истинный?
– Можно и так сказать. – Чак неловко хохотнул. – Короче, вернулся я из армии, но дома надолго не задержался. У меня были льготы для поступления в университет, экзамены в инженерный колледж я сдал хорошо, ну и подумал – черт возьми, почему бы и нет?
– Почему бы и нет? – повторила Винни, думая о том, какими неисповедимыми путями этот несчастный безработный, бывший преступник из оклахомской глуши очутился рядом с ней в «Ковент-Гардене», и о том, как ей повезло родиться в образованной, любящей, непьющей и состоятельной семье.
После вечера в опере Чак мало-помалу перестал казаться таким жалким. Ему было скучно и грустно, а потому он готов был идти куда угодно, есть что угодно и смотреть какие угодно достопримечательности. Кое-что ему нравилось, кое на что просто любопытно было взглянуть. К примеру, после «Фиделио» он сказал: «Здесь все, конечно, не так, как в жизни, но если б можно было, когда дела плохи, постоять и покричать, то всем пошло бы на пользу. Мой дед так и делал. Бывало, если его разозлить не на шутку – бросит все дела и ну крыть всех без разбору. Минут десять-пятнадцать бранится, пока не задохнется».
Винни слегка смущало, что Чак каждый раз платил за их развлечения, да еще и благодарил ее. С самого начала он по ошибке решил, что Винни добрая и отзывчивая. Это заблуждение родилось, когда они летели в Лондон (хотя на самом деле Винни всего лишь пыталась избежать разговора с ним), и укоренилось, когда Винни дала пару нехитрых советов насчет родословной. «Вам только кажется, что я добрая», – хочет иногда сказать Винни, но сдерживается.
Пусть Чак в ней ошибся, но Винни со временем поняла, что он не так уж глуп, просто недостаточно образован, а в ее понимании – вовсе невежествен. Зато хотя бы готов учиться. Чак почти ничего не читал, и Винни решила начать с азов, с детской классики – Стивенсона, Грэма, Барри, Толкиена, Уайта. Стала покупать ему книги, чтобы у него были приличные издания, а заодно в благодарность Чаку за ужин и за билеты в театр, которые он исправно покупал.
Появляясь с Чаком на самых интересных спектаклях, фильмах, концертах и выставках, Винни, конечно, рисковала наткнуться на кого-нибудь из лондонских знакомых. И в самом деле, уже во время третьего их выхода в свет – в Национальный театр – они встретили Розмари Рэдли. Винни с тяжелым сердцем представила ей Чака и увела его, как только позволили приличия. Как и следовало ожидать, Чак сказал потом: «Ни дать ни взять настоящая леди. Хоть одну аристократку встретил в Англии! Надо же, еще и красотка».
Винни была крайне удивлена, когда через несколько дней, на праздничном обеде, Розмари без тени насмешки посетовала, что Винни так быстро увела своего «забавного друга-ковбоя», и попросила во что бы то ни стало на следующей неделе привести его к ней. Винни обещала постараться, но для себя поначалу решила, что лучше не надо. Чак ей, конечно, никакой не друг и значит для нее не так уж много, но к чему брать его на вечеринку в Челси и делать из него посмешище? С другой стороны, Чак, скорее всего, не догадается, что Розмари и ее друзья над ним смеются, и если уж показывать ему Лондон, то пусть увидит не одни достопримечательности с открыток.
Итак, Винни снова нарушила свое правило держать подальше друг от друга своих английских и американских знакомых и взяла Чака с собой на вечеринку к Розмари, надеясь, что в большой пестрой компании он будет не слишком заметен. Как ни странно, его западный костюм и выговор имели небывалый успех. И хотя Чак объяснил, что на ранчо работал только в далеком детстве, англичане обступили его и забросали вопросами в невидимых кавычках о том, как заарканивают и клеймят скот и много ли в прериях краснокожих. «Что за прелесть ваш мистер Мампсон, – сказала Винни актриса Дафна Вэйн. – Американец до мозга костей, правда?» А Пози Биллингс нашла Чака «ужасно забавным» и стала настойчиво звать его и Винни к себе в Оксфордшир. Винни поняла, что здесь, в Англии, Чак не обычный американец, каких тысячи, а своеобразная, даже диковинная личность. Точно так же воспринимали бы в Америке, допустим, шотландского инженера-сантехника в юбке.
Однако в Лондоне Чак развлекался недолго. Через десять дней после вечеринки у Розмари он решил вернуться в Уилтшир, и главной причиной стали слова Эдвина Фрэнсиса. Вместо того чтобы сочувствовать Чаку из-за Старого Мампсона, Эдвин поздравил его: «Превосходно! Похоже, настоящий персонаж из книги Гарди. Вы счастливчик – мои предки по большей части такие скучные, что слов нет. Сплошь адвокаты да священники. Разузнайте о нем побольше во что бы то ни стало».
– Вот что я думаю, – поделился позже Чак своими мыслями с Винни. – Сдается мне, мистер Фрэнсис дело говорит. Надо разузнать о старике побольше. Кто бы он ни был, а он мне как-никак родня.







