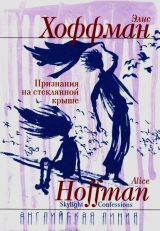
Текст книги "Признания на стеклянной крыше"
Автор книги: Элис Хоффман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Встав на ноги, они проверили, какие же получились ангелы.
– Ну вот. – Арлин, судя по всему, осталась довольна. – Это нам с тобой на счастье.
У Сэма уже зуб на зуб не попадал. Он поднялся к себе в комнату. Нужно было бы стащить с себя промокшую одежду, но он ждал, покуда сырость проберет его до костей. Ангелы на дорожке получились красивые, однако все-таки навевали и грусть. Наводили на мысли о небесах и конце света. Страшно было подумать, что с его матерью или с Бланкой вдруг случится что-нибудь. Сэму и без того было невмоготу. Дело в том, что он хранил тайну, о которой не решился сказать. Его мать была так полна рождением дочки, так счастлива, что он не стал объяснять, почему вышел в такой снегопад стоять на дороге и наотрез отказывался зайти в дом.
Причина была не в том, что он ждал Бланку. Он простоял целый день на улице потому, что умер Уильям. В то утро Сэм открыл стенной шкаф, чтобы дать Уильяму его любимый корм – яблоко с арахисовым маслом, – но Уильям лежал свернувшись в своем гнезде и не двигался. Сэм закрыл дверцу шкафа и вышел на дорогу. Держа руки в кармане, исколол себе булавкой все пальцы, но эта боль не заглушала другую. Вечером, когда он лег в постель, то не заплакал, а принялся вместо этого считать до ста. Раз – его ничто не в силах тронуть. Два – он сейчас далеко отсюда. Три – он летит высоко над домами, над верхушками деревьев,он – из тех особых коннектикутских жителей, о которых ему рассказывала мама, из того неведомого и диковинного племени. Как знать, возможно, он и впрямь один из них: мальчик, умеющий улетать от опасностей, от горя и оставаться бесчувственным ко всему.
Арли нащупала опухоль, когда Бланке было три месяца от роду и она кормила ее грудью. Грудь у нее была и так бугристая, набрякшая от молока, но это было нечто иное. То самое, чего она всегда боялась. Похожее по очертаниям на камень.
Джон Муди завершил свою работу над зданием в Кливленде; дом прозвали Стеклянной Горой, и о его непомерной высоте в городе отзывались весьма нелестно. Теперь Джон вернулся домой. Слегка обмяк, увидев девочку: возможно, не насюсюкался и не нацацкался вдоволь с сыном, так наверстывал хоть с дочерью – а может, проникли в сознание слова матери, чего в ее глазах стоит его поведение.
В тот день, когда Арли обнаружила у себя опухоль, Джон сидел на кухне и пил кофе. Он даже для Арлин налил чашку. Постарался проявить внимание. Потом поднял глаза и, увидев Арлин – нечесаную, в ночной рубашке, – забыл про кофе.
– По-моему, со мной что-то неладно, – сказала Арли.
Джон Муди знал, что с браком у него сложилось не лучшим образом. Чувствовал, что его завлекли в ловушку, отняли у него молодость. Он так и не побывал в Италии, хотя несколько раз проходил курс итальянского языка и мог с грехом пополам объясняться по-итальянски – на венецианском диалекте – со своей привлекательной молодой учительницей, с которой, кстати, два раза переспал. Три раза – это уже роман, рассуждал он сам с собой. Один раз – просто в порядке опыта, поскольку уж привелось жениться таким молодым. Второй – из чистой вежливости, чтоб бедной девушке не было обидно. Начав работу над зданием в Кливленде, он прекратил брать уроки; учительница несколько раз пыталась дозвониться до него на работе; он ей не отзвонил. Он, откровенно говоря, приспособился к своему браку: жена больше не ожидала от него такого, что ему попросту не дано. Она хорошо его знала.
– Послушай, с кем не бывает, – сказал он Арлин. Он полагал, что она человек уравновешенный, а оказалось – паникерша. – Нельзя же пасовать перед трудностями. Нельзя сдаваться без боя, правильно?
Арлин подошла ближе. Стала перед ним и взяла его за руку. Первым его побуждением было отнять руку, но Джон Муди подавил его. Честно говоря, ему хотелось читать газету, но он заставил себя отвлечься от газеты и слушать. Перед отъездом, в последний вечер, мать отвела его в сторону и сказала, Будь добрее.Вот он и старался. Арлин, в конце концов, только что родила, и нельзя требовать, чтобы она полностью отвечала за все свои поступки и настроения. По крайней мере, так советовал ему Джек Галлахер из соседнего дома, когда Джон начал жаловаться, что от Арлин сейчас не знаешь чего и ждать. Хотя, конечно, у Джека не было детей да и жены, фактически, тоже – это был вопрос лишь нескольких недель. Синтия дала понять Джону Муди, что отныне путь к ней открыт: она подала на развод и вскоре Джек от нее съедет. Большой привет, таким образом, соседским советам. Кстати сказать, об этом разводе Джон узнал раньше, чем сам Джек. Однажды вечером, вскоре после того как Арли вернулась домой с ребенком, Джона перехватила на дорожке к дому Синтия, ища кого-нибудь, с кем можно выговориться, кто тебя поймет.
Тем более грех ему было не прислушаться к тревогам собственной жены. А газета подождет. Однако вместо того, чтобы распространяться о своих тревогах, Арли сделала нечто, чего Джон ожидал меньше всего. Положила его руку себе на грудь. Он сразу нащупал опухоль и в тот же миг вспомнил, как давно не прикасался к этой груди. И вот теперь – такое. Камень.
– Может быть, это нормально. Может, нужно перестать кормить грудью, и оно само пройдет.
Таков был его подход к жизни. Он верил в логику и в то же время отказывался видеть правду – но Арлин была устроена иначе. Она думала о тех мгновениях во времени, что были ей дарованы. Стоять на крыльце, ожидая пришествия Джона; рожать детей; гоняться взапуски по пляжу с Джорджем Сноу, который швыряет камушки по воде; рассматривать снежных ангелов на дорожке к дому; видеть, как тянется к ее руке рука Сэма. Эта минута была водоразделом меж дои после.Отныне ей не нанизывать подобных бусин на нитку времени. Отныне – никаких «вечно» и «беспрестанно». Сидеть в кабинете у врача, проходить сквозь десятки маммограмм, готовить Джону и Сэму обед, убаюкивать Бланку, звонить Диане: не приедет ли из Флориды пособить с детьми, когда Арлин сделают операцию. Все это совершилось так стремительно; прошлое нависало над Арлин, словно отпечатанное в воздухе. Словно это был потолок, под которым ты ходишь. Она силилась вспомнить свою мать. Арлин было три года, когда ее мать захворала – а чем, Арли так и не сказали. Знай она, что той же формой рака, какая теперь и у нее, она позаботилась бы следить за собой, проверяться; однако говорить о таких вещах было не принято. Считалось, что рак – особая отметина, от которой передается зло. Назовешь вслух – и рискуешь уже самим этим словом навлечь на себя беду.
Обидней всего, что в ее памяти так мало сохранилось о матери, лишь скудные разрозненные обрывки: рыжие волосы – вроде ее собственных, только с темным отливом, песенка, которую она напевала – «Дождик-дождик, пуще!», единственная из рассказанных ею сказок – «Красная шапочка». Целых три года с мамой – и это все, что Арлин могла припомнить. Ее собственной дочке сейчас три месяца – какие уж там три года! Ей-то что запомнится? Рыжеволосая тень, голос, нитка жемчуга, которой она играла, сося материнскую грудь…
Арлин тщательно обдумала, что нужно сделать накануне операции. Подошла к вопросу так, словно ей оставался последний день на этой земле. Не пустила в школу Сэма, оставила его дома. Он, после того как лишился бельчонка, еще больше замкнулся в себе, как ни пыталась Арлин объяснить, чем вызвана эта утрата. Что таков естественный ход всего живого, а что ухаживал Сэм за своим любимцем как нельзя лучше. Никто – ни сам президент, ни ученый, будь он хоть семи пядей во лбу, – не скажет, кому назначено жить, а кому – умереть.
В день накануне операции Арлин все утро читала Сэму вслух. Они дошли уже до книжки «Чудо или нет?», одолев практически всю серию Эдварда Игера, посвященную коннектикутским чудесам. Арли положила рядом с собою в постель и малышку, чтобы вбирать в себя живые токи обоих своих детей. Невнятное лопотание Бланки, теплый бочок Сэма у ее собственного бока. Сэм был высоким для своих шести лет; вырастет долговязым, в отца – таким приходится нагибать голову, входя в дверь. Арлин желала Сэму самого лучшего, что только есть на свете, она весь мир отдала бы ему. Ну, а раз времени оставалось в обрез, то выбрала лучшее, что было в ее власти: привезла детей в кафе-мороженое на главной улице и позволила Сэму взять «Золотое дно», пломбир его мечты: четырех разных видов, с сиропом крем-брюле и шапкой сбитых сливок, и плюс к тому – глазированными вишенками. Сэм осилил половину, схватился за живот и застонал.
Что же до Джона, он был на работе. Не из бессердечия, как можно подумать, – нет, это Арлин так решила, сказав, пусть день идет обычной чередой, иначе ей не выдержать. Или, может, Джон просто не вписывался в ее картину ничем не омраченного дня. Может быть, ей хотелось выпроводить Джона из дому по причинам, в которых не так-то легко себе признаться. Возможно, ей необходимо было увидеть в последний раз Джорджа Сноу.
Вечерело, когда она привела детей к Синтии.
– Арли…
При виде соседки у Синтии на глазах навернулись слезы.
– Ты не посмотришь за ними без меня?
Арлин держала в руке ключи от своей машины. Стоял апрель; все вокруг одевалось зеленью.
– Не надо, – сказал Сэм. – Не оставляй нас у нее. Мы ее ненавидим.
– Вот видишь, – беспомощно уронила Синтия.
Арлин завела Сэма в прихожую соседки и положила в руки Синтии девочку. Пусть они не были больше подругами; бывают обстоятельства, когда дружба – далеко не главное.
– Не останусь я в доме у ведьмы, – объявил матери Сэм.
– Он и правда не останется.
Синтия не отрывала глаз от ребенка, лежащего у нее на руках. Бланка отвечала ей внимательным взглядом.
– Хорошо, тогда отведи их домой – у нас там задняя дверь открыта. Дома им будет лучше. Сэм пускай смотрит телевизор, а Бланке дашь бутылочку. Согреешь под горячей водой – только проверь сначала, не слишком ли горячо.
– Что я, по-твоему, совсем дура? – судя по голосу, Синтия опять едва сдерживала слезы. – Раз у самой нет детей, значит, должна обязательно обварить ребенку ротик?
– Да нет, конечно. Я знаю. Я тебе доверяю, Синтия. – Арлин оглянулась на Сэма. – Будешь сегодня делать, что Синтия тебе скажет… ну хорошо, кроме полной ерунды. Пожалуйста, сделай мне это одолжение. Мне так надо.
Сэм кивнул головой. У него больно сдавило горло, но он знал, когда его мать не шутит.
Арлин села в машину и выехала на дорогу в Нью-Хейвен. Она знала, где живет Джордж Сноу. Давным-давно проверила по телефонной книге. Один раз даже позвонила, но раньше, чем ей успели ответить, положила трубку. Если бы он узнал, что Бланка его дочь, он явился бы забрать их к себе. И все полетело бы кувырком. Ну, а теперь все и так полетело кувырком. Арли вела машину слишком быстро. Ее бросало в жар. Жемчуг на шее – тот, что оставил для нее Джордж, – словно бы тоже лихорадило: его обметало легкой ржавчиной.
Она остановилась напротив трехэтажного дома, где он снимал квартиру. Ей почему-то казалось, что квартира должна быть на верхнем этаже. Хорошо было бы взглянуть на почтовые ящики, найти, на котором стоит его фамилия, – но она все же не вышла из машины. И правильно сделала: как раз в это время к дому подъехал его фургон. Джордж работал теперь в зоомагазине. Они с братом больше не разговаривали – разругались в пух и прах после того, как Муди прогнал их с работы. Джордж, откровенно говоря, избегал общения с людьми, предпочитая большей частью водить дружбу с попугайчиками да золотыми рыбками. Он обошел фургон сзади, достав из кузова свой рюкзак и коробку для завтрака. Выпрыгнул из машины и его пес – колли по кличке Рики. Собака заметно постарела, а Джордж выглядел прежним, только далеким, посторонним. Они не виделись всего лишь год – откуда же взялось это чувство, будто целую вечность? Он насвистывал что-то, шагая в сопровождении собаки к ступенькам крыльца. Потом дверь захлопнулась, и он исчез.
Арлин так и не вышла поговорить с ним. Совсем было решилась, но только она всегда побаивалась камней, а дорожка к его дому была как раз вымощена камнями – мелким округлым гравием. Слишком поздно. Слишком ужасно и несправедливо было бы прийти к нему теперь. Арлин так крепко вцепилась в баранку, что побелели костяшки пальцев. В квартире на третьем этаже зажегся свет. Если б послушаться, когда он уговаривал ее уйти от Джона, им достался бы весь этот год вместе. Теперь делить пришлось бы только боль и горе. И – чего бы это ей ни стоило – нельзя было допустить, чтобы за Бланку дрались, разрывали ее дитя на части. Ну что же, по крайней мере ей удалось его повидать. Еще одно чудесное мгновение ее замечательного дня.
Обратно Арлин ехала медленно, стараясь не думать ни о чем, кроме дороги и детей, ждущих ее дома. Ей все-таки досталось от судьбы больше, чем многим. В конце концов, настоящая любовь, как бы ни был краток отпущенный ей срок, стоит цены, которую за нее платишь… Один изъян, притом ужасный, вторгся в течение этого дня: предоперационная консультация в больнице, назначенная на поздний час, чтобы на ней мог присутствовать и Джон. Небо наливалось темной синевой. Апрельской синевой. В больнице глаз слепило беспощадно яркое освещение. Арлин принимали последней в этот день. Кого здесь оставляли напоследок – самых легких больных или самых тяжелых? Интересно бы знать. Врач был молодой. Сказал ей, чтобы называла его по имени: Гарри, но у нее никак не получалось, и она продолжала говорить «доктор Льюис». Раз хочет, чтобы она звала его по имени, стало быть, плохи дела. Спасибо, что здесь же сидит Джон – его присутствие помогает держать себя в руках. Она знала, что Джон терпеть не может дурных известий, женщин, с которыми трудно, всяческих трагедий. Постойте, ведь она ни единого раза не расплакалась при нем! Даже тогда, в Нью-Хейвене, в тот день, когда с такой несокрушимой верой в будущее явилась к нему в общежитие. Заплакала, когда он уже сбежал. И начинать теперь не собиралась.
Степень распространения рака доктор Льюис определит в ходе операции, и ассистировать ему будут еще два врача, ординаторы; Арлин передернуло при мысли, что в ее нутро ворвется целая орава народа. Понять до конца, что ей предполагают отнять грудь, удалось не сразу. После этого она вообще перестала думать, не задумывалась даже о предстоящих ей сложностях. Полностью очистила свой мозг. Время остановилось. Она сама того желала, так и произошло. Дорога домой прошла в молчании и длилась лет десять. Арлин поблагодарила Синтию, которая приготовила им обед на всю семью. После обеда Джон пошел проводить Синтию домой. Она раскрыла ему объятья, и он с готовностью припал к ней. Она оказалась тут как тут в нужный момент, как и обещала. Повела его в свой дом, а там – к себе в спальню. Ее любовь не была прегрешеньем, она была приношением – так воспринимала ее Синтия, и так ее принял Джон.
Оставшись одна в Стеклянном Башмаке, Арлин уложила спать малышку и принялась мыть посуду. Возилась целую вечность с каждой тарелкой, но это было к лучшему. Ей и хотелось, чтобы все это тянулось долго. Отсутствие Джона ее не трогало, ей нравилось, что в доме тишина. Сто лет ушло у нее в тот вечер на сказку, рассказанную шепотом Сэму перед сном. Любимую сказку Сэма: услышанную ею от отца историю о летучем племени, обитающем в Коннектикуте.
– Если меня не станет, – прибавила под конец Арлин, – это значит, я там. Прямо над тобой, летаю. Я никогда не брошу тебя совсем.
Косточки своего бельчонка Сэм хранил в обувной коробке, задвинутой в угол стенного шкафа. Он знал, что происходит после смерти.
– Нету такого племени, – сказал он.
– Нет есть.
– Слабо тебе доказать.
Тогда Арлин решилась на безумный поступок. Она повела Сэма на крышу. По чердаку привела к двери, выходящей на ровную стеклянную площадку. Туда, где стоял Джордж Сноу, когда она увидела его впервые. По луне пробегали облака. Ветер гулял в деревьях. Повсюду кругом Арлин ощущала присутствие тех, о ком ей говорил отец. Тех, которые не бросят тебя, что бы ни случилось.
– Ну видишь? – Голос Арлин, очень тихий, потерянный, звучал непривычно.
Сэм видел лишь простор огромного мира и меркнущее небо. И краски: лазурь, чернь, индиго – линию горизонта, мерцающую так, что он невольно сощурился. Заметил, что мама стоит с закрытыми глазами. Сэм знал, что здесь стоять опасно. В деревьях что-то зашелестело. Что-то необыкновенное.
– Да, вижу, – сказал он.
Арлин рассмеялась, и это был снова ее привычный смех. Она открыла глаза. К ее мгновениям во времени прибавилось еще одно, самое лучшее. Роскошная безмолвная темная ночь. И поразительное ощущение свободы, отъединения от земли – правда, если б и в самом деле ей можно было улететь, она никогда не покинула бы сына. Чего только не отдашь за подобное мгновение! Они сошли по ступенькам на чердак и возвратились в комнату Сэма. Арли подоткнула ему одеяло и пожелала спокойной ночи. Посидела рядом, дожидаясь, пока он уснет, пока дыхание его станет ровным и глубоким, – а потом на этом же стуле посидела еще. До тех пор, покуда он поутру не открыл глаза.
– А я знал, что ты еще будешь здесь, – сказал Сэм, и раз в кои-то веки у него забрезжила слабенькая надежда, что не все на этом свете обман.
Джон Муди был проектировщик, созидатель, строитель; в час невзгоды он прибегал к тому, что умел. Ища, на чем бы сосредоточиться, он разработал проект. Дурацкая затея, говорили об этом проекте в городе, – огромный бассейн позади Стеклянного Башмака. Джон видел задуманное им творение прекрасным: обложенное шиферной плиткой, открытое каскадом, перетекающим в бассейн меньшего размера, прорытый ниже по склону. Ко дню, когда Арлин вышла из больницы, был уже вырыт котлован. Глубина у дальнего конца – двенадцать футов. Роют и роют – сквозь камень, сквозь глину – казалось, конца этому не будет. Газон весь завален комьями красной глины, сколами шифера. От грохота оглохнуть можно; окна в своей комнате Арлин держала закрытыми, шторы – задернутыми. Шел июнь, и она умирала под шум бульдозеров и бетономешалок. Такой дождливой весны, как в том году, еще не бывало; темные листья сирени и ряды самшита тонули в море зелени.
Опухоль захватила грудную клетку и оплела собою ребра. Удалить всю ее хирургу не удалось. Кости Арлин обратились в кружево. Теперь она называла своего доктора «Гарри» – так скверно обстояли дела. Онкологи назначили было облучение и химиотерапию, но через месяц отменили, настолько ей стало хуже. Не тот случай, когда имеет смысл что-то пробовать, – просто умирающая женщина, которая лишилась в скором времени и своих рыжих волос. Перед началом химиотерапии она заплела их в косу двухметровой длины и отрезала. Остальное выпадало само – и в спальне, на подушку, и под душем, и во время неспешных прогулок по проулку в сопровождении Синтии, на которую она опиралась, когда устанет.
– Ты поддерживай меня, – говорила она Синтии. – Я на тебя полагаюсь.
– У меня сил не хватит удержать, – заметила однажды Синтия.
– У тебя как раз хватит, – сказала Арлин. – Этим ты в основном и вызвала у меня желание с тобой подружиться.
Косу Арлин убрала в шкатулку, куда складывала то, что оставит на память детям, – к семейным фотографиям, к рисункам, подаренным ей Сэмом, к именному пластиковому браслетику, который при рождении надели на руку Бланке. Ко всему этому, когда придет время, Арлин добавит и свой жемчуг. После того как она прошла облучение, жемчужины сквозь ее кожу пропитались его отравой и стали черными, как таитянский жемчуг, – совсем другими, чем им полагалось быть.
Два раза она видела, как Джон Муди в сумерках пробирается сквозь живую изгородь к дому Синтии. Он рассчитывал, что она не узнает, потому что спал теперь у себя в кабинете; но она знала. Она редко выходила из своей комнаты, и Джон, вероятно, полагал, что может спокойно искать себе утешения по соседству. Последняя прогулка закончилась для нее тем, что она упала; Синтия стояла на дороге, призывая на помощь, – остановилась нефтяная цистерна. Водитель, богатырского сложения детина, доставил Арли домой.
– Вы, верно, из тех самых летучих коннектикутцев, – сказала ему Арлин.
Такому, как он, должно быть, и крылья понадобились бы исполинские.
– На цистерне-то – как же, бывает, и летаешь иной раз. – У самого водителя лишь недавно умерла мать. И хотя малый он был крутой, с какими шутки плохи, сейчас это было незаметно. – Вы только в полицию не сообщайте, не сажайте меня за решетку.
– Не буду, – обнадежила его Арлин.
После этого случая Джон нанял ей сиделку по имени Джезмин Картер. Джезмин подавала Арли лекарства, помогала ей мыться, одеваться. Короче, смотрела за Арли; смотреть за детьми приехала Диана Муди. Арли все еще старалась хотя бы раз в день брать на руки свою дочку и каждый вечер читать на ночь Сэму, а когда не стала больше различать слова, он начал читать ей сам.
– Тебе неприятно, что я теперь без волос? – спросила она у Сэма в один такой вечер.
Раньше у них было заведено, что чтение происходит в его комнате, когда он лежит в постели. Сейчас выходило наоборот, но это у них не обсуждалось.
– Мне так нравится больше, – сказал Сэм. – Ты похожа на птенчика.
– Чик-чирик, – сказала Арлин.
Иногда, если слишком дрожали руки, она и есть не могла без посторонней помощи. Действительно, как птенчик. Она старалась не показывать Сэму, как сильно сдает, но это было не просто. Для Арлин не имело значения, кто что скажет про ее сына. Сэм знал такое, чего другим детям знать не дано. Он безусловно знал, что происходит. Стакан держал так, чтобы ей удобнее было тянуть воду через соломинку. Потом опускал стакан на плетеную подставку, чтобы не оставить на ночном столике круглое пятно.
– Скоро возьмешь мое ожерелье и положишь в особую шкатулку для драгоценностей, – сказала ему Арлин. – Оно достанется твоей сестре.
– А мне что достанется? – спросил Сэм.
– А тебе на целых шесть лет досталась я, – сказала Арли. – И может, еще достанусь и на седьмой год.
– И на восьмой, девятый и десятый, а лучше – на тысячу лет!
Судя по ощущению, она и так прожила тысячу лет. Израсходовала все свое время, но почему-то еще продолжает жить. Сил не было переносить этот шум за стеной: гам рабочих, заливающих цемент, стук, когда кладут плитку – аквамариновую, итальянскую. Джон выписал ее прямо с фабрики неподалеку от Флоренции – вот какого совершенства достиг он в итальянском! Сидел у постели Арлин и показывал ей каталог. Небесно-голубая плитка, лазурная, бирюзовая, цвета ночного неба. Turchese. Cobalto. Azzurro di cieclo. Azzurro di mezzanotte.Она уснула посреди разговора, и в итоге Джон заказал плитку по собственному вкусу.
Джордж Сноу понятия не имел о том, как обстоят дела у Арли, – пока однажды не натолкнулся в нью-хейвенской закусочной на своего брата. Джордж сидел там за поздним ланчем: чизбургером и кружкой пива. Он предпочел бы, чтобы его никто не трогал, но Стив подошел и сел рядом. С ходу – будто забыл, что они уже сколько месяцев не разговаривают, – завел речь о человеке, которому обязан был тем, что прогорел их бизнес и сошли на нет их с братом отношения, хотя ведь сам же зарекся когда-либо даже произносить его имя.
– Этот гад Муди строит у себя плавательный бассейн, каких якобы свет не видывал. При том, что сама – в гробу одной ногой.
После Джордж Сноу будет вспоминать, как просто опустил при этом известии руку с кружкой пива. Брат продолжал говорить, но Джордж не слышал больше ни слова. Он услышал лишь слово «сама».
– Ты это про Арлин?
Стив только тут сообразил, что́ его угораздило брякнуть.
– Она больна, старик. Я думал, тебе известно. Я просто хотел этим сказать, как мне жаль.
Джордж бросил на стойку закусочной что с него причиталось и пошел к двери. Брат окликнул его, но, видя, что Джордж не остановился, вышел следом к стоянке машин.
– Джо, я серьезно. Она тебе не жена, и не твое это дело. Они с тех пор завели еще одного ребенка – это о чем-то говорит?
– Когда завели? – проговорил Джордж ошеломленно.
– Этой зимой. Я полагал, что ты знаешь.
Джордж сел в машину и включил зажигание. Паническое смятение сдавило ему грудь. Как там ни злись на брата, но, по сути, винить за неведение Джорджу было некого, кроме себя. Он переехал в Нью-Хейвен, стремясь избавиться от опасности случайно встретить Арлин, – перед лицом ее отказа повел себя как трус. Считал, что если она передумает, то найдет способ дать ему знать. Считал, что она сделала сознательный выбор: остаться с Джоном. Сейчас все, в чем он был так уверен, таяло как дым.
Джорж Сноу гнал с такой скоростью, что по ветровому стеклу, разлетаясь, били мелкие камешки. Доехал до улицы, где жила Арлин, и его паническое смятение возросло. Подъезд к дому загораживали четыре фургона, и ему пришлось ставить машину на траву. Газон, напитанный проливными весенними дождями, раздрябнул, и колеса глубоко увязли, но это не имело значения. Наметанным глазом бывшего мойщика Джордж заметил, что у окон дома плачевный вид: все в подтеках, в налипших листьях и цветочной пыльце.
Пока он сидел, не понимая, что делать дальше, из дома вышла женщина. Свекровь; Джордж узнал ее. За нею плелся Сэм – ну да, нынче пятница, уроки музыки, – а на руках она несла ребенка. Живое маленькое дитя. Джордж Сноу смотрел, как они садятся в машину, как трогают с места. Кружилась голова, и нечем было дышать – до сих пор он видел сон, будто живет со старой шотландской овчаркой в квартире на третьем этаже, работает в зоомагазине. Теперь – проснулся. Он вылез из машины, пошел к дому и постучался в дверь. Никто не отозвался; тогда он нажал на звонок и держал его, пока не поднял трезвон громче церковных колоколов. Открыла женщина; но этой Джордж не знал.
– Прекратите, – сказала она. – Совесть надо иметь.
Джордж прошел мимо нее в прихожую. Внутри царил полумрак, как будто он забрел в темный лес.
– А ну-ка, стойте. – Незнакомая женщина была сиделкой, Джезмин Картер. – Делайте, что вам сказано, или я звоню в полицию.
– Я иду к Арлин.
Раньше дом представлялся Джорджу великолепным: он изучил его до мельчайших подробностей, глядя в окна. Но таким, как сейчас, Джордж его не помнил. Из прихожей ничего сквозь стекло было не разглядеть.
– Речи быть не может, – сказала Джезмин. – За Арлин отвечаю я, и это мне решать, куда вы идете, куда нет. Вы, вообще, представляете, что́ здесь происходит?
– Она захочет со мной увидеться.
Они стояли, глядя друг на друга; Джордж понимал, что о нем составляют мнение. Кто он такой, чтобы считать себя вправе на что бы то ни было? Джордж подумал о детях, которые только что ему встретились. Подумал о том, сколько он всего не знает.
– Можете говорить что хотите, я все равно с ней увижусь, – объявил он сиделке, после того как назвал себя.
Ясно было, что перед ней человек, который поднимет шум, если пытаться выпроводить его. И еще: когда он назвался, Джезмин вспомнила, что слышала это имя. Оно срывалось с губ Арлин во сне.
– Ну, раз уж вам так приспичило, то приготовьтесь. Я не позволю расстраивать ее вашей реакцией. Ахи и охи сразу оставьте здесь. То, что вам придется увидеть, вас не обрадует.
– Я в полном порядке, – заверил Джордж.
– Это вы не надолго, – сказала Джезмин. – Я знаю, что говорю.
– Зато вы меня совсем не знаете.
– Во всяком случае, она зовет вас, когда впадает в забытье. Вполне вероятно, что ей не хотелось бы показываться вам в таком виде.
Джордж не подумал заранее, какой это ужас – любить человека и наблюдать его муки. Он больше года не видел Арли. Уже и выздоравливать начал, если можно назвать выздоровлением одинокую жизнь затворника.
– Все будет в порядке, – сказал он. – Как бы она ни выглядела.
Он поднялся вслед за Джезмин по лестнице.
– Она много спит. Надо бы выносить ее на воздух, да для меня непосильна такая тяжесть. Мой предел – двадцать пять кило.
Они пошли по коридору. Стеклянный потолок над головой был весь заляпан сосновыми иголками, цветочной пыльцой, листьями, следами дождевых капель: траурный покров. Они прошли мимо детских комнат.
– У маленькой рыжие волосы? – спросил Джордж.
– Белокурые. – Джезмин не зря проработала пятнадцать лет сиделкой. Кое в чем она умела разобраться в одну минуту. – Такие, как у вас.
Они дошли до двери Арлин; Джезмин постучалась и, приоткрыв дверь, заглянула в комнату.
– А к вам пришли.
В ответ – молчание. Она кивком позвала Джорджа войти. Слышно было, как у бассейна заканчивают работу плиточники, как с тошнотворным чавканьем разворачивают свои шланги цистерны с водой.
Джезмин подошла к плоскому холмику, лежащему на кровати.
– Везет вам сегодня – к вам гости.
– Скажите им, пусть уходят.
У Арлин пересохло во рту, ватном от высоких доз обезболивающего, назначенных врачом. Она говорила чужим голосом. От слов как будто становилось больнее.
Арлин лежала спиною к ним, но Джорджу видна была ее голова. Ни рыжих волос – ни волос вообще. Джордж силился проглотить ком, застрявший в горле. Он клял себя, клял этот мир, это мгновение.
– Арли, – сказал он. – Это я.
Он видел, что она узнала его голос, так как последовал ответ: ее спина сжалась, точно у черепахи, которая прячется в свой панцирь. Казалось, что у нее на миг остановилось дыхание.
– Пусть он не смотрит на меня…
Ее рывком вышвырнуло из дремотного укрытия в реальный мир, и приятного в этом было мало. Сердце готово было разорваться.
– Завяжите мне глаза, – сказал Джордж сиделке. – Мне важно быть с нею, видеть – не обязательно. Обещаю тебе не смотреть, – прибавил он, обращаясь к Арлин.
– Придумает тоже, – пробормотала Джезмин, но все-таки достала из ящика комода шарф, закрыла им глаза Джорджа и крепко завязала сзади.
– Ничего не увидит, – успокоила она Арлин. – Ему главное – посидеть рядом с вами, милая.
– Это во мне тщеславие проснулось. Хочу запомниться такой, как была.
Арлин говорила шепотом, но Джордж отчетливо слышал каждое слово. Джезмин усадила его на стул у постели. Здесь он мог ловить дыхание Арли. Чувствовать коленом ее одеяло, деревянный край ее кровати. Однажды они здесь совершили акт любви. Торопливо и виновато, и с огромным удовольствием.
– Он даже не знает про ребенка, – сказала Арли.
– Я пока ненадолго пошла вниз. – Джезмин понимала, что нужно этому человеку: то самое, что нужно каждому. Время. – Кликнете меня, если что.
– Мне надо было вернуться, – говорил Джордж. – Приходить снова и снова – тогда ты сдалась бы в конце концов и ушла ко мне.
Арлин взяла его за руку. На миг его поразило, какая она холодная. Арли поднесла его руку к своему ожерелью.
– Ах, вот что, – сказал Джордж. – Ну да, я бросил его под кусты, когда ты прогнала меня…
Этот жемчуг она носила не снимая – разве что лишь на время лечебных процедур, но даже тогда договаривалась с сестрой, чтобы его клали в карман ее больничной пижамы, под халат, выданный в процедурной. На время сеанса облучения всегда запирала его в шкафчик, где оставляют вещи, поближе к себе. На счастье, в честь любви – да просто так, без причины. Жемчуг достался Джорджу от его матери, о чем он так и не успел рассказать Арли, а матери – от его бабки.








