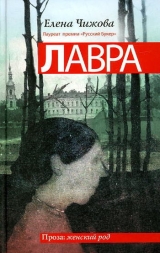
Текст книги "Лавра"
Автор книги: Елена Чижова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Муж уехал в командировку буквально на следующий день. Дождавшись ночи, я открыла книгу и, начав снова, читала бесстрашно и свободно. Теперь, доведись подбирать сравнение, я не назвала бы себя слепоглухонемой. Холодные стержни, на которых, как на учительском горле, когда-то лежали мои руки, сделали свое дело: то, что раньше я называла своими словами, упорядоченными и протяженными, уходящими вглубь и ввысь, теперь, став чужими, проходили сквозь землю – то есть, попросту говоря, были заземлены. Это физическое сравнение казалось мне самым подходящим для того, чтобы объяснить саму возможность освобождения: разрядки. Сейчас мне кажется странным, что, охваченная новыми чувствами, я, найдя простейшую физическую аналогию, не вспомнила о том, что случается с одиноко растущим деревом, через которое – соединяя одним ударом верх, низ и землю – проходит электрический разряд.
Я позвонила в тот же день, когда отдала книгу. Выйдя из профессорского дома на Исаакиевской и обойдя собор, я перешла к гостинице и на самом углу Гоголя увидела эту телефонную будку. Ее дверца была широко раскрыта, но стекла – я осмотрела придирчиво – оказались целыми. Я вошла и закрыла плотно, словно кто-то, следующий неотступно, мог подслушать меня. Сквозь грязноватые окошки, похожие на стекла аквариума, я смотрела на проплывающих мимо людей. Торопливый номер телефона поднялся в моей памяти.
Я проверила дверь и, пошарив в кармане, загадала на две копейки: если не окажется двушки, звонить не буду. Горсть монет звякнула в ладони, и, поднеся близко к глазам, я увидела множество двухкопеечных, пересыпанных серебряными орлами и решками большего достоинства. Уже набирая номер, я подумала, что с того вечера, окончившегося торопливо-вежливой запиской, прошло уже столько времени, что из моего звонка, окажись он запоздалым, найдется совершенно невинный выход: я прислушаюсь к голосу и, почувствовав неладное, сведу дело к бессмысленно-дружескому поводу. Голос оказался растерянным. Мне стоило лишь назваться, и он, вдруг заторопившись, попросил меня о встрече – если возможно, тем же вечером.
Мы встретились у Владимирской, и Дмитрий предложил зайти в кафе-мороженое – на Загородном, второй дом от угла. Предлагая, он именно так и выразился, словно, путая времена, назвал какой-то старинный адрес. Тогда, в первый раз идя рядом с ним по улице, я подумала о том, что он и сам какой-то старинный. В отличие от остальных университетских в нем не было непринужденной развязности, дававшей им право шутить в любой – даже не располагающей к шутливости обстановке. Говоря по правде, шутить он не умел. Видимо, он знал это за собой, а потому предпочитал отмолчаться там, где другие находили удобный повод для шутки. Это я заметила давно, но теперь, глядя другими глазами, обдумывала по-новому, и мысль о его старинности, как-то по-особенному подчеркнутой модной одеждой – джинсы, кожаная куртка, черная сумка через плечо, – отдавалась в моем сердце: в ней было что-то от моих любимых книг. Он прервал молчание: "Знаешь, я сразу узнал, твой голос, ты произносишь мое имя через "и" Димитрий – как-то по-старинному", – как будто прочел мои мысли. Я не призналась в совпадении.
Мы сидели за столиком. Митя молчал, словно не решался заговорить. "Я рад, что ты позвонила, знаешь, я уже отчаялся дождаться. Ту записку, – он помедлил и сморщился, как от стыда, – я написал потому, что хотел поговорить с тобой". – "О чем?" – я спросила ровно.
"Тогда я был пьян, не знаю, почему так случилось, отвратительно, обычно я... Но за столом ты сидела рядом, какое-то странное чувство, раньше никогда не было. Я смотрел, и сердце мое обливалось жалостью, – он снова сморщился. Этот твой Глеб – опасный человек, я вижу, ты тянешься сама, да и он подталкивает очень умело: к краю пропасти, и там – твоя погибель". "Погибель? – я откликнулась раздраженно. – Значит, ты считаешь церковь погибелью и от нее хочешь меня спасти?" Он кивнул, глядя мимо. "Но ты ведь сам, вспомни, тогда на Пасху, или станешь отпираться, но – я видела, я не могла ошибиться!" – словно наяву я видела его руку, тянущуюся к губам. "Если бы сам, на своей шкуре я не знал, как оно притягивает, разве с одного взгляда я разглядел бы это в тебе? Разница в том, что я – взрослее, ты живешь беззащитным сердцем, а значит, если случится, станешь очень легкой добычей".
"Во всем мире, куда ни погляди, люди ходят в церковь, неужели все, как один, погибнут?" Я спросила, и Митя замолчал, обдумывая. "Во-первых, они ходят в другую церковь, а во-вторых, даже если бы и в эту, мне нет никакого дела до них. Вот, – рот сломался и замер горестно, – это и есть – самое главное, то, ради чего я тогда написал, а сегодня – пришел".
Поверхность, лежавшая между нами, была серой и неровной. Я водила по ней пальцем и слушала странную и бессвязную речь о том, что с моим мужем они друзья, а потому, посягнув на меня, он совершил бы непростительный, смертный грех, грех предательства, который карается страшной казнью, – по Данте, он окажется в девятом круге, там, где предатели и соблазнители, что, с любой божеской и человеческой точки зрения, мы с ним – в разном положении, потому что мой грех, случись он с нами, конечно же не идет ни в какое сравнение с его грехом, мой – вполне простительная житейская, земная история, в которой не может быть и речи о посмертном мучительном воздаянии. "Я много думал о тебе, специально перечитал. Я думал о том, что, если когда-нибудь я бы на это решился, я поставил бы крест на вечной жизни, и вот теперь я просто не знаю, что же мне делать..." Теперь он принялся рассказывать о каком-то глубоком водоеме, в котором, окованное льдом, окажется его собственное тело. "Этот лед совершенно прозрачный, и ты, скользя по поверхности, в последний раз сможешь увидеть меня". Он говорил и говорил, не останавливаясь, делился со мною своими мучительными раздумьями, на которые, как получалось с его слов, он потратил месяцы, прошедшие с нашей последней встречи. Черная тоска, имени которой я еще не знала, подступала к моему сердцу. Сидя напротив, я больше не думала о бахромчатых книгах, для которых еще совсем недавно надеялась найти отца. Все глубже и глубже погружаясь в его слова, я видела другое дно, на котором, презрительно вырванная из стойки ворота, лежала – под слоем тепловатой, талой воды – испрошенная и полученная реверенда. Слова, проникавшие в мои уши, были другими, но это не меняло дела: снова я становилась камнем на дороге, который, устремляясь к жизни вечной, следовало обойти. Мое, никому не принадлежащее тело лежало камнем на всех дорогах. Ценою жизни вечной, – так я подумала и усмехнулась. Моя усмешка была неприятной и неуместной, напряженной и похожей на косящий глаз. Они загнали меня в этот угол, из которого, как зверь, перегрызающий собственную кость, я должна была вырваться, чтобы жить дальше.
Я оглянулась, словно кто-то, шедший за мной неотступно, уже приближался к дверям. Он высмотрел меня на Исаакиевской, в той телефонной будке, где я, малодушно шаря по карманам, ставила свою жизнь против случайных двух копеек. Дожидаясь вечера и этого разговора, он ходил по Невскому взад и вперед, и теперь, свернув на Загородный, считал дома, сверяясь со старинным адресом. Тут, неосторожно коснувшись, я вспомнила неглубокий порез, оставленный книжным ножом. Такие же ранки – господи, теперь я вспомнила, – оставлял острый фруктовый ножик, ходивший в неловких ручках девственной супруги Петепра. Ей, полюбившей смуглого управляющего, приснился сон, отворивший ее кровь. "Я позвонила сама, а значит, твой грех, если он случится, – на мне". Я сказала очень тихо, но он был близко, а значит, мог и должен был услышать. Боль пронзила мою правую руку – у самой кисти. Будь у него мои глаза, он увидел бы свежую культю, из которой полновесными каплями падала алая артериальная кровь.
Дмитрий остановился, словно только и ждал моих слов, словно эти слова, произнесенные вслух, меняли дело, словно, едва произнесенные, они становились тем, чем он мог заручиться. Теперь он заговорил о другом, сказал, что все это – его нервные фантазии, не стоит обращать внимания, он думал обо мне неотступно, ждал, что я позвоню, и дождался. Его взгляд становился теплым и благодарным – растапливал лед. Он смотрел на меня просительно, как будто снова просил прочитать. Поговорив еще, мы условились встретиться через два дня.
Оказавшись на улице, я сослалась на неотложное дело и распрощалась у метро. Проводив глазами его узкую спину – одно плечо немного выше другого, как у Ляльки, – я пошла по Владимирскому, все еще чувствуя руку. Она висела безвольно. Я думала о том, что, отворив, дала выход своей крови, и теперь она постепенно вытечет – капля за каплей. Еще я думала о том, что теперь меня легко поймать: красные капли, падающие на землю, укажут мой путь. Ближе к Невскому боль начала утихать. Я шла и шла не оглядываясь, совсем не думая о событиях прошедшего дня. Еще не свернув, я услышала тихий звук, похожий на те, что приходили ко мне нежданно. В зыбком мареве, привычно охватившем меня, я прислушалась, дожидаясь слов. Сейчас я должна была их услышать – странные и неясные, всегда вступающие издалека. Голос, ясно назвавший меня по имени, раздался близко – из-за плеча. Он прозвучал так явственно, что я оглянулась. В первом вечернем сумраке пустеющей улицы я не различила никого, кто мог бы меня окликнуть. Этот никто мог скрыться в любой подворотне. Повинуясь странному чувству, я пошла назад – как на зов. Под аркой ближайшей подворотни темнели мусорные баки. Возле них копошился кто-то, невидный с улицы. Не решаясь, я стояла в проеме арки. Спина, прикрывающая ближайший бак, напряглась. Вынув руки из груды, он поворотил ко мне отвратительно озабоченную рожу и, пробормотав несвязное, пригрозил стиснутым кулаком.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Думаете ли вы, что
Я пришел дать мир земле?
Нет, говорю вам, но разделение.
Ибо отныне пятеро
в одном доме станут разделяться,
трое против двух и двое против трех.
Евангелие от Луки (гл. 12, ст. 51-52)
Ненависть и просвещение
Если бы теперь нашелся кто-то, кто попросил бы меня рассказать нашу с Дмитрием историю попросту, я оказалась бы в трудном положении. Поразмыслив, я, наверное, нашла бы слова, способные воссоздать ее так, чтобы многие, жившие в одно время со мною, узнали в ней подробности своих собственных историй и даже сочли бы ее типической. Само по себе это не кажется мне невозможным. Правда, до тех пор, пока я двигалась в том направлении и время, разворачиваясь в прямой перспективе, раскрывало передо мною широкий горизонт надежд и желаний, эта история в моих глазах оставалась чем-то совершенно особенным. Каждая ее деталь – долгие поиски ключа от мастерской, где мы встречались один раз в неделю, когда Дмитрий брал отгул на полдня, аккуратно деля на половинки полученные свободные дни за работу на подшефной овощебазе; ритуальная бутылка вина, которое мы разливали в простые стаканы, его привычка, разговаривая со мною, складывать руки на коленях, – все эти детали, пережитые в том времени, казались важными и значащими, а значит, достойными особенных, личных, слов.
То время ушло. В новом же, в котором я двигаюсь в направлении обратном, именно это свойство – приватности и особости – замыкает мои губы, но вовсе не потому, что я не решаюсь нарушить деликатное молчание. Теперь, когда я смотрю на дело с другой стороны, время разворачивается передо мною в обратной перспективе, и я, со всеми личными, приватными словами, мало что значу под тем – исходящим из одной точки – взглядом, под которым жизнь каждого человека становится огромной и важной, но мелкие детали, из которых она, казалось бы, была соткана, теряют в важности, подобно тому, как случается с крупным рогатым скотом, перед смертью теряющим в весе. Это сравнение не должно никого смущать, поскольку дело здесь не в скоте, а в смерти, перед лицом которой нет рискованных сравнений.
Иногда я думаю о том, что во времени, текущем вспять, истинно значимой становится не особость, а подобие. Каким-то странным образом, словно замыкая круг, мое нынешнее время становится похожим на другое – когда, отвращенная сама от себя сияющими глазами отца Петра, я глядела на других, живущих и давно ушедших, надеясь изменить нашу с ними общую жизнь. Я хотела изгнать из нее то особое, что камнем лежало на пути. Иными словами, победить разделение.
Говоря по чести, есть и еще одна причина, по которой я избегаю пускаться в подробности: до сих пор я боюсь оказаться изобличенной. Изобличенной в том, что Дмитрий никогда не любил меня. Во времени, которое подчиняется прямой перспективе, для женщины нет большего позора. Пустись я в детали, и может случиться так, что по какой-то вполне простительной человеческой слабости, от которой мы не вполне свободны ни в одной из перспектив, я примусь доказывать обратное. Я начну подбирать и подтасовывать пустяки, чтобы, складывая их, как кусочки смальты, в одну мозаику, попытаться найти смягчающие позор обстоятельства, выложить их иным узором – перед лицом Судии, в руки которого, однажды опрометчиво возложив чужой грех на себя, я буду предана.
Об этом я говорю не ради красного словца, поскольку однажды уже предприняла такую попытку, которую теперь, по прошествии лет, не могу назвать иначе, как отчаянной. Об этой отчаянной попытке я, в меру оставленных мне сил, расскажу тогда, когда язык доведет меня до времени, в котором наши ночные беседы с отцом Глебом, по моей нерасчетливой и необоримой слабости, перешли зыбкую грань доверительных разговоров, чтобы превратиться в исповеди. Однако, поскольку, и перейдя за грань, мы, сидя напротив друг друга, никогда не теряли эту грань из виду, а балансировали на ней, как будто шли по тонкой жердочке, когда нога, оскользая то в одну, то в другую сторону, рано или поздно должна соскользнуть окончательно, – наши разговоры, и приобретя новую, односторонне исповедальную форму, не были окончательно свободны от привычной дружественной доверительности. Такое положение нельзя назвать иначе как двусмысленным, но именно в силу этой двусмысленности я и позволяла себе вдаваться в милые сердцу и памяти детали, надеясь, через голову моего земного, кухонного визави – в полном согласии с ролью посредника, которую он для себя выбирал, – обратиться к Тому, кто мог, по бесконечному и безначальному милосердию, склониться к моим уверениям в том, что Дмитрий любит меня. Конечно же, ничего путного из этого не вышло, вот почему теперь, когда мое время течет вспять, я и пускаюсь в окольные разговоры о кусочках смальты, как будто, раз и навсегда обжегшись на воде, опасливо дую на молоко. Но – довольно. Свою воду я ни в коем случае не променяю на молоко, потому что именно по воде, на которой я обожгла губы, писана загадочная история Митиного освобождения.
Теперь я хочу вернуться к задаче, ради решения которой, горделиво возмечтав соединить в себе верх, низ и землю, я и закрыла за собой дверь телефонной будки, чтобы, положившись на двухкопеечный случай, набрать сохраненный памятью номер. С этой точки зрения мой выбор оказался безупречным. Дмитрий был истинно приземленным человеком. Давая это определение, я ни в коем случае не вношу в него ни восхищения, ни порицания. Говоря о приземленности, я лишь пытаюсь определить его, в какой-то степени совершенно романтические, пристрастия, главнейшим из которых было страстное отношение к государству. Не было на свете силы, способной вызвать его бЛльшую ярость, чем, пусть даже мимолетное, упоминание об этом Молохе, честной работе на которого он отдал лучшие годы. Одаренный от природы глубоким аналитическим умом, он не обладал достаточной внутренней силой, чтобы – невзирая на внешние обстоятельства, а точнее, вопреки им – реализовать свой дар прирожденного ученого, утаивая от государства самой природой данные в полное и личное распоряжение ночные часы. Слабая конституция, полученная в наследство от рано умершего, болезненного отца, требовала долгого и полноценного сна, внутреннюю подготовку к которому он начинал, едва возвращался с работы: часов с шести Дмитрий начинал зевать и, устраиваясь в кресле, любил помечтать о том времени, когда, избавившись от необходимости ходить на службу (способ избавления виделся ему туманно), напишет, как он выражался, бестселлер.
За образец, а точнее говоря, прообраз или подобие бестселлера он, однажды получив от кого-то из друзей и прочитав в оригинале, раз и навсегда принял книгу Джорджа Оруэлла "1984". Во времена, когда до указанного на обложке рубежа оставалось еще несколько лет, он в разговорах с друзьями столь часто ссылался на эту книгу, что постепенно, может быть устав от собственного бездействия, привык думать о себе как о некоем новом Уинстоне, вынужденном до поры до времени служить в Министерстве правды. Его министерством был закрытый научно-исследовательский институт, в котором Дмитрий, никогда не стремившийся сделать такого рода карьеру, занимал малозначащую должность. Однако и занимая ее, он работал старательно и честно (гордая черта характера, доставшаяся от матери), как задолго до него работал Иаков – на Лавана. Эту аналогию можно продолжить: подобно тому, как между Иаковом и Лаваном существовал настоящий договор, впрочем, однажды нарушенный, Дмитрий держал в голове некое подобие негласного договора между ним и безжалостным государством, венцом которого должна была стать награда. Правда, в отличие от договора библейского, этой наградой были не любовные объятия, а нечто совершенно обратное: уклонение от объятий своенравно-ревнивого государства. Вера в справедливость нашептывала Дмитрию, что, если он станет честно трудиться и выполнять элементарные требования – то есть не высовываться, – наниматель рано или поздно вознаградит его за скромность и усердие: отпустит на волю. Мечта об отъезде была главенствующей, но поскольку ее осуществление откладывалось на годы, на передний план и вышла другая – о так никогда и не написанном бестселлере. Мечта о бестселлере была промежуточной, но практичной: если бы книга поспела к моменту отъезда, она решила бы многие материальные и социальные проблемы, могущие возникнуть у человека, вырвавшегося на Запад.
Будучи личностью талантливой, Дмитрий обладал развитым воображением, которое позволяло ему за каждым, пусть самым незначительным явлением видеть его истинный прообраз, вычитанный из заветной книги. С каким-то особым сладострастием он любил ввергать себя в условия, подобные тем, в которых вынуждены были жить герои Оруэлла: он курил дешевые папиросы и пил бочковый кофе в дешевых пирожковых, с истинным, то есть врожденным отвращением косясь на грязные следы, оставшиеся на пластмассовых, никем не мытых подносах. Он любил рассуждать о пролах, с отвращением называя их народом-богоносцем, и всегда подчеркивал, что не имеет к этому народу ровно никакого отношения, разве что по ошибке – то есть по крови. "С ними у меня нет ничего общего: если это – люди, значит, я – верблюд", – это полемическое утверждение было у него в ходу. Сказать по правде, действительность, окружавшая его, была достойной и реалистической декорацией пьесы, в которой он играл роль Уинстона. Для полного правдоподобия требовалось еще одно действующее лицо – Джулия, на роль которой, пройдя, судя по всему, сквозь череду невидимых миру неудач, Дмитрий и пригласил меня. В этом смысле именно я стала его последней надеждой.
Честности ради должна сказать, что, узнав его близко, я довольно скоро пришла к убеждению, что он – хороший, но не выдающийся актер. Кажется, это называется актер одной роли. Раз войдя в образ, он никогда из него не выбивался, не позволяя внешним обстоятельствам вмешиваться в ход пьесы. Если кто-то пытался высказать свои соображения, отличные от его собственных, Дмитрий улыбался тонко и недоверчиво, давая понять, что ему – виднее.
Главное, что привлекало его во мне, была моя абсолютная аморальность. Эта аморальность была особой. Сама по себе она не имела ничего общего с известной аморальностью Джулии, так восхищавшей книжного Уинстона, да и Дмитрий, воспитанный глубоко порядочной матерью, никогда – в этом вопросе никакой англичанин был ему не указ – не одобрял беспорядочных половых контактов. Больше того, от одной мысли о моей возможной измене он приходил в ярость. Его, вообще, коробила легкость нравов, принятая в университетском окружении, из которого, недолго думая, можно было легко выбрать куда более точный прототип главной героини. Некоторые университетские дамы могли дать мне в этом вопросе очков двадцать-тридцать вперед. Однако в другом, более важном для Дмитрия смысле большинство из них были высокоморальными: то есть, попросту говоря, разделяли его политические взгляды. Остальные относились к текущей деятельности государства, по меньшей мере, внимательно, а значит, с точки зрения Дмитрия, не имели ни малейшего шанса стать – даже по прошествии времени – достаточно аморальными. Мою же глухоту к внешнему миру он – с заботливо выношенной непреклонностью – раз и навсегда нарек аморальным двоемыслием.
Оставаясь человеком истинно, как-то по старинному порядочным (по крайней мере, слово "честь" не было для него пустым звуком), он с наслаждением выискивал во мне "низкие черты" и, обнаружив, искренно ими восхищался. Вообще говоря, это было нетрудно: в те годы я часто влипала в истории, не вполне идеологически безупречные, о чем и рассказывала простодушно. Так однажды я, немного опоздав, объяснила свою непунктуальность тем, что нас погнали мыть столовую, которую должна была посетить какая-то делегация, не то обкомовская, не то иностранная. Зло и безжалостно высказавшись насчет потемкинских деревень, он совершенно неожиданно пришел в мирное расположение и принялся расспрашивать, что я об этом думаю. Я призналась, что мне на все это наплевать, пусть любуются, жаль только потерянного времени, и Дмитрий, обличив меня в трусливом двоемыслии и восхищенно оглядев с ног до головы, произнес: "Надо же, ты принимаешь участие в их отвратительных играх и даже не понимаешь, как все это низко! А, впрочем, тебе это идет". Мужчинам же ничего подобного он не прощал. Стоило мне однажды упомянуть о том, что владыка Николай вынужден был – на одном из заседаний Совета церквей – говорить какие-то обтекаемые слова об участии СССР в афганских событиях (перед этой поездкой моего мужа специально вызывали куда-то на инструктаж), Дмитрий пришел в ярость, обличая церковь в прямом сотрудничестве с органами. Я, знавшая мнение другой стороны, попыталась высказаться примирительно, но он не пожелал и слушать.
"Неужто ты думаешь, что женевы, иерусалимы и советы церквей предоставляются за так? Такие подарочки дороги, за них платят твердой валютой, причем и та, и другая сторона. – Неприятно морщась, он стучал костяшками пальцев. – Интересно было бы послушать, что скажет твой доморощенный Нафта, спроси ты его о тайне исповеди: как, сколько раз в месяц, в каком потаенном кабинетике? Или они выезжают сами, как говорится, на объект?" – "Прекрати, мой голос сорвался, – ты не смеешь огульно и без доказательств!" "Доказательства? – Митя вскинулся мгновенно. – Десятки и сотни тех, кто им, по недомыслию, доверился. Кстати, если тебе, паче чаянья, придет в голову каяться, ты уж постарайся – по возможности – обойти меня стороной".
Впав в состояние сильнейшего возбуждения, Митя говорил о том, что основа религиозного начала – независимость и достоинство духовенства. Это необходимое условие. Остальное – мерзейшая из ересей, ведущая к окончательному расколу. "Эта свеча горит с обеих сторон, потому что даже в самом униженном народе случаются странные мутации: рождается и вырастает тончайший слой людей, имеющих понятие о достоинстве и чести. Им знаком подлинный вкус свободы, а значит, никогда они не станут чистосердечно повиноваться зависимому от государства духовенству. Но тут начинается игра природы, так сказать, непостижная уму: именно этот слой образует соль нации, а значит, его внутреннее отчуждение от такой церкви обрекает ее на маргинальность, то есть изолирует церковь от истинной национальной жизни, оставляя ей на откуп тех членов нации, чья интеллектуальная деятельность – в силу ее незрелости – не имеет влияния на духовное будущее страны". По-Митиному выходило, что такое положение – бомба замедленного действия, запущенный и тикающий механизм, куда более опасный для основ церковной жизни, нежели приступы бессмысленной и беспощадной ненависти пролов, сбрасывающих кресты с церковных куполов. Наслушавшись отвлеченных рассуждений, я требовала прямых доказательств, и Митя, спускаясь с интеллектуальных небес на землю, обличал церковь в том, что она работает рука об руку с государством, как, например, в случае с Глебом Якуниным и еще одним, я забыла трудную фамилию. Те подали письмо протеста против гонений на церковь, и патриарх запретил им служить, пока не покаются. "Теперь Якунин сидит, а церковь и в ус не дует. Пра-ав был товарищ Сталин: попы-коммунисты! Хочешь еще доказательств? Предоставлю, дай срок..."
Эта история испугала меня. Вернувшись домой, я спросила мужа, и, поморщившись, он ответил, что тогда Якунина защищали, во-вторых, он не сидит, а в-третьих, он обратился к западной общественности, в ООН и во Всемирный Совет церквей. "Ну и что?" – я удивилась искренне, не понимая, почему церковь в этом случае отказывает в защите. "Это не церковная, а правозащитная деятельность – Комитет защиты прав верующих, который Якунин создал", – муж объяснил раздраженно. "Разве некого и не от чего защищать?" – я парировала зло. "Есть, но не этими методами. Церкви необходимо идти на компромисс. Она вынуждена делать это, чтобы сохранить преемственность иерархии, действующие приходы, то есть саму организацию". Малопонятный довод не убедил меня. Вспоминая Митины яростные слова, я заговорила о зависимой церкви, о том, что, подчиняясь государству, она становится слабой и неполноценной. "Брось, – муж обрезал решительно, – влияние церкви крепнет год от года. Все, что ты говоришь, а точнее, повторяешь, давно опубликовано и известно. Словоблудием прикрываются те, кто не имеет понятия о глубокой и безусловной, подлинно детской вере. Французские штучки, блестящий, но весьма поверхностный ум", усмехнувшись, муж назвал имя француза-путешественника, давным-давно проехавшего по России. Я была слишком взволнована, чтобы запомнить.
Конечно, и обличая церковь в бездействии, Дмитрий никого не призывал на баррикады, тем более что и сам, работая на государство, то принимал участие в субботнике, то выступал на политчасе, который в его институте устраивали по четвергам; однако он знал особую грань, позволявшую ему во всех случаях сохранить честь. Этой гранью, за которой оставалось аморальное поведение, было осознание низости происходящего, в которое преступное государство вовлекало беззащитного перед его мощью человека. Осознать значило отмежеваться. Некоторая шаткость такой позиции, особенно ясно видная на фоне крепнущих диссидентских процессов, заставила его – в доверительных кухонных разговорах с друзьями – вставать на защиту "теории малых дел", которую он почерпнул, если не ошибаюсь, у Розанова.
Может быть, еще большее восхищение, чем моя политическая аморальность, вызывала у Дмитрия моя необразованность, которую он, талантливый и образованный филолог, считал аморальностью особого рода. В том, что я недостаточно начитана, он обличал меня постоянно, но, смягчаясь в своем царственном презрении, восхищался моим, как он говорил, прелестным невежеством. Сам-то он был энциклопедически образован. Его студенческая работа о "Золотом петушке", выполненная задолго до сложившихся традиций Тартуской школы, до сих пор кажется мне образцом высокого и зрелого анализа. На первых курсах университета ему прочили аспирантуру (его анкета была если не безупречной, то относительно подходящей), но что-то, о чем он не любил распространяться, называя соблазнами Старшего Брата, встало на пути, и по своей врожденной порядочности он был вынужден отказаться от научной и преподавательской карьеры, к которой имел больше чем склонность предназначение. После памятного рассказа о московских религиозных событиях, в которых Митя оказался косвенно замешанным, я, как мне казалось, понимала подоплеку и обходила и науку, и педагогику стороной. Однако и сохраняя деликатное молчание, я не могла не замечать того, что любые упоминания об институтских успехах (не прикладывая особых усилий, я училась на "отлично" и даже состояла в студенческом научном обществе) вызывали его нескрываемое раздражение. В таких случаях он не отказывал себе в удовольствии лишний раз восхититься моей аморальностью.
Я же читала и читала, подгоняемая с двух сторон: пассивной деятельностью мужа, привозившего в дом все новые и новые книги, и Митиным страстным высокомерием, с которым он, усмехаясь, называл все новые и новые имена. Время от времени его искренняя любовь к знаниям перевешивала, и, выходя из презрительной роли, он принимался растолковывать мне – с подлинной педагогической страстью – внутреннюю структуру того или иного великого романа: той же "Волшебной горы". В такие времена я чувствовала радость и восхищение и, забывая о его презрительном высокомерии, задавала прямые вопросы, на которые получала исчерпывающие и изысканные ответы. Одним из первых стал вопрос о Нафте, с которым он, едва владея собой в грубом кухонном разговоре, сравнил отца Глеба. Я спросила, и, не чинясь, Митя удостоил меня блестящим рассуждением о иезуите и чернокнижнике, схоластике и недомерке, который разговаривал сиповатым голосом, звучавшим как надтреснутая тарелка. С одобрением, редким в его устах, Митя упомянул и об антиподе, замечавшем в господине Нафте явные signum mortificationis – симптомы омертвения. Этот другой – гуманист и рыцарь просвещения – неизменно вступался за идеи разума и их законное влияние на юные, колеблющиеся умы. Распутывая сюжетные линии, Митя рассказывал о том, как силою обстоятельств обыкновенный мальчик Ганс Касторп поднялся туда, наверх и оказался меж двух огней, пылавших в – различных по самой своей природе – учительских устах. Эти уста склонялись к юным ушам с двух противоположных, но взаимодополняющих сторон. Мальчик, умевший слушать простым и обыденным сердцем, оставил с носом их обоих: так и не взял ничью сторону, Митя закончил, усмехаясь. В общем, аналитическая школа, которую я прошла в мастерской, позволила мне позже, когда я перечитала все, что он считал обязательным, с хрустом разгрызать самые трудные художественные композиции, получая одобрение из уст своего личного Сеттембрини.








