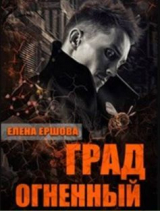
Текст книги "Град огненный (СИ)"
Автор книги: Елена Ершова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Ты знаешь не хуже меня, – продолжает Торий. – Это ложь, чтобы ослабить вас, обмануть, использовать.
– Разве не то же самое предлагаешь ты? – спрашиваю бесцветно.
– Я предлагаю свободу! – распаляется Торий. – А не участь цепного пса!
Переворачиваю ладонь. Бумага падает. Кружится, как осенний лист.
– Не вижу разницы, – упрямо говорю я. – Не верю. Верю своим глазам. Я был подопытным зверем. Я видел пленных. Я видел, как убивают васпов. Я видел головы на кольях, – догадка вмиг осеняет меня, и я поднимаю взгляд. – Тебя послал Шестой отдел? Ты – шпион?
Торий вздрагивает. Не его лице слишком явно проступает страх, потом возмущение.
– Нет! Вовсе нет…
Он отскакивает прежде, чем я успеваю замахнуться для удара. Хорошая реакция. Сразу видно: пошел на поправку. Тогда я хватаюсь за стек – и в ту же минуту слышу выстрелы.
"Атака!" – первое, что приходит на ум.
Но я ошибаюсь.
Спотыкаясь, ко мне бежит рядовой.
– Офицер Рон, – выдыхает он, – застрелен!
Застываю с поднятым стеком в руке. Выстрелы слышатся снова. Криков нет – в бою васпы молчаливы. Вместо этого издалека доносится топот бегущих ног – земля сотрясается, хрустко ломаются ветки. Забываю о Тории, разворачиваюсь и бегу тоже.
Я до сих пор думаю: на что они рассчитывали тогда? Горстка едва вышедших из тренировочных залов неофитов, бунт которых очень быстро подавили мои ребята и вовремя подоспевшие бойцы Расса. Я не запомнил имен бунтовщиков, не запомнил лиц. Зато хорошо запомнил Рона.
Стреляли на поражение. В голову. И я гляжу на него и вспоминаю солдата, чье лицо превратили в кровавую кашу при налете на Улей. Рон выглядит почти также. Как и у того безымянного васпы, мышцы еще сокращаются, руки дергаются, скребут по земле, колени сгибаются и разгибаются – нанизанная на булавку оса.
– Сделай что-нибудь… Сделай что-нибудь… – повторяю я Полу.
Словно он – Бог этого мира. Словно по щелчку пальцев можно повернуть время вспять, и тогда черная кровь втянется в раны, ткани зарубцуются, Рон поднимется, будто его потянули за нити, после чего, пятясь, приблизится ко мне и скажет: "Слышал? В Даре появился новый хозяин".
А потом, наверное, время помчится еще быстрее. Назад, мимо Нордара, мимо разграбленной деревни, мимо разгромленного приграничного Улья. Еще дальше – мимо лабораторий, Дербенда, Королевы, ученых, военных, налетов, пыток, крови, пота, слез, кокона…
…и вот в моей правой руке отцовский нож, а в левой – самодельный кораблик из коры. И маленькая девочка смотрит снизу вверх доверчивыми глазами и спрашивает:
– Все? Теперь все?
– Теперь все, – отвечает Пол. – Ничего не сделать.
И реальность возвращается. Сшибает с ног приливной волной. Я вижу, как судороги сводят тело Рона и упорствую:
– Он жив. Смотри.
– Нет, – говорит Пол. – Просто сокращение мышц. Рона хорошо отладили.
Он так и говорит – "отладили". Словно речь идет о механизме. И я продолжаю смотреть, как руки Рона беспорядочно шарят по земле, как тело выгибается дугой, словно пробует встать – но не может.
Рон не может умереть – потому что уже мертв. И я вдруг понимаю, что это и есть – самая страшная пытка для васпы.
* * *
Я сам расстреливаю бунтовщиков.
На показательную казнь нет времени. Желания тоже нет. Целюсь – но лиц не вижу. Только сгустки ненависти и тьмы.
– Проклятые преторианцы! – сипит один из зачинщиков. – Однажды вы все подох…
Спуск – и выстрел разносит голову.
Бунтовщики умирают быстрее, чем Рон: их еще не успели закалить в боях. А я повторяю про себя, что они – последние. Отныне я не дам умереть ни одному васпе. Ни одному. Никогда.
* * *
Той же ночью из лагеря сбегают двое. Мы их не ищем.
* * *
Третий день льет дождь. И третий день мы упрямо продираемся через тайгу по обозначенному маршруту. И не разговариваем друг с другом. Вообще.
Хуже злого голодного васпы – только мокрый злой голодный васпа. Пустота берет нас в оцепление, а дождь начисто смывает все краски, принося с собой апатию и тишину.
Васпы похожи на игрушечных солдатиков, у которых кончается завод: движения даются с трудом, глаза стекленеют, инстинкты притупляются, и мы только можем бездумно брести вперед. Наверное, если бы конечной точкой маршрута был не Помор, а одно из непроходимых западных болот – мы брели бы туда с не меньшим прилежанием.
На четвертый день я решаю слегка отклониться от маршрута и завернуть в одну из деревень, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива.
– Мы не выдержим битву, – первым нарушает наше негласное молчание Пол.
– Это очевидно, – отвечаю хмуро. – Мы слишком измучены. Нужен отдых. Но надо потерпеть. Отдохнем в Поморе.
– Не все хотят в Помор, – возражает Пол. – И не все хотят воевать. Многие хотят умереть. Вернуться в головной Улей и умереть там, где умерла Королева.
Мне нечего на это возразить. Я чувствую, что творится в лагере. И понимаю, что если надавить чуть сильнее – бойцы сломаются. Тогда не миновать второго бунта.
Поэтому я перешагиваю через гордость и иду к Торию.
Все это время он старается не отсвечивать, и ни разу не заикается по поводу бунта, расстрела или побега. Видимо, опасается, что я снова начну его пытать, расспрашивая информацию о Шестом отделе, ополчении или черт знает, о чем еще. Когда я подхожу – смотрит так, будто я пришел вырезать ему сердце.
– Нужна твоя помощь, – говорю я, и взгляд Тория из испуганного становится удивленным. – Люди создали васпов. Завели однажды наши сердца. И должны знать, как завести их снова. Сейчас мы гнием изнутри. Так сделай что-нибудь. Скажи им что-нибудь. Ты человек. Ты должен знать – что.
– А как насчет мирового господства? – осторожно интересуется он. – Что насчет армии монстров?
Его шпилька заставляет меня нахмуриться, но я говорю спокойно:
– Это сейчас не первостепенная задача. Нужно сохранить остатки армии. А потом – думать о создании новой.
– Многие уже не хотят воевать. Я ведь не могу их заставить.
– Знаю.
Торий размышляет, собирает лоб в морщины, и сразу становится похожим на того профессора, каким я впервые встретил его – несмотря на запущенность, неровную щетину и порезы на щеках: бриться ножом так и не научился.
– Покажи им личный пример, – наконец, выдает он. – Как всегда делали командиры. Только пример не убийства и насилия. Покажи, что с вами можно договориться мирно. Тогда не придется проливать ничью кровь, не придется терять бойцов. Успех войны заключается не только в умении планировать битвы, но и в умении вести переговоры.
– Снова белый флаг? – усмехаюсь. – Вспомни, чем это закончилось в прошлый раз.
– Просто не атакуйте, – предлагает он. – Уверен, если вы придете с добрыми намерениями, и люди вам отплатят добром.
Я не знаю, что он подразумевает под "добрыми намерениями" и не хочу узнавать. Но какая-то доля истины в его словах есть. Васпы действительно не раз договаривались с людьми и даже покровительствовали избранным деревням, охраняя их от разбойников и хищников в обмен за небольшую плату (вроде продовольствия, техники и женщин). Вести переговоры – моя прямая обязанность, как преторианца. Только теперь Торий предлагает изменить привычную схему. А я не возьму в толк – как.
Поэтому беру Тория с собой – на правах адъютанта. С нами идет комендант Расс и отряд из дюжины васпов.
Идем медленно, а дождь, как назло, усиливается. Мы промокаем насквозь. У Тория возобновляется кашель, и солдаты поглядывают на него с подозрением, но ничего не осмеливаются спрашивать, пока рядом я и Расс. Комендант угрюм и замкнут не меньше моего. Мне кажется, он тоже не верит в успех операции, но ослушаться приказа не смеет. Всем дана установка: не стрелять без моего сигнала. А я держу палец на крючке, и никакие увещевания Тория не заставят убрать маузер в кобуру.
– Стойте, – вдруг говорит Расс.
И сам замирает в стойке охотничьей собаки. Мы останавливаемся и прислушиваемся. Тайга шумит, хлещет ливень, смывая с ветвей отмершую хвою, потоком несет по краю оврага. И в шум дождя вплетаются голоса.
– …прямо сюда… главное, чтобы вода пошла… – доносятся чьи-то слова.
Ему отвечают неразборчиво. Но мы, пригибаясь, идем на звук. Лес редеет, черной раной проступает овраг, и уже можно различить, как на дне копошатся человеческие фигуры.
– Пустим по дну, – голос становится отчетливее, и я вижу, как один из мужиков энергично жестикулирует, доказывая что-то своему собеседнику. – То есть, всего и делов-то, что до оврага дорыть. А дальше она сама пойдет.
– Далековато копать будет, – отвечает другой. – Где столько рук взять?
– А ближе рыть – так что по старому руслу, что по новому – все одно деревню затопит, – возражает первый. – Смысла в такой работе ноль без палочки. Помнишь, что в прошлом году было-то? В курятник зайдешь – там наседки, что утки, плавают.
– Будем сюда отводить, – твердо говорит третий и вонзает лопату в землю. – Грунт хороший. Ничего. Не в этом году – так в следующем реку отведем.
– Твои бы слова да Богу… – начинает первый и тут-то замечает нас.
Я вскидываю маузер и говорю:
– Спокойно.
И к моему удивлению, люди действительно остаются спокойными. Несмотря на то, что в голову одному нацелен пистолет. Несмотря на то, что на откосе оврага стоит отряд из пятнадцати монстров.
– Вот так дела, Захар! – удивленно произносит тот, кто сомневался, не далеко ли копать. – Никак, навь к нам пожаловала?
Навь – так называют васпов в простонародье.
– Они, они. Кто ж еще? – улыбается мужик, и мне становится не по себе.
Инстинкт самосохранения одинаков для людей и васпов. Когда на твоем пути появляется монстр – ты убегаешь или обороняешься. Ты не встречаешь его спокойной улыбкой. А если встречаешь – значит, за пазухой у тебя припасено немало неприятных сюрпризов. Неприятных для монстра, разумеется. И я вспоминаю нанизанные на колья головы и думаю, что сунуться в безымянную деревеньку с "добрыми намерениями" было наихудшей из всех глупых идей Тория.
Тем временем тот, кого назвали Захаром, поворачивается к третьему мужику, занятому осмотром грунта.
– Эй, Бун! – окликает его. – Погляди, не твои ребята?
Тот опирается на лопату и поворачивается. А я холодею, словно дождь просачивается под кожу и медленно растекается по внутренностям. Так бывает, когда лицом к лицу сталкиваешься с монстром. Или в моем случае – с призраком прошлого.
– Мои, – довольно произносит призрак и обретает плоть и кровь.
Я узнаю его, долговязого рябого мужчину с взглядом матерого волка – моего бывшего командира, десять лет назад пропавшего на болотах.
И понимаю: он тоже узнает меня.
16 апреля (четверг)
День начинается с сюрприза: вместе с Виктором приходит Расс и притаскивает две коробки шоколадных конфет.
– Это тебе за примерное поведение, – говорит мне Торий и обращается к коменданту. – На улицу не пускать. Спиртное исключить. Вернусь через два часа, как договаривались.
– Так точно! – салютует Расс. – Все будет в лучшем виде.
Торий уходит, а Расс открывает конфеты и протягивает мне.
– Лопай, – говорит он. – Совместим приятное с полезным.
– Приятного мало, – уныло говорю я и указываю на капельницу. Но конфету все-таки беру. Расс смотрит с сочувствием.
– Не думал, что сорвешься, – говорит он. – Конечно, ты всегда был психом. Еще и эта передача… Морташ изрядная сволочь! Как он себя называл?
– Новый хозяин Дара.
Расс энергично кивает.
– Чую, он не избавился от желания посадить нас на цепь. Свободные васпы ему не нужны. Ему нужны солдаты. Зависимые от него так же, как мы зависели от Королевы. Тебя сознательно подводили к срыву. Хорошо, что сдержался и никого не убил.
– Хотел, – я опускаю голову. К запаху шоколада и лекарства примешивается еще один – едва ощутимый, с горячими медными нотками. Запах крови возвращается время от времени, и это пугает меня: я не хочу повторения кошмара, не хочу новых срывов.
– Каждый из нас время от времени хочет, – доносится спокойный голос коменданта.
Поднимаю взгляд:
– И ты тоже?
Расс пожимает плечами.
– Поначалу да. Теперь – нет, – он замолкает и жует конфету, думает, словно прислушивается к себе. Потом повторяет решительно: – Теперь точно нет. Знаешь, я ведь узнал ее имя.
– Кого?
– Скрипачки! – Расс улыбается, и хотя его улыбка все еще выглядит довольно жутко, я чувствую бьющую через край неподдельную радость. – Жанна! – гордо и с каким-то придыханием произносит он. – Красиво?
Я беру еще одну конфету и интересуюсь:
– Как решился?
– С помощью кота, – отвечает Расс и, видя мою растерянность, смеется. – Представляешь? Котенок ко мне прибился паршивенький какой-то. Черный. Пищит. Жрать хочет. А у меня откуда жрать? Только конфеты. Что делать с ним – не знаю. Сунул за пазуху. Думаю, я с разными людьми встречаюсь. Вдруг кто возьмет? Сижу на скамейке, курю. А тут и скрипачка. Я у нее спрашиваю: "Ввозьмете кота? Помрет ведь без хозяина". Она постояла, посмотрела. Давайте, говорит. И берет его. Прямо из моих рук! – Расс выдерживает театральную паузу, позволяя мне насладиться величием момента. Я слегка поднимаю брови, и он, удовлетворившись такой реакцией, продолжает: – Потом спрашивает: "А вас как зовут?" Я говорю: "Расс". Она: "Можно, я котенка так назову? Вы не обидитесь?" Называйте, говорю. Пожалуйста. Мне что? Я тоже в некотором роде зверь, – он усмехается, и глаза его в полумраке комнаты поблескивают хищным янтарем. – А она не уходит. Стоит, гладит котенка. А котенок уже и разомлел и заурчал. И я молчу. Любуюсь. Разве что не урчу. А она помолчала и говорит: "А меня Жанна зовут. Вот и познакомились". Потом развернулась да и пошла. А я стою, как к земле приколоченный. И внутри так жаром и распирает. Вот тут, – он прижимает ладонь к груди. – Домой не шел – летел. И тут же четыре стиха написал. Хочешь?
Расс смеется, и я смеюсь вместе с ним, но от стихов отказываюсь.
– Что ж теперь? – спрашиваю.
– Не знаю, – добродушно отзывается комендант. – Да какая разница? Неважно это. Зато у меня, как у настоящего поэта, муза есть. А ты слышал, что Хлоя Миллер планирует благотворительный вечер?
Я моментально скисаю и буркаю под нос:
– Нет, не слышал.
– А меня пригласили, – хвалится Расс, но тут же серьезнеет: – Зря ты отказываешься от сотрудничества с ней. На передаче она хорошо держалась.
Я хмурюсь: любое упоминание об этой женщине мне неприятно, и восторженность Расса раздражает еще больше. Пора вернуть его с небес на землю, и я спрашиваю:
– Ты знаешь, что она внучка Полича?
Расс выкатывает глаза. Только что рот не открывает.
– Того самого… – начинает он, и я киваю.
– Того.
Плечи Расса опускаются, взгляд тускнеет, а мне вдруг становится неловко за то, что я так неуклюже выбил опору у него из-под ног.
– Но это не значит, что она причастна к Си-Вай, – поспешно говорю я, словно оправдываюсь. – Самый очевидный вывод не всегда оказывается самым верным.
Расс заметно оживляется.
– Да-да! – соглашается он. – Хлоя Миллер не может быть причастна к Си-Вай. Даже если она внучка этого профессора… Что с того? Взять хотя бы нас самих. Если раскапывать прошлое, то… – он машет рукой и доедает оставшиеся в коробке конфеты.
А я думаю, что, в сущности, он прав. Может, я зря отказываюсь от ее помощи и зря нагрубил тогда, после передачи. Но встряхиваю головой и отгоняю несвоевременные мысли. Это пустяки. Это потерпит. Сейчас важно другое.
– Расс, я не знаю, сколько еще меня тут продержат, – говорю ему, – поэтому нужная твоя помощь. Ты ведь знаешь, где работал Пол.
Комендант кивает.
– Помню, рисовал тебе план, – и сразу схватывает мою мысль. – Хочешь, чтобы я сходил туда вместо тебя?
– Именно. Ничего спрашивать не нужно. Просто наблюдай. Кто приходит. Кто уходит. Какие машины пригоняют. Какие угоняют.
– Подозреваешь их? – хмурится Расс.
– Подозреваю всех, – сухо отвечаю ему. – Зато тебя они не заподозрят. Ты дворник. Прикинешься, что это теперь твой участок. Знай себе мети, а гляди в оба.
Расс соглашается, что это отличная мысль. И мне сразу становится спокойнее.
Я ведь обещал когда-то, что ни один васпа больше не умрет после Перехода?
Прости, Пол. Я не смог сдержать своего обещания. Зато смогу исправить ошибку и пролить свет на твою смерть.
* * *
Расс уходит, а я возвращаюсь к своим записям.
Ловлю себя на мысли, что это становится ритуалом: прожил, вспомнил, записал в тетрадь. Зато теперь, анализируя все происшедшее, могу сказать с уверенностью: Переход начался не с момента, когда последний васпа шагнул в двери реабилитационного центра, а именно тогда, в дождливый весенний день, в неприметной деревеньке Есенка, раскинувшейся на берегах одноименной речки. В час, когда я лицом к лицу встретился с командиром Буном.
Я помнил его таким же – поджарым и худым, как жердь. Он был необщителен и угрюм, зато никогда не наказывал попусту, чем снискал уважение подчиненных. Его исчезновение из Улья было овеяно слухами: поговаривали, что он пропал на болотах при странных обстоятельствах, может, сожрали болотницы, может, поддели на вилы люди.
А теперь он спокойно стоит передо мной, живой и здоровый. Правда, выглядит чуть старше. И залысин чуть больше. Зато угрюмости во взгляде – как не бывало.
– Так, так, – произносит он. – Теперь преторианец?
Мне хочется ответить, что как раз теперь-то нет ни претории, ни Королевы, поэтому теперь я – никто. Но слова не находят выхода. В горле – болото. Под ногами – болото. А дождь все льет и льет, как из дырявого корыта, и нет ему ни конца, ни края.
– Вот что, – говорит Бун. – Раз такое дело. Пожалуйте в дом. В тепле и сытости разговаривать легче. Согласны?
Он поворачивается к Захару. Мужик кивает:
– Коли озоровать не станут, так милости просим. Мы гостям завсегда рады.
– Пущай! – поддакивает его приятель. – Только так и не решили, куда речку отводить. Еще пару дней такого дождя – и не миновать потопа.
– А если мы поможем?
Голос раздается рядом со мной и принадлежит Торию. Он отпихивает меня плечом и выходит вперед. Тот еще помощник: исхудавший, бледный до синевы. Люди переглядываются, а Торий с воодушевлением продолжает:
– Нет, правда! У нас там, в лагере, – тычет пальцем за спину, – сотни две васпов! Устали жутко. Голодаем. Так если бы мы помогли…
– А что, – говорит Захар. – Коли поможете – то низкий вам поклон. И приютим, и накормим. Найдется на такую ораву-то?
– Надо найти, – твердо говорит Бун. – Не просто так пришли. Нужда привела.
– Оно и видно, – вздыхает Захар. – Вон, какие худющие, насквозь просвечивают. Уговор один только: не дурить. Мы хоть люди мирные, но на место и навь поставить сможем.
– Они поставят, – серьезно подтверждает Бун.
И не понятно – то ли шутит, то ли действительно есть у людей какой-то секрет, отчего им и монстры не страшны.
А мне остается только принять решение. И я его принимаю.
* * *
Дом у Буна большой. Не такой большой, как у Захара (тот оказывается старостой и живет в двухэтажном особняке), но после преторианской кельи кажется настоящим дворцом.
Мне выделяют комнату и чистую постель, на которую я валюсь бревном и – выключаюсь.
Именно это слово прекрасно характеризует мое состояние. Да и не только мое – всех васпов. И тех, кого расселили по домам (в основном, командный состав), и тех, кто встал вокруг деревни лагерем. Мы выключаемся, как отработанные механизмы: быстро и почти одновременно. Нас можно брать голыми руками. И если бы люди захотели перерезать нам глотки – мы бы не оказали сопротивления.
Когда я просыпаюсь, Бун стоит в дверях, прислонившись плечом к косяку, и крутит мой стек. Я рывком поднимаюсь с постели, и слежу, как Бун выполняет кистевое вращение – неуклюже, будто вспоминает давно позабытые приемы.
– Смерть… где твое жало? – мрачно говорит он.
Описывает над головой дугу, перебрасывает стек из одной руки в другую – хват у него неправильный, непривычный и мне кажется это странным. Но Бун уже убирает лезвие и протягивает стек рукоятью вперед. Констатирует с грустью:
– Отвык. Старею. Убирай теперь. От греха подальше.
Я тянусь к оружию слишком поспешно, чем вызываю у него ухмылку, но успокаиваюсь только тогда, когда прорезиненная рукоять ложится в ладонь. И вздыхаю с облегчением. Стек – он как маршальский жезл. Как погоны преторианца и поцелуй Королевы. Его нельзя получить просто так – только пролив чужую и собственную кровь, только впустив в себя смерть и тьму. И, наряду с преторианской формой, это – единственная личная вещь, которую мне позволено иметь.
Формы, кстати, тоже нет. Я откидываю одеяло и понимаю, что лежу в постели совершенно голый.
– Где? – только и могу хрипло спросить я.
А Бун не успевает ответить: в комнату впархивает миниатюрная девчушка лет пятнадцати и громким шепотом сообщает с порога:
– Тятенька, баня истопилась…
И видит меня. Глаза становятся круглыми, как чайные блюдца. На щеках расцветает румянец.
– Эх, Василинка! – досадливо прикрикивает на нее Бун. – Не видишь, гость проснулся? Ну-ка, брысь отсюда!
Она ойкает, прикрывает рот ладошкой и вылетает из комнаты. А Бун кричит вслед:
– Матери скажи! Пусть форму выгладит, если высохла!
Потом перехватывает мой взгляд.
– Даже не думай, – говорит он и в голосе появляются металлические нотки.
Я нервно облизываю губы. Перед глазами еще маячит ладная девичья фигура – совсем тоненькая, но уже округлая в нужных местах. Ноздри щекочет волнующий молочный запах.
– Кто… она? – спрашиваю.
Бун сутулит плечи, пальцами прореживает рыжеватую шевелюру – пальцы у него цепкие, длинные, узловатые. И есть в них что-то необычное, ненормальное. Я тогда еще не понимаю, что…
– Иди мыться, – устало говорит Бун. – Потом ждем на обед.
Я не перечу. Оборачиваюсь одеялом и иду на двор, но чувствую, как на плечо ложится тяжелая ладонь.
– Хоть ногтем тронешь… голову оторву, – жестко говорит Бун, и в его глазах загорается холодный огонь. – Дочка это моя, – понизив голос, продолжает он. – Старшая. И другим передай… берите, что хотите. Ешьте, сколько хотите. Но хоть одну бабу обидите… пожалеете. Это понятно?
Он еще какое-то время держит меня, буравит тяжелым взглядом, будто хочет проникнуть в сокровенные мысли.
– Не волнуйся, – спокойно отвечаю ему. – Васпы умеют благодарить за добро. Не так ли?
– Так, – глухо говорит он и убирает руку, тычет согнутым пальцем в сторону бани. – Иди.
И захлопывает за мной дверь парилки. Только тогда я понимаю, что неправильно с его руками: на левой не хватает двух пальцев, на правой – одного.
* * *
Эта девочка не выходит у меня из головы. Она похожа на моих русалок, хотя и не блондинка. Но я вспоминаю, как вились рыжие завитки над розовым ухом, как облегала юбка ее крепкие бедра. Знаю, какими острыми будут ее груди, если с них сдернуть сорочку. Как сладко она будет извиваться, когда россыпь веснушек перечеркнет лезвие моего стека и на молочно-белой коже проступят контрастные багряные капли…
Тогда я поддаюсь искушению и удовлетворяю себя – столь же быстро, как и смываю следы своего греха. Но когда я выхожу, облаченный в выстиранный и выглаженный, с иголочки, мундир, Бун смотрит на меня исподлобья, с нескрываемым презрением. Пусть. Это лучшее, что я могу сделать для бедной девочки: не важно, сколько тьмы и грязи будет в моей голове. Важно, что я не нарушу данное Буну слово.
Стол накрывает женщина, назвавшаяся Евдокией. Она слегка полновата, но еще молода и посматривает на меня с волнением.
– Вот рассольник, вот котлетки, а вот пироги сладкие, только из печи, – говорит она, и ее белые руки порхают над скатертью, выставляя блюда. – Отведайте, пан, что Бог послал.
Бун ловит ее под локоть трехпалой рукой:
– Не суетись, Дона. Отдохни. Мы уж сами.
Женщина улыбается, приглаживает волосы ладонью.
– Да что ж, разве мне для хороших людей жалко? Не каждый день сослуживца встречаешь, – гладит Буна по плечу. – Не волнуйся, мешать я вам не буду. Только на бражку не налегайте.
Бун смеется, а женщина наклоняется и целует его в лоб, после чего уходит.
– Жена это моя, – отвечает Бун на мой невысказанный вопрос. – Девятый год живем душа в душу.
– А дочь? – спрашиваю.
– Василина? – он недобро щурится, разглядывает меня – видно, понимает, что зацепила девчонка. Но не пойман – не вор, поэтому продолжает: – Неродная она. Падчерица.
И все встает на свои места. Не могут васпы иметь детей. Мы мертвы, а значит стерильны.
– Трое их у меня, – поясняет Бун. – Старшей, Василине, пятнадцать. Средней, Анфисе, двенадцать. А младшей, Вареньке, девять. Взял я Евдокию вдовой. Вернее, она за меня пошла. Спасение она мое, – он ставит на стол стеклянный графин, разливает по стаканам мутноватую жидкость. – Давай за встречу.
Сам пьет неторопливо, морщится. Я пью следом – махом. Горло обкладывает горечью, зато внутри разливается приятное тепло.
– Эх! Не то, что в Улье, – говорит Бун. – Ты ешь.
Едим. После долгих голодных дней кажется, что ничего вкуснее я не пробовал за всю свою жизнь. В гостиной пахнет уютом, ровно барабанит по карнизу дождь. И воспоминания мутью поднимаются со дна – не о жизни в Улье. О другой, почти забытой. Где осталась женщина с ласковыми руками. Где навсегда трехлетней застыла у ручья девочка с косичками. Где за удушливым дымом пропал отец…
Накатывает тоска – нелогичное и крайне неприятное чувство. Я отвожу взгляд, ерошу ладонью волосы и замечаю: повязки на мне нет. Немудрено, что женщина смотрела с опаской.
– Не думал, что свидимся, – тем временем, говорит Бун. – Да и не узнал тебя. В последний раз еще с двумя глазами был.
Я напрягаюсь. Пальцы небрежно цепляют рукоять стека, а Бун смеется.
– Ну-ну! – говорит он примирительно. – И не таких бабы любят. На вот. Обнови гардероб, – он копошится в кармане, протягивает черный кожаный кругляш на новеньком ремешке. – Командир должен блистать!
Я неспешно натягиваю повязку, отвечаю спокойно:
– Совет хорош. Только сам ему не следуешь.
Бун щурится недобро, откидывается на спинку стула.
– А дерзишь по-прежнему, – насмешливо произносит он. – В остальном, как был дохляк, так и остался. Одно радует: сержантом не стал. Неофитов учить – последнее дело. Грязное. Вижу, не доломал тебя Харт?
– Я его доломал, – отвечаю, старательно игнорируя слово "дохляк", и недвусмысленно провожу ногтем по горлу.
– И безрассудный, – довольно комментирует Бун. – Оно и видно. Мало кто из наших к людям суется. Особенно, когда по всему Дару облава.
– Ты сунулся.
Бун хмыкает, разливает снова и наблюдает, как прозрачная жидкость плещется в стакане.
– И я бы не сунулся. Если б не ты…
Вздохнув, залпом опрокидывает стакан. Колючий взгляд становится мягче, замасливается.
– Удивлен? – широко улыбается Бун. – Я тоже. Сколько солдат через меня проходило. Одинаковые. Пустые. Изломанные. И тебя разглядел не сразу. Не заметил, если б не Харт. А он любил ломать непокорных, – замолкает, будто задумавшись о чем-то, потом толкает мне стакан. – Ты пей!
Я машинально пью, но на этот раз горечи не чувствую. Имя наставника эхом звучит в ушах, и вслед за ощущением уюта и тепла приходит холод. Будто не капли стучат по железному карнизу, а лязгают подвешенные к потолку цепи.
– Когда Харт назвал тебя своим преемником, – продолжает Бун, – это рассмешило всю преторию. Ты доставал Харту до плеча. В мясницкий фартук мог завернуться дважды. И выглядел под стать прочим. Изломанным и пустым. А потом офицер Рихт сказал: "Плохая шутка, сержант. Убрать этого заморыша. На замену срок – неделя". Тогда ты нарушил Устав и поднял глаза. И я первым перестал смеяться. В твоем взгляде не было пустоты или обреченности. Ты глянул так, будто решил запомнить обидчика. И при случае – убить.
В этом Бун прав: я действительно убил Рихта три года назад, в сражении под Выгжелом. Он прав еще и в том, что из тренажерного зала я вышел изломанным, но не пустым.
Все потому, что из рядовых васпов воспитывали идеальных солдат, покорных чужой воле. Они исполняли приказы четко, а убивали быстро. И не испытывали ни эмоций, ни чувств. Другое дело – сержанты.
Не знаю, почему Харт выбрал меня. Возможно, потому, что я сам кинулся к васпам, спасая младшую сестру. Потому, что оказал сопротивление при вербовке. Сержанты обладают хорошим чутьем. И Харт сразу увидел во мне потенциал наставника и убийцы.
"Чтобы хорошо делать свою работу, надо любить свою работу", – всегда повторял он. И оставил мне единственное, что позволено Уставом – наслаждаться насилием.
Когда я прошел экзамен на зрелость и совершил первое убийство, Харт приступил к подготовке будущего сержанта. Свой день я начинал на дыбе: Харт методично и планомерно истязал мое тело, настраивая его, как механизм. Он демонстрировал наиболее восприимчивые к боли точки и никогда не уставал. Я помню, как возбужденно сверкали его выцветшие льдистые глаза. Помню хриплый голос, заботливо подсказывающий, какая кость будет сломана и какая жила разрезана следующей. А я не двигался и терпел. Слушал, молчал и запоминал. А если терял сознание – Харт приводил меня в чувство, обливая водой, и все повторялось сначала. Потом мне давалось три часа на восстановление, еду и сон – вполне щадящий режим, учитывая, что во время начального обучения не позволялось и этого. Раны сшивались, на сломанные кости накладывались лангетки: я должен был всегда оставаться в форме. После чего переодевался в кожаный фартук и превращался в палача. Тренировался на шудрах – непереродившихся васпах, не обладающих разумом и еще более уродливых, чем мы сами. Я делал с ними то, чему учил меня Харт. И если не получалось с первого раза – вечером меня ждал повторный урок, и я оставался на дыбе до утра. А если получалось – Харт хвалил меня, приносил ужин и сладости, и разрешал отдыхать. Я спал тут же, на топчане, застелив его дерюгой. И не всегда хватало сил убрать мертвые тела и отмыть пыточную. Но к тому времени я уже привык к запаху крови и смерти и научился любить его так же, как любил Харт.
Вот только с людьми оказалось сложнее: своего первого неофита я убил через месяц после начала обучения. Легкая смерть – милость.
– Я понес заслуженное наказание, – говорю вслух, и стираю со лба пот, а из памяти – прошлое.
– Харт тоже, – скалится Бун. – Он поступил наперекор претории. И ошибся. А я получил в свое командование недоученного тренера. Тебя.
Бун смотрит на меня со значением, а я не знаю, что ему ответить. Сержантов действительно не жаловали ни солдаты, ни офицеры. Слишком часто у тренеров слетали тормоза. А мысль о том, что кто-то добровольно из года в год занимался истязанием детей, выглядела грязной даже по меркам васпов. Перейдя в преторию, я не избавился от косых взглядов и насмешек за спиной, и ко мне надолго приклеились прозвища "недоучка" и "выкормыш Харта".
– Я следил за тобой, – продолжает Бун. – Надо отдать должное, вел ты себя тихо. Но стоило мне расслабиться, как грянул гром. Я имею в виду, историю с твоей подопечной.








