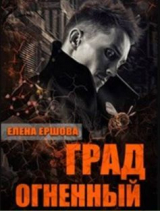
Текст книги "Град огненный (СИ)"
Автор книги: Елена Ершова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Ершова Елена
Легенды Сумеречной Эпохи 3
Град огненный
ЧАСТЬ 1
Офицер четвертого Улья мертв.
Он повесился на дверной ручке, на собственной портупее.
Уже больше года как нет ни званий, ни Ульев. Но между собой мы все равно называем Пола офицером – от старых привычек тяжело избавляться. Я видел его на прошлой неделе. Мы не разговаривали, но в знак узнавания Пол коротко мне кивнул.
Теперь его голова повернута под неестественным углом. Налитые кровью глаза смотрят с упреком, будто спрашивают: "Зачем?". И я повторяю про себя его посмертный вопрос. Но не спрашиваю, зачем так позорно и добровольно ушел из жизни этот нестарый и крепкий вояка, некогда командовавший лучшим роем Улья.
Спрашиваю в который раз: для чего я заварил всю эту кашу?
И не нахожу ответа.
* * *
Вести дневник – задание терапевта.
Одна из тех глупостей, что навязывали нам в реабилитационном центре.
Мы не так уж общительны сами по себе. А длительная изоляция и специфический образ жизни не способствовали развитию коммуникативных навыков – все это не мои слова. Ставь диагноз я, вместо "длительной изоляции" значилось бы одно слово "затворничество", а вместо "специфический образ жизни" – "насилие и мародерство".
Но врачебная этика щадит наши чувства, что само по себе вызывает у меня смех (щадить чувства нелюдей? Ха!), хотя добрая часть населения все еще называет нас "выродками" и "насекомыми". Что не так уж далеко от истины.
Мы называем себя по-прежнему "васпы".
Кажется, я впервые услышал это страшное слово еще в детстве…
"Кажется" – потому что не помню ничего из того, что было раньше, в моей человеческой жизни. И это одна из причин, почему люди все еще ненавидят нас. Память – фундамент любого народа. Мы же лишены ее, оторваны от своих корней. Навязанная нам чужая жизнь – фальшива. Но у кого из нас был выбор?
"Не будешь слушаться – придут злые васпы и утащат тебя в свой Улей", – так говорила женщина, лица которой я теперь не вспомню. Но я помню запах ее рук – запах хлеба и молока, и помню, как она укрывала меня пуховым одеялом – белым, как снег на кедровых лапах. А снаружи текла морозная ночь, и было страшно – вдруг они уже стоят за окном? Безликие, серые, пахнущие медью и приторной сладостью.
Они приходят с севера, из зараженного мертвого Дара и приносят с собой беду. За ними тянется след из сожженных деревень и поломанных жизней, и одних они обрекают на смерть, других же – на жалкое существование, которое похуже смерти.
"Васпы забирают непослушных мальчишек, и прячут в кокон, и травят ядом, и стирают память, чтобы сделать подобными себе…"
Не могу сказать, насколько непослушным был я – но женщина с ласковыми руками оказалась права: именно так я стал монстром. И я позабыл о своей прошлой жизни и принял новую, полную страха и боли, и нес с собой насилие и смерть, и забирал новых неофитов – и так по кругу, на протяжении многих и многих лет… вот что скрывалось под корректной формулировкой о "специфическом образе жизни". Не потому ли, когда представился случай, я захотел изменить это?
Теперь один из моих соратников мертв, и я чувствую себя ответственным за его смерть. И если верить докторам, лучший способ привести в порядок мысли – это поделиться ими с кем-то или записать на бумагу. Как я уже сказал – общение не мой конек, а вот пространными рапортами меня не испугаешь. Итак.
Сегодня – второе апреля, среда.
Мое имя – Ян Вереск. Мне тридцать три года. И я – васпа.
2 апреля, среда
"Вереск" – не моя настоящая фамилия. Это прописали в документах, которые я получил при выходе из реабилитационного центра. Но Ян – мое настоящее имя. Так называли меня ребенком, так называли меня и в Улье.
Имя – одна из тех вещей, которое остается как напоминание о временах, когда мы еще были людьми. Каждый васпа дорожит именем, а теперь придумывает себе и второе, под которым будет известен в новой жизни. Так же, как придумывает себе и возраст.
Васпы забирали своих неофитов в раннем детстве. Я могу лишь предположить, что на момент инициации мне было около десяти лет. Потом я какое-то время проспал в коконе, а когда вылупился – началась новая жизнь и новый отсчет. В качестве васпы я прожил двадцать три зимы, прибавить к этому десять лет человеческой жизни – в общей сумме получается тридцать три.
Каждый из нас пользуется этой нехитрой арифметикой, чтобы адаптироваться в новом обществе. И это – такой пустяк по сравнению со всем остальным.
Раньше я не задумывался, насколько это вообще будет тяжело – начать новую жизнь. Любое начинание – всегда пугающе. Любая перемена – болезненна. В конце концов, каждый из нас прошел Дарскую школу, а это значит – трудностями и лишениями нас не испугать. Но только отчего сломался один из самых стойких и сильных? Я не могу поверить, что пройдя через все это, Пол сдался и закончил свою жизнь столь отвратительным и наиболее позорным для васпы способом.
– Самоубийство, – произносит лейтенант полиции, и я вижу, с какой брезгливостью медэксперт упаковывает тело в черный пластиковый мешок. Люди еще не до конца избавились от негативного отношения к васпам (а некоторые и не собираются избавляться) – а все потому, что генетически мы, скорее, насекомые, нежели млекопитающие.
"Wasp" – это значит "оса".
А к представителям иного вида всегда будут относиться с опаской, не так ли?
Я отхожу в сторону, в тень, освобождаю дорогу полицейским. Вынужденные иметь дело с мертвым васпой, они вряд ли захотят столкнуться еще и с васпой живым. Медэксперты не удостаивают меня и взглядом, однако лейтенант косится в сторону и морщит лоб, будто вспоминая, где видел меня раньше.
Я спокойно выдерживаю его взгляд. Возможно, видел. В столице я не впервые: три года назад я уже пытался изменить что-то в своей жизни (и, возможно, в жизни всех васпов). Но тот путь оказался ложным. Теперь у всех нас появился второй шанс. И хотя я не единственный, кто принял новые идеалы и боролся за них, все остальные васпы по-прежнему считают меня своим лидером. Это накладывает на меня определенные обязательства – вроде опознания тела. И я понимаю, что это своеобразное уважение к васпам, как к самостоятельной расе. И должен быть благодарен за это.
Но было бы куда лучше, если бы лейтенант спросил мое мнение.
Если бы он его спросил – я бы с уверенностью ответил, что не верю в самоубийство Пола. Как никогда не поверю ни в одно самоубийство васпы, потому что такого никогда не случалось в прошлом и не произойдет в будущем. Потому что одного взгляда на Пола хватило, чтобы понять – кто-то убил его.
3 апреля, четверг
…я чувствую запах – его не спутаешь ни с чем. Запах копоти и свежей крови. Он забивает рецепторы, им пропитался воздух и кожа на лице. В жарком мареве фигура женщины кажется нечеткой, как карандашный набросок.
– Господин, пощадите! Не оставляйте ребенка без матери!
Женщина ползет на животе, ломает ногти о дощатый пол. И я вижу себя со стороны – неподвижную сгорбленную фигуру, подсвеченную сполохами пожара. Лицо безэмоционально и мертво, как треснувшая глиняная маска – лицо чудовища, лишь отдаленно напоминающего человека.
– Где… неофит? – онемевший от долгого молчания язык с трудом находит и выталкивает нужное слово.
Странно, что этот глухой и хриплый голос тоже принадлежит мне.
Женщина плачет, целует разбитым ртом сапоги. От нее пахнет кровью и страхом. На тонкой белой шее пульсирует жилка: поддень ножом и на руки выплеснется целый фонтан горячей и яркой крови – хороший подарок для того, кто вынужден существовать в холодном и сером мире.
Мое сердце бьется в такт ее причитаниям. Это пьянит, будоражит давно остывшую кровь. Я чувствую, как в груди разливается тепло, и сладко ноет внизу живота, а голова плывет, наполняется туманом. Сладко. Так сладко и горячо.
Я достаю нож – лезвие заточено и надраено до блеска. При виде его женщина начинает выть, а я улыбаюсь – бесстрастно и холодно, так умеют улыбаться только васпы.
Крики разрастаются, вплетаются в гул огня и рев вертолетных лопастей, затем сливаются в один дребезжащий нарастающий звук…
* * *
Будильник разрывается до тех пор, пока я не хлопаю по нему ладонью, погружая квартиру в привычную немоту и тьму. На часах – 6:30, и хотя световой день стал увеличиваться, в это время солнце еще скрыто тяжелыми облаками, и за окном царят сумерки.
Я поднимаюсь быстро – сказывается военное прошлое. Но в ушах еще стоит надрывный плач, а пальцы мелко подрагивают, будто все еще сжимают рукоять ножа. Поэтому я бреду в ванную, шаркая по дощатому полу, как дряхлый старик. Облезшая краска тянется следом, как красноватые струпья. И не задумываюсь над тем, вес ли собственного тела пригибает меня к земле или тяжесть нажитых грехов.
В ванной я достаю из шкафчика стеклянный пузырек и вытряхиваю на ладонь капсулы: утром – белая и голубая, вечером – белая и красная.
Каждый из нас обязан поддерживать себя медикаментозно, это одно из условий сосуществования васпов и людей. Но когда тебе каждую ночь снятся кошмары – таблетки не кажутся такой уж тяжелой повинностью. Я хочу сказать – иногда они действительно помогают. По крайней мере, меня больше не преследует запах копоти и крови, а мир обретает прежнюю четкость.
Запив таблетки водой из-под крана, я замираю, подставив голову под ледяную струю. Другой и нет: горячую воду месяц как отключили за неуплату (сюрприз, но в мире людей не меньше неприятностей, чем в мире васпов, и необходимость платить за коммунальные услуги – одна из них). В этом есть свои плюсы: иногда мне не хватает старой доброй закалки, чтобы прочистить мозг и снова обрести контроль – хотя бы над собственными снами.
Я думаю над этим, пока бреюсь старой электрической бритвой – быстро и не очень аккуратно. Не люблю слишком долго разглядывать себя в зеркале – отсутствие глаза и шрамы во всю щеку не придают мне симпатии, безотносительно того, скрыты они повязкой или нет и насколько хорошо я выбрит. И это еще одна причина, по которой люди стараются обходить меня стороной.
Не говоря уже о женщинах…
Я думаю, а не была ли смерть Пола связана с женщиной? Жизнь в новом для нас мире порой подбрасывает такие проблемы, к которым мы оказались попросту не готовы. И одна из них – отношения с женщинами. За один год не компенсируешь всего, что упущено более чем за двадцать лет. Молодежи в этом плане придется легче, а вот у старших почти нет надежды. Но чтобы Дарский офицер вешался из-за бабы? Чушь! Ты ведь никогда не пасовал перед трудностями, Пол. Так почему же сдался ты?
* * *
Я выхожу из дома за полтора часа до начала рабочей смены.
Это может показаться забавным, но у меня действительно есть работа. Скажи мне кто-нибудь об этом года три назад – и я бы вырвал наглецу язык. Но факты остаются фактами: теперь все васпы – добропорядочные и законопослушные граждане. Правда, в отличие от прочих, являющихся людьми, в наших документах стоит дополнительный желтый штамп – разрешение жить и трудиться в обществе. Это – билет в новую, мирную жизнь. Но также и напоминание, что за малейшую провинность меня ожидает смертный приговор без суда и следствия. Бешеную собаку надо держать в наморднике, не так ли?
Весна в этом году слишком ранняя: снег сошел в конце марта, а столбик термометра уже к полудню достигает достаточно высокой отметки. Не слишком комфортно для меня: за двадцать с лишним лет можно отвыкнуть от тепла и света. Но утром еще стоят заморозки, поэтому свой путь от дома до работы я расцениваю, как утреннюю пробежку.
Не сказать, что я такой большой любитель пеших прогулок или противник общественного транспорта. Отнюдь. Просто последний раз, когда я пробовал проехать в автобусе, добрая половина пассажиров инстинктивно оказалась в противоположном от меня конце салона. А мамашам пришлось успокаивать плачущих детей. Помню, какая-то смелая девчонка дернула маму за ухо и, тыкая в меня пальцем, громким шепотом спросила: "Этот дядя – Бабай, да?"
Радует, что даже в стремительно меняющемся мире некоторые вещи остаются неизменными.
Я привычно срезаю путь через сквер с маленьким и аккуратным фонтаном. Вечером здесь собираются молодые парочки, но утром – ни души. Если остановиться здесь на несколько минут и закрыть глаза, то может показаться, что это не пресная вода журчит, перекатываясь по гранитным плитам, а шумит прибой. Тогда земля под ногами становится зыбкой, как корабельная палуба. И глубоко-глубоко, там, где цвет воды становится синее и насыщеннее, медленно проплывают тени морских гигантов – китов.
Я видел их только на картинках в книге. Для меня они – существа из народных мифов, вроде тех, о которых пишет Торий. Но некоторые мифы становятся реальностью. Я знаю, о чем говорю: долгое время я сам был мифом.
Я слышу шаги – слишком тяжелые, чтобы принадлежать человеку. Оборачиваюсь.
Бывший комендант северного приграничного Улья останавливается на расстоянии трех шагов и сдержанно желает мне доброго утра.
– И тебе, Расс, – отвечаю я.
Мы не пожимаем друг другу руки: не принято.
Вижу, как его лицо кривится и подергивается – огромными усилиями ему приходится сдерживать внутреннее волнение. Серповидный шрам наискось пересекает его лицо и губы, отчего кажется, что Расс криво усмехается. "Поцелуй Королевы" – так он всегда называл свой изъян и когда-то очень чванился им. Но теперь Королева Дара – наша мать и богиня – мертва. И мы осиротели. И радость от первых успехов сменилась депрессией и сомнением.
– Найди их, Ян, – глухо произносит Расс.
Он наклоняется, опираясь о рукоять метлы, словно не хочет, чтобы наш разговор услышал кто-то посторонний, и заканчивает:
– Тех, кто убил Пола.
Я не питаю иллюзий: васпы в некотором роде связаны между собой и смерть одного из нас уже не является тайной.
– Полиция констатировала самоубийство, – говорю я и слежу за его реакцией.
На лбу бывшего коменданта вздуваются вены, глаза сверкают из-под надвинутых бровей. И я вспоминаю, как он шел по выжженной земле в ореоле удушливого дыма. И от него тоже пахло кровью и смертью. Он сам был смерть. Теперь на нем надет оранжевый жилет – жалкая калька его офицерского кителя. Лишь взгляд остался прежним – взгляд хищника.
– Его убили, – приглушенно рычит Расс. – Те мрази из Си-Вай.
Я думал об этом.
Си-Вай или как они называют себя "Contra-wasp" – движение, выступающее против ассимиляции васпов в обществе людей. Их цель – доказать, что мы убийцы и выродки, достойные если не уничтожения, то по крайней мере полной изоляции. Именно они продвигают законы, требующие возобновить опыты над "генетическим мусором" – так они называют нас. И, положа руку на сердце, их высказывания зачастую получают в обществе хорошую поддержку.
– Ты не думаешь, что он сделал это сам? – задаю я давно мучающий меня вопрос.
– Нет, – упрямо отвечает Расс. – Самоубийство – позор для Дарского воина.
– Возможно, он не был так уж счастлив…
Я произношу это тихо, себе под нос. Но Расс все равно слышит и замолкает. Лицо становится белым, как мраморные плиты фонтана. И сбитые костяшки его пальцев, сжимающие метлу, белеют тоже.
Некоторое время мы молчим. Слышно только, как на каштане протяжно стонет горлица, да брызги воды разбиваются о камни.
– Ты винишь себя за это? – наконец, спрашивает Расс.
Я не отвечаю, но ответ не требуется. Он знает: виню. Поэтому говорит мне тоном спокойным и дружелюбным:
– Не надо. Мы знали, на что шли.
Молчу. Слежу, как ветер покачивает ветви молодого каштана.
– Каждый знал, – продолжает Расс. – Конечно, все идет не так гладко, как предполагалось. Но никто не требовал быстрых перемен. Доверие надо заслужить.
– Разве не прошло достаточно времени?
Он ухмыляется, отчего его лицо раскалывает надвое.
– Ты всегда был слишком тороплив и категоричен, Ян.
И в его исполнении это звучит, как если бы он назвал меня мальчишкой. Поэтому я усмехаюсь тоже и говорю:
– Значит, не отступим?
Расс качает головой.
– Нет. И я не верю, что Пол сделал это сам. Ему помогли.
– Думаешь, их было несколько?
Расс энергично кивает в ответ.
Еще бы: в одиночку никто не справится с васпой, да еще и бывшим преторианцем – телохранителем Королевы.
Одно в теории Расса кажется мне нелогичным: какими бы ни были фанатичными деятели из Си-Вай, никто из них не пойдет на такую очевидную глупость, как убийство васпы. А если и пойдет – то смысла в убийстве Пола не больше, чем в убийстве рабочей осы.
– Я узнаю это. Обещаю, – говорю я.
Потом мы прощаемся. Он провожает меня пылающим взглядом, а затем продолжает работу. В спину несется мерное "ш-шух…"
Я много думаю над этим разговором. Что приобрели мы? Что потеряли?
Офицер Пол, одним ударом выбивающий кирпичную стену, работал автомехаником на станции техобслуживания.
Сменив маузер на метлу, комендант северного приграничного улья, в подчинении которого имелся многотысячный рой, теперь убирает улицы.
А я… командующий преторианской гвардией Дара, зверь из бездны, разрушитель миров – что делаю теперь я?
Мою пробирки в лаборатории профессора Тория.
* * *
Вообще моя должность называется «лаборант». Но я называю ее более емко: «подай-принеси».
Не хочу сказать, что стыжусь этого. Нет. Любой труд – в какой-то степени созидателен. И это в новинку нам, и мы благодарны людям за представленную нам возможность. Особенно, если у тебя нет никакого профильного образования. Да что там – никакого образования вообще.
Все, чему нас учили в Даре – это:
– выживать,
– убивать.
Есть и сопутствующие нашему образу жизни знания. Например, каждый васпа хорошо разбирается в технике, а также знает анатомию человеческого тела и умеет оказать практически любую медицинскую помощь.
Знаю, что многие васпы хотели бы стать врачами или конструкторами. Вот только давать скальпель в руки бывшим убийцам никто не собирается. Правильно сказал Расс – доверие надо заслужить. И не за один год.
Поэтому в реабилитационном центре каждый из нас прошел курсы по несомненно важным, но не требующим глубоких знаний профессиям, таким как разнорабочий, или маляр, или дворник, или сантехник. Возможно, когда-нибудь наша молодежь получит право обучаться в институтах наряду с прочими студентами. Возможно, нас однажды признают полноправными членами общества. А пока…
Пока "подай-принеси" кажется весьма удачным выбором.
Должность мне предложил Виктор Торий – кто же еще?
Несмотря на некоторые разногласия в прошлом, в дальнейшем нам пришлось установить дружеский нейтралитет. И справедливости ради стоит признать: без профессора у нас ничего бы не вышло…
Он врывается в лабораторию – как обычно взъерошенный, нервный. Я благоразумно отступаю, придерживаю ногой дверь, рукой – коробку с реактивами. А он швыряет куртку на стул и тут же набрасывается на меня:
– Ян! Почему ты не сказал мне?
Я привык к его выпадам. Поэтому аккуратно ставлю коробку на стол и спокойно отвечаю ему:
– Реактивы пришли утром. Сейчас составлю опись.
Между его бровями пролегает болезненная складка. Он расстроено смотрит на меня и сбавляет тон.
– Да какие там реактивы… плевать! Почему ты не рассказал мне про Пола?
Вот оно что.
– Но ты все равно узнал, – спокойно отвечаю я и достаю из коробки формуляр описи. Бумажную работу я не любил никогда, но кто-то ведь должен выполнять и ее.
– Почему я узнаю из десятых рук и только сегодня? – продолжает настаивать Торий. – У тебя ведь есть мой телефон. Я ведь повторял и не раз, что ты можешь звонить мне в любое время. В любое!
– Не было нужды, – между делом отвечаю я и продолжаю заполнять бумагу.
Он вырывает ее из моих рук, швыряет на стол.
– Оставь ты эти реактивы в покое, Бога ради! Речь идет о жизни человека! Ты это понимаешь?
– Васпы, – поправляю его я. – Понимаю.
Наши взгляды пересекаются. Его брови сердито нахмурены, но в глазах стоит вина. Я знаю, он тоже винит себя за многие наши неудачи. За то, что косвенно одобрил бесчеловечные эксперименты, проводимые в Даре. За то, что ему стоило усилий и времени перебороть себя и признать в васпах не просто подопытных дрозофил, а разумных существ, достойных лучшей жизни. Я ценю и уважаю его за это.
Однако когда большую часть времени на тебя смотрят взглядом побитой собаки, это начинает раздражать.
– Мне жаль, – снова говорит Торий и отводит глаза. – Жаль, что он так и не смог найти свое место в жизни.
Он вздыхает, хмурится, бросает на меня косые взгляды. И я понимаю, что Торий хочет сказать мне что-то важное. И просто жду. И слушаю, как за дверью по своим делам спешат сотрудники Института – их шаги легки, их голоса беззаботны. А я думаю о том, насколько разные наши миры. Думаю о том, что все они и каждый из них – и Торий, и его коллеги и лаборанты – радовались и огорчались, когда меня учили молчать и терпеть. Любили, когда меня учили ненавидеть. Созидали, когда меня учили разрушать.
Иногда мне кажется, будто вся эта жизнь – сон.
Что я вот-вот проснусь от воя сирены в холодной и тесной келье Улья. И больше не будет ни светлой лаборатории Тория, ни фонтана в уютном сквере. Не будет и этого дневника, потому что иметь личные вещи запрещено Уставом. А комендант Расс не остановится дружески перекинуться со мной парой фраз, потому что понятия дружбы в Даре не существует.
От таких мыслей меня бросает в холодный пот. Я неосознанно хватаюсь за спинку стула, словно ищу опору.
– Если у тебя появятся проблемы, ты ведь не будешь скрывать это от меня, правда? – наконец произносит Торий.
И мир снова обретает целостность.
Профессор смотрит на меня озабоченным взглядом. Он – реален. И эта комната реальна. И город за окном.
– Ты ведь скажешь мне… ну, если тебе понадобится помощь? Если вдруг просто захочешь поговорить? – заканчивает свою фразу Торий.
Я позволяю себе расслабиться окончательно и теперь понимаю, о чем он толкует. Это вводит меня в замешательство, и я отвечаю, должно быть, слишком резко и холодно.
– Чушь. Я не собираюсь убивать себя.
И тут же жалею об этом: профессор хмурится и поджимает губы. А я чувствую, что снова одним махом воздвиг ледяную стену между собой и тем, кому есть до меня хоть какое-то дело.
– Хорошо, – говорит Торий и делает равнодушное лицо.
Наверное, мне следовало извиниться, да? Я вспоминаю об этом только теперь, когда в перерыве обновляю свои записи. Но в тот момент просто молчу и стою, как баран. Смотрю в пол, не зная, что сказать, куда деть руки или себя всего. Торий некоторое время ждет, потом поворачивается, чтобы уйти.
Выручает случай.
В лабораторию врывается Марта – немолодая пробивная женщина, в чьи обязанности кроме обычной секретарской рутины входит также и общественная работа. Сейчас она потрясает разлинованными листами и с порога громко заявляет:
– Жаль надолго вас прерывать, поэтому быстро сдали по десять крон в фонд помощи северным регионам!
Она кладет список прямо на коробки с реактивами и начинает лихорадочно его листать, выискивая фамилию Тория. Профессор лезет в карман, вытаскивает купюры.
– Конечно, конечно, – бормочет он. – Что вообще слышно? Я, как всегда, пропускаю все свежие новости.
– Второй поселок достраивают, – как на духу отвечает Марта и ловко выхватывает у Тория деньги. – Как снега сойдут, будут земли распахивать, сельское хозяйство поднимать. А то после этих нехристей не земля – одна пустыня. Ага, распишитесь тут и тут…
Марта подсовывает ему листы и только теперь замечает меня.
– Ой, – произносит она, и ее щеки покрывает румянец. – Прости, Янушка, – продолжает она виновато и сладко. – Я не про тебя. Я про других нехристей. Которые… хмм…
Она умолкает и смотрит на меня влажными округлившимися глазами. Тогда я тоже лезу в карман и достаю мятую десятку. Кладу на стол, рядом с рассыпанными листами.
– Возьмите.
Она вздыхает, всплескивает руками.
– Да зачем же? Да к тебе я без претензий вовсе! У тебя и так из жалованья по статье вычитается.
– Знаю, – спокойно отвечаю я. – И все же возьмите.
Марта не возражает – купюра исчезает в ее бездонных карманах. Торий смотрит на меня и молчит. Я старюсь не поднимать головы, чтобы не встретиться с его взглядом – понимающим ли? Осуждающим? Так ли это важно. Лишь бы не сказал ничего. Не начал расспрашивать.
Да и что я ему отвечу?
* * *
После обеда Торий отлучается по делам, а я задерживаюсь до восьми. А все потому, что в одной из лабораторий потек фармацевтический холодильник, и мне приходится отгружать его на гарантийный ремонт. Для этого нужно заполнить кипу бумаг (даже будучи простым рядовым мне не доводилось писать столько рапортов, воистину – человечество любит усложнять себе жизнь). Поэтому я едва успеваю к самому закрытию. По злой иронии судьбы: здешним мастером оказывается один из тех беженцев с севера.
Их сразу можно отличить от местных по тому, как они пялятся на тебя со смешанным чувством ненависти, страха и какого-то мерзкого заискивающего почтения. Сейчас это кажется еще более отвратительным, учитывая, что я больше не ношу преторианскую форму и мои текущее запросы далеки от прежних.
Есть разница, угрожать сожжением деревни или просить починить холодильник по гарантийному талону, не так ли? Все равно, этот щуплый человечек смотрит на меня, будто я собираюсь вырвать ему почки.
– Конечно, пан. Все сделаем в лучшем виде, пан, – суетливо бормочет он и выхватывает бумаги дрожащими руками, быстро, чтобы случайно не коснуться еще и меня.
– Прошу, без чинов, – устало произношу я.
– Да, да… – едва не кланяется он.
И открывает мне дверь, и закрывает ее за мной.
Я ухожу так быстро, как только могу. И только пройдя квартал, осознаю, что меня трясет от отвращения. Пальцы помимо воли сжимаются в кулаки – хочется ударить в это бледное лицо, чтобы стереть с него раздражающее заискивающее выражение. Да только кто виноват больше? Запуганный, привыкший повиноваться силе деревенщина или тот, кто все эти годы терроризировал его?
Вынужденный существовать бок о бок со своим кошмаром, он не понимает, почему власти не стерли нас в порошок вместе с Ульями? Почему выделили деньги на программы по реабилитации насильников и убийц? Почему позволили жить и работать наряду с добропорядочными гражданами Южноуделья? И он, этот добропорядочный селянин, возмущается, что насильники и убийцы разгуливают на свободе. И тайно поддерживает Си-Вай. И будет только рад, узнав о смерти офицера Пола.
"Туда ему и дорога, проклятому насекомому!"
И никакие извинения, и никакая гуманитарная помощь не изменят его отношение. Просто потому, что эти, городские, видят во мне искалеченное существо со сбитым жизненным ориентиром. А он – он видел, как я стоял на пороге его жилья, наслаждаясь его болью, его страхом. Как я насиловал его дочь, как забирал сына.
Этого нельзя ни забыть, ни простить.
И тогда я думаю – возможно, Пол действительно наложил на себя руки. Возможно, он тоже не смог ни забыть, ни простить себя.
Смерть Пола не дает мне покоя.
Это кажется странным, учитывая, что прежде васпы не щадили ни себя, ни друг друга. Мы были единым роем, инструментом для удовлетворения прихотей Королевы. Погибал один – его место тут же занимал другой.
Теперь все иначе.
Каждый из нас – личность. Жизнь каждого – ценна. В реабилитационном центре нам говорили: "Хотите изменить мир? Начните с себя". Тогда мы – все те, кто остался, кто пожелал перемен и принял их – решили, что не будет больше ни насилия, ни смертей.
А теперь я чувствую себя растерянным и одураченным, словно все, за что мы боролись, обернулось пшиком. Смерть Пола – зловещий знак. Он может отобрать у нас надежду.
Если бы мне только позволили осмотреть тело. Если бы позволили – я бы смог понять. Возможно, найти следы борьбы, ссадины, которые медэксперты не заметили или не захотели замечать. Только кто мне разрешит?
И мысли продолжают ходить по круг: убийство или самоубийство? Убийство или нет?
Если попробовать поискать аргументы в пользу той или иной версии, я смогу докопаться до истины.
Итак. Мой основной и главный аргумент в пользу версии с убийством: васпа никогда не убьет себя сам.
Я не хочу сказать, что мысли о самоубийстве не посещали меня или любого из васпов. Дело в том, что Дарская школа учит не только жестокости, но и выносливости.
Когда я только вышел из кокона – меня отдали на воспитание наставнику Харту. Последующие четыре года мне перекраивали сознание и тело. Мое отрочество прошло в череде бесконечных изнуряющих тренировок и пыток, и я чуял запах собственной крови гораздо чаще, чем чьей-либо еще.
Будучи солдатом, я участвовал во многих сражениях и набегах. Меня бросали на передовую как наживку, как кусок мяса. Я знаю, что такое разрывные пули и помню, как ножи входили в мою плоть, будто в топленое масло. Но я выживал и возвращался в строй.
Сделав меня преторианцем, своим приближенным телохранителем, Королева накачала меня двойной порцией яда, от чего я долго страдал эпилептическими припадками. Я находился от нее так близко, что она одним укусом могла раскроить мне череп. Ее жало, толщиной почти в руку, трижды входило в мой живот. И она не разбиралась, кто и как сильно виноват в провальной операции: ей были нужны только новые солдаты и новая пища.
Поэтому я не боюсь ни смерти, ни боли, а моей живучести позавидует таракан. Пройдя через все это и выдержав все это, глупо вешаться на дверной ручке.
И тут я подхожу к аргументу в пользу самоубийства и вспоминаю мокрое заискивающее лицо северянина. Оно до сих пор маячит у меня перед глазами, как напоминание обо всех темных вещах, которые я своими руками творил на зараженных радиацией землях Дара. Можно принять это, можно попробовать искупить грехи – но это было и от этого не уйти. Если Пола действительно сломило что-то? Что-то…
…вина?
Я вздрагиваю и смотрю на часы. Они показывают полночь. В окно царапаются ветви тополя. Качается фонарь, отбрасывая на противоположную стену оранжевые блики.
Листаю тетрадь и удивляюсь своему красноречию. Пожалуй, хватит на сегодня. Мой ужин перед сном – стакан воды и две таблетки, белая и красная. И не забыть задернуть шторы – этот чертов оранжевый свет слишком напоминает мне отблеск пожара. А мне хочется хотя бы одну ночь не видеть снов. Никаких. Вообще.
4 апреля, пятница
"Как бы не так!" – ехидно усмехается сидящий во мне зверь. И продолжает проецировать в сознание картины прошлого.
Сон начинается как продолжение того, предыдущего. Но передо мной теперь не зрелая женщина, а девушка. Почти ребенок.
Ее глаза набухли слезами, и от этого кажутся еще синее и глубже – две океанские впадины. Волнами плещутся светлые косы – длинные, ниже пояса. Я сгребаю их в горсть и заставляю ее смотреть в свое изуродованное лицо. Девушка испуганно всхлипывает.
– Пожалуйста…
Ее шепот – как шелест прибоя. Она вся трепещет в моих руках, будто вытащенная из речки плотва. Беззащитная. Хрупкая. Сладкая.








