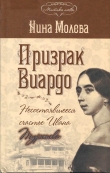Текст книги "Женщины для вдохновенья (новеллы)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
По совету отчима Тася украдкой стала разбавлять морфий дистиллированной водой, а потом вообще впрыскивала Михаилу одну воду. И он забыл о гибельном увлечении, признавался в письме к матери: «Таськина помощь для меня не поддается учету!»
Тем временем Россия встала с ног на голову: революция, Гражданская война… Булгаковы вернулись в Киев, и за полтора года, которые они прожили там, в городе шесть или семь раз менялась власть. Большевики, петлюровцы, немцы с гетманом, вновь петлюровцы, опять большевики, деникинцы… Младшие братья Михаила, Николай и Иван, оба юнкера киевских военных училищ, – участвовали в боях, и однажды Николай лишь чудом избежал расстрела.
В Киеве Булгаков открыл венерологический кабинет, и опять Тася ассистировала ему. На прием шли солдаты и всякая голытьба, богатые люди редко болели этими болезнями.
Булгаков изо всех сил увиливал от мобилизации, но осенью 1919 года все же оказался в составе деникинских войск в качестве военврача и был направлен во Владикавказ. Тася уже через полмесяца была рядом с мужем.
Это было ужасное время. Зимой 1920 года Михаил заболел тифом. И выжил только благодаря Татьяне: она нашла врача, продавала кусочки все той же золотой цепи на рынке, чтобы добыть камфару для уколов, чтобы кормить выздоравливавшего Михаила. Тогда же продала и обручальные кольца…
Михаил лежал в бреду, когда из города уходили деникинцы. И он все не мог простить жене, что она не увезла его, хоть бы и в беспамятстве, от красных. Но что Тася могла сделать? Врачи мрачно твердили ей: «Нельзя его везти, умрет в дороге! Что же, вы хотите довезти его до Казбека и похоронить?»
Когда Михаил Афанасьевич поправился, жизнь во Владикавказе была уже иная – новая. Он устроился на работу в культурный подотдел (под начальство, между прочим, не к кому иному, как к Юрию Слезкину). Тот предложил Булгакову делать вступительное слово перед спектаклями. Татьяна стала работать там же – в театре, статисткой. И оба они очень боялись – вдруг кто-нибудь расскажет красным, что Булгаков печатался в белогвардейской прессе, служил у деникинцев. Решили на всякий случай покинуть Владикавказ и любыми путями пробраться в Москву.
Именно тогда Булгаков и сказал себе: «Довольно глупости, безумия. В один год я перевидел столько, что хватило бы Майн Риду на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом… Довольно!»
Он начал писать, начал печататься. Но оба они с Татьяной понимали, что любовь их умерла, что судьба их брака предрешена.
Татьяна Николаевна – высокая, худая, в темных, скучных платьях – держалась так неприметно, так ненавязчиво, будто чувствовала себя посторонней в его жизни. И в литературе она ничего не понимала… Часто приходил ей на память один случай.
Когда Булгаков писал «Белую гвардию», он прочел жене молитву Елены к Богоматери: выпросить у Бога жизнь Алексея Турбина. Взамен Елена готова была навсегда расстаться с Тальбергом. А Татьяна не умела воспринимать литературную условность. Она знала, что все Булгаковы – атеисты, да и не такие они темные, чтобы верить, будто от молитвы кто-то выздоровеет. Поэтому сцена романа, которую прочел муж, показалась ей до того неправдоподобной, что она сказала Михаилу:
– Ну зачем ты это пишешь?
Ох, как он рассердился:
– Ты просто дура, ничего не понимаешь!
Он очень быстро забыл, как это было: когда писал «Белую гвардию», любил, чтобы Тася сидела около него, шила. Это было ночами. Вдруг у него начинали холодеть руки, он говорил жене:
– Скорей, скорей… горячей воды!
Татьяна грела воду на керосинке, Булгаков опускал руки в таз.
Это было что-то нервное. Возможно, от переутомления, от возбуждения. Татьяна не понимала, но воду грела быстро, подавала вовремя.
Ну да, она очень многого не понимала в его жизни, в его предназначении. Вообще она была просто мужняя жена – заботливая, домовитая, озабоченная только благом Михаила. Ребенка-то не было: еще в молодые годы, в пору увлечения мужа морфием, сделала аборт – Булгаков боялся, что ребенок родится больным, – ну и обрекла себя на бездетность. Михаил был ей и муж, и сын! Ради него она продавала вещи на рынке, стояла в очередях с карточками, что-то умудрялась готовить – и уставала так, что ей было не до литературных споров, не до любви.
Почему продавала вещи? Ну, Михаил Афанасьевич был ведь еще и игрок, так что денег в доме вечно не хватало.
Он был одержим манией игры. Например, будил жену в час ночи:
– Идем в казино – у меня чувство, что я должен сейчас выиграть!
– Да куда идти? Я хочу спать!
– Нет, пойдем, пойдем!
Проигрывался, разумеется. Наутро Татьяна все собирала, что было в доме, – несла на Смоленский рынок.
То есть она любила мужа как умела. А ему было нужно совсем иное. Она просто изжила себя в его жизни, Тася Лаппа…
Вокруг Михаила Афанасьевича всегда крутилось много прекрасных дам. Вовсе не обязательно – любовниц, а просто так – милых подружек. Он вообще легко общался с женщинами, чувствовал себя с ними лучше, смотрелся выигрышней… Жена знала их всех! Он часто говорил: «Тебе не о чем беспокоиться – я никогда от тебя не уйду!»
Но вот Булгаков привел в дом новую знакомую – Любовь Белозерскую. Она была элегантна, нарядна… Татьяна при виде ее присмирела, как никогда раньше.
В принципе, Люба ей понравилась. Да та и старалась понравиться, даже пыталась научить Татьяну танцевать фокстрот… Татьяна только ахала, путая шаги: ну какая из нее танцорка?! Люба жаловалась на бросившего ее Не-Букву, на берлинского любовника, красиво, картинно вздыхала на злую судьбу:
– Мне остается только отравиться.
Потом Люба перестала ходить в этот дом. Поняла двусмысленность и нелепость ситуации, да и начала ревновать Михаила Афанасьевича к Татьяне, к «стене», которая никак не хотела отодвигаться. С другой стороны, она твердо верила в истину: мужчина уходит не к другой женщине. Он уходит от жены.
Строго говоря, Люба влюбилась в Булгакова первая. И гораздо сильнее, чем он. Но она жила у родственников, Михаил – с женой. Им и встречаться-то не было места! Михаил Афанасьевич ходил, ходил к ее родственникам, пока тем не надоело: мало того, что живет Люба, так еще и кавалер (притом еще и женатый!) тут же пристраивается. Вскоре Любе стало невмоготу в том доме, тем более что вернулся муж ее двоюродной сестры, в комнате которой Люба жила.
Она не обиделась, когда пришлось уехать. Но куда же податься?
Люба и не знала, что в это время Михаил Афанасьевич уже начал «подготовительную работу» с Татьяной:
– Пусть Люба живет с нами.
– Как же это? В одной комнате? – изумилась жена.
– Но ей же негде жить! – запальчиво ответил Булгаков.
Разговоры такие велись, велись… И переходили порой в неприятные стычки. Потом, в апреле 1924 года, они развелись.
– Это ничего не значит, – уверял Михаил Афанасьевич. – Мне просто так удобнее – называть себя холостым. А мы будем жить как жили.
Ну конечно – «не значит»! Как бы не так! Татьяна уже предчувствовала, что скоро останется одна, и ругательски ругала себя, что продала когда-то обручальные кольца. Ведь потерять их или продать – очень плохая примета. Но не продай она кольца – Михаил умер бы… Теперь она раздумывала одинокими ночами, которые муж часто проводил неизвестно где (известно, известно – с другой женщиной!): а что бы ей было легче пережить – смерть мужа или его предательство?
На этот вопрос она так и не нашла ответа: не успела. Однажды в ноябре Булгаков попил утром чаю, а потом сказал Татьяне:
– Если достану подводу, сегодня от тебя уйду.
Оделся, вышел. Она сидела у окна, словно прибитая к месту. В голове – ни единой мысли.
Через несколько часов муж вернулся:
– Я пришел с подводой, хочу взять вещи.
– Ты уходишь? – спросила она, как будто только что осознала это.
– Да, ухожу насовсем. Помоги мне сложить книги.
Татьяна услужливо, суетливо помогала. Отдала ему, конечно, все, что он хотел взять.
Потом еще долго квартирная хозяйка удивлялась:
– Как же вы его так отпустили? И даже не плакали!
Вообще в доме все не верили, что Булгаковы разошлись: никаких скандалов меж мужем и женой не было, как же так?..
К тому же Михаил частенько заходил, приносил деньги, продукты. Через некоторое время начал каяться: «Меня за тебя Бог накажет!»
Почему же он каялся? Или плохо ему теперь жилось?
Между прочим, нет. Не плохо. Совсем наоборот! «Парижанка» оказалась отличной хозяйкой: она мигом уловила, что Михаилу Афанасьевичу нужна в одном лице и подружка-болтушка, и не то маменька, не то старшая сестра. Жена-товарищ, как говорили в те боевые времена. Именно таким товарищем и заботливой подругой Люба и стала. А еще – опутала мужа своей нежностью, страстностью, которая и прежде притягивала к ней мужчин, которая и сделала бедного Не-Букву таким ревнивым…
Люба не знала, что муж ее записал в дневнике вскоре после свадьбы: «Подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и в то же время безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня… как заноза сидит… что чертова баба завязила меня, как пушку в болоте, важный вопрос. Но один, без нее, уже не мыслюсь. Видно, привык».
Да нет, тут дело было не в привычке!
«Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?»
Если бы он спросил Любу, она ответила бы: только для тебя, дорогой!
Она и в самом деле так думала – и вила свое гнездо, как умела.
Сначала они жили где придется: на антресолях в школе, бывшей гимназии на Никитской, где преподавала сестра Михаила, Надежда Афанасьевна Земская, потом сняли комнату во флигеле по Обухову переулку. Дом этот они называли голубятней.
Поначалу приезжающие в Москву родственники Михаила Афанасьевича были немало скандализованы тем, что именно чувственность Любы играла в их совместной жизни такую огромную роль.
Варвара Афанасьевна, Варенька Булгакова, приехала на Рождество 1925 года в Москву и остановилась, конечно, у брата. С круглыми глазами Варенька рассказывала потом родственникам, что молодожены большую часть суток проводили вместе в кровати, раздетые, хлопая друг друга пониже спины и приговаривая:
– Чья это жопочка?
Иногда Михаил говорил сестре с тяжким вздохом:
– Люба – это мой крест!
Разумеется, если Люба его слов не слышала…
Конечно же, это гротеск, с которым вообще описывали жизнь все Булгаковы, наделенные особенным, саркастическим ее восприятием (еще совсем юному Михаилу инспектор гимназии говорил с укором: «Ядовитый имеете глаз и язык!»). Скорее всего, его, утонченного интеллектуала, смущало откровенное жизнелюбие жены, которая, строго говоря, относилась с великим презрением парижанки, этуали, светской штучки «ко всем этим провинциалам» (киевляне, москвичи, питерцы, саратовцы, да вообще все были для нее на один салтык!) и расхожее мнение, приличия ни в грош не ставила. Однако она была не только чувственна, но и очень умна. Заметив, что муж тяготеет к внешней порядочности – даже несколько буржуазной добропорядочности! – Люба мигом спохватилась, умерила свое молодое буйство и изменилась. И постаралась сделать свой дом и быт именно образцом этой чуточку патриархальной, старомодной благопристойности.
После нового брака у Булгакова появились новые великолепные друзья, интереснейшие люди. Михаил Афанасьевич тянулся к народу утонченному, хотя литературную и театральную среду того времени уже сильно теснила-таки «рабоче-крестьянская масса». Самыми близкими были филолог Николай Николаевич Лямин и его жена, художница Надежда Ушакова. Познакомились они у писателя Сергея Заяницкого, где Булгаков читал отрывки из «Белой гвардии». В дальнейшем все или почти все, что было им написано, он читал у Ляминых: «Белую гвардию», «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Жизнь господина де Мольера», «Консультанта с копытом», легшего в основу «Мастера и Маргариты»…
Все это было создано, когда его женой была Люба Белозерская. На чтениях у Ляминых она сидела рядом и в десятый, в двадцатый раз слушала волшебные слова, рожденные ее мужем. Многие из них были записаны ею под его диктовку. Ей это нравилось: «писать вместе» – Михаил всегда изображал в лицах то, что диктовал. Он был необычайно артистичен. Но чаще он писал все же один, по ночам, когда ничто не отвлекало, когда не звонил телефон. Люба частенько болтала по телефону слишком долго, и муж пенял, сдвинув брови:
– Я же работаю!
– Ты же не Достоевский! – наивно ответила она однажды.
Потом это вошло у них в поговорку, стало просто шуткой. Если бы Люба знала, как ей однажды аукнется эта шутка…
Не скоро. Пока-то все было в их жизни просто прекрасно!
В доме Ляминых на чтениях Булгакова бывали известный шекспировед Михаил Михайлович Морозов, филолог-античник, преподаватель римской литературы в МГУ; поэт и переводчик Сергей Васильевич Шервинский; режиссер и переводчик Владимир Эмильевич Мориц и его обаятельная жена Александра Сергеевна; искусствоведы Андрей Александрович Губер, Борис Валентинович Шапошников, Александр Григорьевич Габричевский, позже член-корреспондент АН, архитектор; писатель Владимир Николаевич Владимиров (Долгорукий); Николай Николаевич Волков, философ и художник; Всеволод Михайлович Авилов, сын писательницы Лидии Авиловой… Бывала там и Анна Ильинична Толстая, внучка великого писателя. Булгаков говорил о ее внешности: «Вылитый дедушка, не хватает только бороды!» Часто появлялись актеры (ведь Булгаков писал пьесы!): Иван Михайлович Москвин, Виктор Яковлевич Станицын, Михаил Михайлович Яншин, Цецилия Львовна Мансурова и другие…
Булгакова все они слушали внимательно, юмор схватывали на лету. Читал Михаил Афанасьевич блестяще: выразительно, но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно – только глаза смеялись…
В числе приятелей Булгакова было множество молодых, только пробующих себя поэтов и писателей. Маяковский – этот уже был признанный, заслуженный, почитаемый. Они с Булгаковым недолюбливали друг друга. На бильярде играли с удовольствием, но не более того. Хаживал к Булгакову вместе с Олешей, Багрицким и прочими тогда еще и впрямь молодой, но уже популярный прозаик и журналист Валентин Катаев. Спустя много лет он напишет блистательную книгу – как бы мемуары – «Алмазный мой венец». И каждому из своих старинных знакомых воздаст по заслугам – со свойственной Катаеву наблюдательностью, злоязычием и образностью. Всем сестрам по серьгам…
Вот как опишет Катаев образ жизни Михаила Афанасьевича, которого называет «синеглазый», уточняя: «Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское».
«Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, может быть, даже классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.
На стене перед журнальным столиком были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты „Накануне“ с переставленными буквами, так что получалось не „Накануне“, а „Нуненака“».
Впрочем, здесь Катаев изображает Булгакова, еще женатого на Татьяне Николаевне, которая «была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков».
Катаев в принципе был убежден, что место жены писателя – на кухне… но не на его творческой кухне. Любу, которая отнюдь не желала варить «наваристые борщи» для голодных и полуголодных гениев и молчать в тряпочку, а сама обожала читать стихи, норовила вмешаться в каждый спор и обо всем имела свое мнение, Катаев не больно-то жаловал! Ну и Булгакова, который подпал под ее влияние, тоже попинал:
«В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидели его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом… Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некоей Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами „Двенадцати стульев“ „княгиней Белорусско-Балтийской“.
Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси».
Почему Напси?! В своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова ни о какой Напси ни словом не обмолвилась…
Впрочем, господь с ней, с Напси. Это не суть важно. Не исключено, что Катаев тут малость приврал – так, ради красного словца. Да, кстати, – сам-то он был еще более провинциален, поскольку родом из Одессы. Киев, родина Булгакова, – все-таки столица…
Для богемного и безалаберного Катаева было дичью то, что для Булгакова казалось нормой: «Восстановить норму – квартиру, одежду, книги». Однако великая ценность для Булгакова новой подруги была не только в том, что она разделяла его пристрастие к утонченному и надежному домашнему уюту, не только в ее заботливости: Люба всегда была весела, смешлива и легка на подъем, разделяла его страстную любовь к розыгрышам. Вообще тогда такая была жизнь – смешенье трагического с комическим. Казалось, в этой стране, где «кто был никем, тот стал всем», люди постоянно друг друга разыгрывают.
Михаил Афанасьевич работал в отделе фельетонов газеты «Гудок», известной тем, что через нее прошли очень многие литературные знаменитости того времени: Катаев, Олеша, Евгений Петров (младший брат Катаева) и другие. Он писал под псевдонимами Крахмальная Манишка, ЭМ, Эмма Б., М. Олл-Райт и т. п., а сюжеты брал, конечно, из писем рабкоров. Ну как не написать фельетон вот о таком случае: как-то на строительстве понадобилась для забивки свай капровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда – на удивление всем – в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Ну, строго говоря, она и впрямь была капровая баба…
Как-то раз в Мисхоре, где Булгаковы жили на курорте, кто-то из соседей по столику спросил писателя, что такое – женщина бальзаковского возраста. Он стал объяснять по роману: тридцатилетняя женщина выбирает себе возлюбленного намного моложе себя, и для наглядности привел пример – вот, скажем, если бы Книппер-Чехова увлеклась комсомольцем… Только он произнес последнее слово, как какая-то особа, побледнев, крикнула: «Товарищи! Вы слышите, как он издевается над комсомолом. Ему хочется унизить комсомольцев! Мы не потерпим такого надругательства!» Насилу тогда Булгаков с Любой «отбились» от политических обвинений.
Потом, после Мисхора, они отдыхали под Москвой, на даче семьи Понсовых. Здесь-то собрались люди все «одной масти» – если и не «бывшие», то явно к ним тяготевшие. Ну и развлекались даже без намека на «новые социалистические отношения».
По вечерам все сходились в гостиной. Уютно под абажуром горела керосиновая лампа – электричества-то не было. Здесь центром служил рояль, за который садилась хорошая музыкантша Женя Понсова или композитор Николай Иванович Сизов, снимавший в селе комнату.
Однажды гость Петя Васильев показал, как в цирке говорят, «силовой акт». Он лег ничком на тахту и пригласил компанию, собравшуюся в гостиной, лечь сверху, что все с радостью и исполнили. Образовалась куча мала. Петя подождал немного, напрягся и, упираясь руками в диван, поднялся, сбросил всех на пол.
Булгаков сказал:
– Подумаешь, как трудно!
Лег на диван тоже ничком, и все весело навалились на него. Через несколько секунд он повернул бледное лицо (Люба клялась, что никогда не могла забыть его выражения, враз несчастного и смешного!) и произнес слабым голосом:
– Слезайте с меня, и как можно скорей!
Все ссыпались с него горошком и попадали на пол от смеха.
Пусть «силовой акт» не удался, но в шарадах Михаил Афанасьевич был асом! Эта забава, вот уж точно перешедшая из «прошлой жизни», и веселила, и вселяла в сердца тоску по былому… Но уж больно смешон был Булгаков!
Вот он с белой мочалкой на голове, изображающей седую шевелюру, дирижирует невидимым оркестром. (Он вообще любил дирижировать. Иногда брал в руку карандаш и воспроизводил движения дирижера – эта профессия ему необыкновенно импонировала, даже больше – влекла его.) Здесь он изображал прославленного дирижера Большого театра по фамилии Сук (это был первый слог шарады).
Затем тут же в гостиной двое изображали игру в теннис, ведя счет и произнося термины, как и положено меж профессионалами, по-английски:
– Аут, ин, сетин…
«Ин» – это был следующий слог.
Второе слово – «сын». Изображалось возвращение блудного сына. А все вместе… С террасы в гостиную сконфуженно вступал, жмурясь от света, лохматый большой пес Буян: сукин сын.
В другой шараде Булгаков изображал даму в полосатеньком капоте хозяйки дома, Лидии Митрофановны, и был необыкновенно забавен, когда по окончании представления деловито выбрасывал свой бюст: диванные подушки…
Однажды затеялся спиритический сеанс. Особую остроту забаве придавало то, что в атеистической стране, которой сделалась теперь Советская Россия, это было почти запрещенной игрой.
Уселись за круглый стол, положили руки на столешницу, образовав цепь, затем избрали ведущего для общения с духом – художника Сережу Топленинова. Свет потушили. Наступила темнота и тишина, среди которой раздался торжественный и слегка загробный голос Сережи:
– Дух, если ты здесь, проявись как-нибудь.
Мгновение… Стол задрожал и начал рваться из-под рук. Сережа кое-как его угомонил, и опять наступила тишина.
– Пусть какой-нибудь предмет пролетит по комнате, если ты здесь, – сказал медиум.
И через комнату тотчас же из угла пролетела, шурша, книга.
Атмосфера накалялась. Через минуту раздался чей-то крик:
– Дайте свет! Он гладил меня по голове! Свет!
– Ай! И меня тоже!
Теперь уж кричал кто-то из женщин:
– Сережка, скажи, чтобы он меня не трогал!
Дух вынул из чьей-то прически шпильку и бросил ее на стол. Одну, другую… Вскрикивали то здесь, то тут. Зажгли лампу. Все были взъерошены и взволнованы. Делились своими ощущениями. Медиум торжествовал: сеанс удался на славу. Все же раздавались скептические возражения, правда, довольно слабые.
Потом состоялся второй сеанс, и непонятные явления продолжались: на стол вдруг полетела редиска… Все были в невменяемом состоянии!
Но тем же вечером Люба невзначай подслушала такой разговор своего мужа с силачом Петей Васильевым:
– Зачем же вы, Петька, черт собачий, редиску на стол кидали?!
– Да я что под руку попалось, Мака, – оправдывался тот.
Люба так и закричала:
– А! Я так и знала, что это вы жульничали!
Оба обмерли. Потом Михаил Афанасьевич попытался «подкупить» жену (не очень-то щедро: он предлагал ей три рубля за молчание). Но она соглашалась молчать, только если они расскажут все про сеанс «черной магии». Пришлось заговорщикам сознаться. А дело оказалось простым: Петя садился рядом с Булгаковым, освобождал его правую руку и свою левую. Заранее под пиджак Михаил Афанасьевич прятал согнутый на конце прут. Им-то он и гладил лысые и не лысые головы, наводя ужас на участников сеанса.
– Если бы у меня были черные перчатки, я бы вас с ума свел! – хвастливо сказал он жене, предварительно заручившись ее обещанием молчать.
Впрочем, сомнения уже бродили, «зрительская масса» требовала объяснений.
Одна из гостий, Елена Никитинская, настигла Петю Васильева и стала допытываться, не имеет ли он отношения к явлению духа.
– Что вы, Елена Яковлевна! – открещивался тот.
Но она настаивала:
– Дайте слово, Петя!
– Даю слово!
– Клянитесь бабушкой!
Эта старая дама была единственной, кого Елена Яковлевна знала из семьи Васильевых.
И тут раздался жирный, фальшивый голос Пети:
– Клянусь бабушкой!
Слышавшие этот диалог Булгаковы едва не задохнулись от тайного смеха и потом еще долго, когда подвирали, клялись бабушкой.
Вообще они жили весело. Беспрестанно давали всем забавные прозвища. Например, маленький Любин чемодан, в котором Булгаков стал носить рукописи, звался Щенок. Жену Михаил Афанасьевич именовал Любанга или просто Банга. Как-то он вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил:
– Мака – это я.
Удивительнее всего, что прозвище – с его же легкой руки – очень быстро привилось. Уже никто из друзей не называл Булгакова иначе, а самый лучший его друг, филолог Николай Лямин, говорил ласково – Макин. Сам Булгаков часто подписывался «Мак» или «Мака». А любимую кошку называли уж заодно Мукой.
Как-то раз в отсутствие Любы Булгакову стало скучно. Тогда он позвонил приятельнице жены, Зинаиде Николаевне Дорофеевой, и угасающим голосом сказал, что ему плохо, что он умирает. Зика (так Дорофееву звали дома) и ее подруга заканчивали перманент. Не уложив волос, обвязав мокрые головы полотенцами, они обе, не чуя ног, бросились на Пироговскую, где жили тогда Булгаковы. Там их ждал веселенький хозяин и ужин с вином. Вернувшаяся Люба изумилась, увидев рядом с мужем небрежно одетых дам в чалмах из полотенец…
Увы, жизнь состояла не только из милых, приятных сцен!
Тогда Булгаков только написал «Собачье сердце».
В один прекрасный вечер («Так начинаются все рассказы!» – иронизировала потом Любовь Евгеньевна), да, однажды вечером в голубятню Булгаковых постучали, и на Любин вопрос: «Кто там?» – голос хозяина, у которого Булгаковы снимали комнату, бодро ответил:
– Это я, гостей к вам привел!
На пороге рядом с ним стояли двое в штатском: один в пенсне, другой невысокого роста. Это были следователь и его помощник – с обыском. Хозяин жилья пришел в качестве понятого. Булгакова в тот момент не было дома, и Люба забеспокоилась: как-то примет он приход «гостей», – и попросила не приступать к обыску без мужа, который вот-вот должен прийти.
Все прошли в комнату и сели. Хозяин квартиры, развалясь в кресле, в центре. Личностью он был примечательной – на язык несдержан, особенно после рюмки-другой… Воцарилось молчание, но длилось оно, к сожалению, недолго.
– А вы не слышали анекдота? – начал понятой. «Пронеси, господи!» – подумала Люба. Но тот все же начал рассказывать: – Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?» А еврей и отвечает: «Госстрах не знаю, а госужас – вот…»
И сам рассказчик раскатисто засмеялся. Люба бледно улыбалась. Следователь и его помощник безмолвствовали. Опять наступило молчание – и вдруг раздался знакомый стук.
Люба бросилась открывать и сказала вошедшему Булгакову шепотом:
– Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.
Но он держался молодцом. Следователь занялся книжными полками. Помощник стал переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.
И тут случилось неожиданное. Булгаков сказал:
– Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю.
Кресла были куплены Любой на складе бесхозной мебели по три рубля пятьдесят копеек за штуку. И на обоих Булгаковых напал смех. Может быть, нервный. Обыск продолжался.
Под утро зевающий хозяин жилья спросил:
– А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?
Ему никто не ответил… Найдя рукопись «Собачьего сердца» и дневниковые записи, «гости» тотчас же уехали. И только приблизительно через два года по настоянию Горького «Собачье сердце» было возвращено автору…
Эти «реалии жизни», конечно, пугали, раздражали, бесили, но… деваться от них было некуда. С ними приходилось как-то сживаться. До той губительной «обструкции», которая будет устроена Булгакову с санкции правительства, было еще далеко. К тому же Михаил Афанасьевич и Люба были молоды, они любили друг друга, а значит, все страшное казалось вполне переносимо.
Булгаковы много ездили. Дешево – в плацкарте, конечно. Да и курорты дорогие были им не по карману даже в самые лучшие, самые «гонораристые» времена. Зато, прельстившись дешевизной пансиона, они однажды провели лето у Волошина в Коктебеле, на Карадаге. Там познакомились не только с хозяином, экзотическим Максимилианом Александровичем, истинным «парнасцем», но и с поэтом Георгием Шенгели, художницей Анной Остроумовой-Лебедевой и ее мужем Сергеем Васильевичем Лебедевым – химиком, позднее прославившим свое имя созданием синтетического каучука, а главное – с писателем Александром Грином, загорелым, молчаливым, похожим в своей белой фуражке на капитана небольшого парохода. Проницательная Люба так описала потом ту встречу: «Вот истинно нет пророка в своем отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далеких фантастических стран. Явление вообще в нашей „оседлой“ литературе заманчивое и редкое, а истинной удачи и признания ему в те годы не было…»
Волошин обожал Коктебель и Карадаг, потухший вулкан, ставший неописуемым по красоте горным массивом:
Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил…
Конечно, гости Волошина постепенно отравились волшебным ядом Карадага, без устали бродили по его склонам.
Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели, красны, буры
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры,
В огне кустарники, и воды как металл…
Ну а потом все заболели типичной для Коктебеля «каменной болезнью». Сердоликов, агатов, нефритов и прочих «кремушков» море выносило на берег тонны! Собирали камешки в карманы, в носовые платки, считая их по красоте «венцом творенья», потом вытряхивали свою добычу перед Максом, а он говорил, добродушно улыбаясь:
– Самые вульгарные собаки!
Среди найденного ими был низший класс – собаки, повыше – лягушки, а высший – сердолики.
Но самым развлекательным для Булгакова занятием была ловля бабочек. Жена Волошина, Марья Степановна, снабдила гостей сачками. Взбирались на ближайшие холмы – и начиналась потеха.
Михаил Афанасьевич загорел розовым загаром светлых блондинов. Глаза его казались особенно голубыми от яркого света и от голубой шапочки, выданной той же Марьей Степановной.
Он кричит:
– Держи! Лови! Летит «сатир»!
Люба взмахивает сачком, но не тут-то было: на сухой траве скользко и к тому же на склоне покато. Она сползает куда-то вниз, глядя, как на животе сползает в другую сторону Булгаков. Оба они хохочут, а «сатиры» беззаботно порхают вокруг…