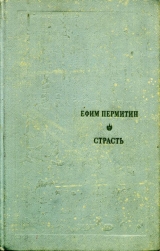
Текст книги "Страсть"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Кадо одного за другим подал краснобровых красавцев петухов, и я передал их счастливому молодому охотнику, все еще не испытывавшему ничего, кроме острой радости от первого в жизни дуплета по чернышам.
Только приняв из моих рук тетеревов и разглядев бледное взволнованное мое лицо, Митяйка понял причину моего волнения. Он, словно подломившись в коленях, вдруг безвольно опустился у моих ног и, чуть не плача, заговорил:
– Николаич! Простите! Больше не буду!.. Никогда не буду! И, ради бога, не рассказывайте братке!.. Он изобьет. Он никогда не возьмет меня больше!..
«Что предпринять?! Как обезопасить и себя и Кадо от подобного же повторения?..» Мне было искренне жаль молодого горячего охотника. С полчаса мы проговорили о только что случившемся, припомнили не один трагический случай на подобных охотах. А поговорив, стали продолжать охоту. Но теперь уже Митяйка был и осмотрителен и стрелял просто отлично.
А я… Я, кажется, никогда еще не пуделял так, как в этот раз. И что самое главное, потребовав от Митяйки стрельбы только в меру, палил, не считаясь с расстоянием, и больше половины взятых мною чернышей собака поймала подраненными.
Мне непонятны были причины моих промахов. Вот Кадо, как всегда высоко подняв голову, потянул в ежевичник. Сверху мне хорошо видна была работа собаки: его беломраморная рубашка резко выделялась в зелени.
Вот он встал. Я приготовился и крикнул: – Пи-и-илль! Оглушительный взлет петуха. Я нажимаю гашетки и раз и другой, а тетерев, все убыстряя и убыстряя разгон, летит вниз. Выстрел Митяйки – и черныш камнем падает на жнивник.
Трясущимися руками я вставляю новые патроны и посылаю явно озадаченного моими необычными промахами умницу Кадо. И вновь почти то же самое. «Как без дроби!..» – недоуменно шепчу я.
Возможно, виною всему был пережитый мною испуг или отвратительная охотничья зависть и жгучий стыд за свои промахи перед наблюдавшим неудачную мою стрельбу Митяйкой.
А возможно, была повинна и необычность стрельбы с крутика по стремительно опускающимся тетеревам – судить не берусь. Но, очевидно, подобно тому, как никакой, даже отличный музыкант или шахматист не сможет всегда одинаково хорошо сыграть партию, и самый искусный стрелок не может поручиться за то, что он не наделает промахов на охоте.
Из всей злополучной моей стрельбы запомнился лишь мой тоже необычный дуплет по чернышам. Вырвавшиеся из нижней кромки венца два старых петуха полетели в разные стороны: первого из них я срезал на подъеме, и, круто повернувшись к второму, уже далеко отлетевшему на луга, тетереву, выстрелил в угон. Петух «свечой» стал подниматься вверх. И, поднявшись так высоко, что был уже еле виден, сложив крылья, упал на жнивник с такой силой, что у него раскололась грудь: одна дробина ему попала в спину, а вторая – в хлупь; потеряв управление, тетерев все забирал и забирал вверх, пока не умер в воздухе.
Выстрелы Ивана и Володи заметно приближались. Вскоре мы сошлись. Бригадир, как и я, тоже шел по верхнему краю венца. И так же, как и я, сегодня он стрелял на редкость неудачно.
Митяйка торжествовал: и меня и Ивана он «обстрелял» чуть ли не вдвое.
Но ни у кого из нас не было убито ни одной тетерки, хотя их и немало поднималось из-под собак.
Это была вторая моя победа за сегодняшний день. И она скрасила горечь моей позорной стрельбы…
О случае с рискованным дуплетом Митяйки по чернышам ни я, ни «виновник торжества» никому не рассказали…
* * *
С вечерней, довольно удачной зори по уткам – стояли мы ее в другом конце просянищ – вернулись рано. Поужинали тоже рано, легли спать и долго не спали: каждый передумывал второй день нашего отъезжего поля, который, как казалось мне, вольно или невольно, каждого из нас переводил в какой-то высший класс нашей охотничьей жизни.
Молчание прервал бригадир:
– А ведь, пожалуй, по правильной научности все это придумал ты, Николаич. Вот лежу я и рассуждаю. И чистосердечно сознаюсь, только сейчас по-настоящему до моей душевной внутренности дошло, что ведь можно же и охотнику удержаться от волчьей жадности. Хоть и трудно, но можно. И так у меня на душе прояснело, словно бы после причастья. Великое дело сознательность, что ты не такой скот, как, например, Ника Пупок…
Ни Володя, ни Митяйка ни словом не отозвались на «исповедь» Ивана. Я тоже промолчал: мне казалось, что сейчас всякие мои слова на эту тему излишни.
* * *
Встали – едва прорезывалась заря: щадя лошадей, возвращаться в город мы решили по холодку.
Наспех позавтракали, тщательно уложились, запрягли выкормленных овсом лошадей (мне казалось, что и кони с здешним прекрасным пастбищем и с такими порциями овса расстаются с неохотой) и старым своим следом покинули гостеприимную излучину озерины на просянищах.
Черное пятно кострища, кусты тальника, сиротливо торчащие колышки, удерживавшие нашу палатку, остались позади. У меня невольно защемило сердце: «Прощайте, просянища! Доведется ли еще раз побывать здесь!..»
Я чувствовал, что, решив не стрелять ночью по стаям, ездить за утками в далекие эти места нам не было больше смысла.
Володя и Иван сидели, как-то нахохлившись. Зато Митяйка был весел: «обстреляв» всех по тетеревам, он все еще переживал радость победы над «стариками», как он называл нас.
И хотя красивый его дуплет по чернышам чуть не стоил жизни и мне и Кадо – дуплет этот чаще всего вставал перед его глазами. Об одном только жалел он, что кроме меня его дуплет не видел никто, а самому, по понятным причинам, рассказывать о нем было нельзя.
Митяйка ликовал: он то и дело спрыгивал с долгуши и наперегонки с собаками то уносился вперед, то снова усаживал их на линейку: счастливая юность придавала всему золотистый колорит.
Одолев наконец трудный участок колдобистой луговой дороги, мы стали подниматься на Подстепинский венец. Придорожные кустарники были щедро облиты росой. Иван, не отрываясь, смотрел на тетеревиные угодья и, не сдержавшись, сказал:
– Д-да-а действительно косача здесь депо!..
Взнявшись на вершину венца на тракторной дороге, я остановил лошадей. Знакомая, так волновавшая нас всегда картина обширных красноярских просянищ целиком открылась нашим глазам. Длинные темные гривы островов, стальная, широкая, величаво-текучая лента Иртыша, серебристые языки песчаных гольцов со скопищами на них птицы. Паривший в небе над гольцами орел, сложив крылья, наискось рассекая воздух, ринулся вниз на кружившуюся стаю уток.
Я тронул лошадей. Кони с места пошли крупной – дорожной рысью. Стальные тарелки на осях плавно покачивающейся рессорной долгуши мелодично зазвенели.
Иртыш, острова, гольцы, просянища заметно уходили из глаз. «Прощайте, прощайте, увижу ли я вас еще!..» – мысленно повторил я.
Но странно, уже не жалость расставания с любимыми местами, а ощущение пережитых счастливых минут, связанных с отказом и моим и моих товарищей от истребительных ночных охот, каким-то новым внутренним теплом вновь согрели мое сердце. Я давно уже сознавал, что незримо, потаенно, но неотвратимо в природе идет процесс не возрождения, а омертвения, оскудения ее. И что не только нельзя быть равнодушным к происходящему, а необходимо бороться за ее сохранение, как за самого себя, потому что человек и природа нерасторжимы. Делу ее охраны стоит отдать всю свою жизнь. И она – многострадальная наша матушка-природа, как родная мать, отплатит тебе за все здоровьем, бодростью духа до седин.
ЗА ДРОФАМИ
(Второе отъезжее поле)
– Только первые утреннички с инейком – всеабсолюдно точный сигнал для сборов на дудаков. При нетерпежке езживали мы в степя и раньше, но не в редкость конфузные обсечки получались. И дудаки были, и убивали, а погода супротивничала: днями жара, ночами – воспаренье. В азарте забирались верст за сотню – с возвратом не успешишь. А она, пичужка-матушка, какую ни подвалишь, без малого пуд нежнейшего мяса – киснет…
Раз проквасили, два проквасили, покойничек Василий Кузьмич, уж на что заркай на эту дичь был, – сорвал с головы картузишко, хлопнул об землю и заклялся: «Чтоб я, охотник, да занапрасно такую редкую птицу губил! Да разрази меня громом-молоньей стрелять по ней не по времени!..»
Необычно длинную для степенно-сдержанного, знающего цену бригадирским своим словам Ивана Корзинина – тираду эту он произнес, чтоб охладить избыток горячей крови своего бурнопламенного братца Митяйки.
Как и перед отъезжим полем на Красноярские просянища за пролетной кряквой, вся наша охотничья коммуна собралась у меня.
И если тогда «заводилой» был слесарь Володя Напарников, то сейчас в этой роли оказался Митяйка Корзинин.
Лучше всех нас осведомленный в охотничьих делах городка нашего, он разнюхал, что компания кузнечан в пять человек, на купленной в складчину у заульбинского пахаря Гришеньки Кодинцева чалой кобыле и на его же тележонке, сегодня, рано утром, выехала за дрофами на Отраденские пашни.
– Не промылиться бы нам, ребятушки! Кузнецы – убьют, не убьют – распугают, гоняйся потом за ней!.. Уж я-то знаю, как за нашараханной птицей!.. Уж это самое, самое последнее дело! Ждать, ждать и вдруг на пустоплесье.
И вы, Николаич, и ты, Володя!.. Ну что же вы-то молчите, как туясы?!
В жару Митяйка хватал то одного, то другого из нас за руки. Но мы выжидательно смотрели на бригадира.
А Иван, выговорившись в самом начале, тоже молчал. Наконец он не выдержал и по-бригадирски твердо отрезал:
– Обождем первого инейка.
– Да ведь выбьют же, снимут пенки!.. – чуть не плача, выкрикнул Митяйка.
– Всю не выбьют – степь велика. Наше – будет перед нами, – впадая в свой обычный тон, спокойно парировал выкрики младшего брата Иван.
– До каких же пор ждать?! Не пьется, не естся… Каждую ночь сплю, как на гвоздях, верчусь, верчусь, выбегаю – инея жду. Не знаю, как до утра дотерпеть… Да ведь так годить – хужей, чем родить. Патроны с крахмалом снарядил. Барабана все время сечкой кормлю. А кузнецы теперь уже палят! – На глазах у паренька блестели слезы.
– Вот что, Митяй, – голос старшего брата потеплел. – Об чем без смысла и так нервенно кипятишься ты? Возьми в толк: Гришенькина лошаденка кость – на кость. Из плуга да в борону. Как говорится – возит и воду, и воеводу. Ну куда они успешат на ней? А у нас и Костя и Барабан – это первое. Второе: ну пускай до ближних – Отраденских пашен дотянет она их, а по пашням, по целине с пятерыми – да они через денек-другой и телегу и кобылу на себе возить будут!..
У нас же вся степь. Мы, как на крыльях – куда схотим – туда и летим. Хотя бы на ту же Джантору или на Алибек, а там дудаков вдесятеро больше, чем на Отраденских.
И последний довод о Гришенькиной кляче и уверенный тон, каким он был высказан бригадиром, успокоили молодого охотника.
– Ну что ж, придется ждать первого инея! – с тяжелым вздохом выговорил Митяйка.
Наконец дождались. Ночь перед выездом в степь не один Митяйка спал, «как на гвоздях».
– На березе лист мешаться начинает, значит, вот-вот дохнет Сиверьян Сиверьяныч: тучи закутерьмились, и крыльцы у меня разломило – не сегодня-завтра, ребятушки, ждите перемены погоды. Теперь как ни упирайся бабье летячко, а хребет у него вот-вот треснет, – обрадовал нас старик Корзинин.
И хребет у затянувшегося после первых сентябрьских перепрысков, стронувших северную утку, «бабьего лета» и впрямь треснул. Последние вздохи минувшего лета, незримое шествие Сиверьяныча, как предательские нити седины в волосах стареющей красавицы действительно просверкнули в зеленых кудрях березы у дома Корзининых. Первые золотые монетки на ней раньше всех нас заметил Митяйка:
– Значит, был уже он, братцы вы мои, первый-то инеек, да я проворонил его. Уж теперь-то, теперь, Иван Поликарпович!.. – занесся было Митяйка. Но Иван, ничем не обнаруживая радости, спокойно, словно дело шло о выквашенных овчинах, которые приспело время вынимать из чанов, сказал:
– Пожалуй, всеабсолюдно началась разлюбезная перемежица в степи – днем и в блузе сопреешь, а ночью – в шубу запросишься.
Действительно, и зримо и ощутимо на южном Алтае начиналась та – самая поэтическая, наполненная затаенной осенней грустью – пора, которую с таким трепетом, начиная с соловьиной весны и знойного лета, так нетерпеливо ждут охотники за дрофами.
– Итак, завтра! Думаю, что теперь в самую тахту!.. – На сей раз, изменив своему правилу, не без ликующих ноток в голосе сказал бригадир.
Этот вечер наша охотничья коммуна коротала у Корзининых, слушая бесконечные рассказы Поликарпа Мефодиевича о старопрежних его «дрофиных одиссеях». Все мы были настроены восторженно: безудержное воображение в неотступных картинах каждому из нас рисовало всегда заманчиво-таинственную степь с ее серебряными ковылями и древними шорохами в них. Каждому чудились щемящие сердце удачи и приключения начинающейся кочевой жизни.
* * *
Люба охотнику-устькаменогорцу заиртышская степь. И не потому, что она родная ему, с детства приросшая к его сердцу. А потому, что не похожа она ни на какие другие – обычно выжженные, бурые уже с середины лета, до одурения уныло-однообразные плоские пространства, – неповторимой сменой своеобычных своих пейзажей, перемежающихся почти через каждые двадцать – тридцать верст равнин с невысокими, но живописными по очертаниям сланцевыми хребтами, с камышистыми озерами у их подножий. С извилявшимися степными омутистыми речками, по крутым берегам которых, склоняясь долу, и там и сям прижились вечные плакальщицы ракиты.
С холмами, опупками, выпершими из недр земли, словно бы искусственно насыпанными давно исчезнувшими древними племенами – могильными курганами, источенными по солнцепекам сурчиными городищами, а по сиверам – густо заросшими волчевником и шиповником, надежным пристанищем тетеревов.
Но главное украшение нашей заиртышской степи – Монастыри – горный массив с его вонзившимися в небо конусообразными, подобными гигантским сахарным головам вершинами, в ясную погоду видными отовсюду за много-много десятков верст.
Куда бы ни заехал, Монастыри то в легком голубоватом флере, то словно с залитыми тушью гранями своих пиков высятся перед тобою, как путеводный маяк.
А тенистые их ущелья и то развалистые, то крутобокие лога и овраги с прозрачными родниками, бьющими из недр земли! И сколько же в этих логах малины, черной смородины и ежевики!..
А примонастырские высокогорные озера и рядом с ними привольные «джейлявы»[6]6
Джейлявы – летние пастбища и стоянки казахов.
[Закрыть] с живописно разбросанными на них круглыми, как тюбетейки легендарных степных батырей, белыми кошемными юртами, со стадами овец, лошадей, коров, движущихся по вечерам к аулам сплошным потоком. Блеяние ягнят и козлят, звонкое ржание жеребят, мычание телят, привязанных у юрт на волосяных арканах, чтоб не высасывали пригнанных на дойку кобылиц и коров. Крики пастухов, досиза загорелых ребятишек, джигитующих на неоседланных конях. Оживленные возгласы казашек в белоснежных жавлуках, сливающих кобылье, коровье, козье, овечье молоко в кожаные бурдюки, в деревянные сбойки – на кумыс, на масло, на курт, на иримчик.
В воздухе плавают острые запахи овечьего сыра, кислой козьей шерсти. Летний вечер – самые счастливые часы дня на привольных джейлявах кочевников. У юрт зажигаются очажные костры. В казанах варится пахучая баранина. Слышится мелодичное треньканье домбр, заливистый смех девушек с звенящими от серебра косами, затеваются игры, песни. Здоровые, сильные люди: всюду жизнь, любовь, ревность. И все это необычно ново, ярко для горожанина…
Да, люба, люба охотнику-устькаменогорцу его родная заиртышская степь!..
* * *
Митяйка и я на дроф ехали впервые. И как все, что неизведано еще, запечатлевалось с особенной яркостью. Даже переправа на «самолете»[7]7
Самолет – плашкоутный паром.
[Закрыть] через Иртыш вместе с отрадненскими хохлами, как зовут устькаменогорцы степняков «тавричан», выходцев из бывшей Таврической губернии, возвращающихся домой с базара на своей пароконной бричке, и разговор Митяйки с ними о дрофах запомнились мне со всеми подробностями и интонациями медлительного, певучего их говора.
И старый, седой-седой, с какой-то даже про́голубенью, с темным и твердым, словно подсохший боб, до глянца выдубленным солнцем лицом хохол и, видимо, его сын – еще совсем молодой, с только-только режущимся черным усом, широколицый парубок, в одинаковых домодельных коричневых свитках, на вопрос Митяйки – появились ли на их полях дрофы – долго глубокомысленно молчали, переглядывались между собою, словно никак не решаясь выдать важную государственную тайну, и наконец старик разродился невразумительными, с какой-то натугой произнесенными словами:
– Та черты ихы батька знае – мабуть и прийшлы, тильки мне до них ни якого дила… Вот, мабуть, Опанас бачив…
Но и Опанас после такого же длительного раздумья тоже не обрадовал Митяйку и еще тягучей, точно с невероятным усилием выкатывая из глотки каждое слово, пробубнил:
– У прошлую годыну гуртовались, а нони ни бачив… Да и ни к чему они мне ваши дрохфы, тильки зазря хлиб жруть… – Оттрудился и с полнейшим равнодушием отвернулся от Митяйки.
Все это и мне, и Ивану, и Володе показалось таким смешным, что мы не смогли удержать улыбок.
И только возмущенный Митяйка (как это можно не интересоваться дрофами?) плюнул и проворчал:
– Его даже дрофы не интересуют! О штоб ты сдох, мазница!..
Мы уже переправились через Иртыш, уже проехали казачий поселок Меновное, а оскорбленный в самых сокровенных охотничьих своих чувствах Митяйка все еще ворчал:
– Ну и жмот – потерянных колосков на жнивах пожалел!.. И харя-то какая-то, как ржаная булка!..
* * *
За первым же подъемом на невысокий мягкий увал, с которого нам открылось ровнейшее плато ковыльной степи, лишь кое-где тронутое плугом, Митяйка уговорил Ивана и Володю взять бинокли: «Чем черт не шутит… А вдруг да!..» Мы стали готовиться к встрече с дрофами. Иван и Володя в минутные остановки, встав на подножки линейки, осматривали каждый свою сторону. Я и Митяйка затаенно ждали результатов их наблюдений. Но ни тот ни другой, не удостоив нас ни одним словом, молча опускались на линейку, и я вновь трогал лошадей. Снова под колесами линейки однотонно шипел зернистый, хрустящий песок.
Обширное плато за первым увалом было столь ровно, что идущая по нему чуть-чуть наи́зволок дорога словно бы упиралась в небо.
Все дальше и дальше ходкой дорожной рысью уносили нашу «охотничью каравеллу» добрые, резвые кони. Казалось, что и лошадей радует и гладкая, шипящая под колесами дорога, и манит широкий простор степи.
Вот мы уже и переехали обмелевший, только-только замочивший ободья нашей линейки, бурный весною Караузек, с полосой прикараузекских пашен, а даже и признака дроф не было. По рассказам же старика Корзинина, еще лет с десяток тому назад дудаки попадались и не доезжая первого увала. «А уж с Караузька – повсегда начинали охоту. И сколько же мы ее били! А что этого, дудачьего пера по степу, как в добром курятнике!..»
«Исчезает, в глубь степей уходит дрофа. Прав Иван, что удержал выезд до времени: не раньше, как за сотню верст встретим мы их…»
Погруженный в думы, я не заметил, как сидевший с противоположной от меня стороны глазастый Митяйка, спрыгнув с линейки, схватил что-то с придорожного полынка и, повернувшись к нам, ликующе крикнул:
– Во-о-от он-о-о, ро-о-одное!
В юношески-звонком крике Митяйки было такое же ликованье, какое, очевидно, было в голосе колумбийца-матроса, который первым увидел землю. Крупное желтое, изузоренное черными и белыми вилюжинами перо дрофы, с чуть розоватым подпушьем, переходило из рук в руки.
Внимательно рассматривавший перо Иван уверенно сказал:
– Со спины. Срубленное картечиной, со скользом – без крови…
– Кузнечане! Будь они прокляты!.. Я говорил тебе, братка, надо было раньше. Я их – заполошных, знаю. Они и сами не убьют, а нам нагадят… Вот еду и все мне кажется – вычистили они уже все!.. – с тоской в голосе закончил Митяйка. Но улыбавшийся одними губами Иван, не обращая никакого внимания на причитания братца, сказал:
– Трогай, Николаич. До Джакижанычева озера засветло во что бы то ни стало надо успеть добраться…
И «каравелла» вновь покатила по гладкой степной дороге.
«…Такое же оно, как было тогда, или обмелело, усохло?» – думал я, подъезжая к довольно высокому и далеко протянувшемуся по степи сланцевому хребту, у подножия которого раскинулось запомнившееся мне на всю жизнь богатое разнообразной дичью степное озеро Джакижан.
На злополучном этом озере у меня, тогда еще тринадцатилетнего юнца, разорвало мой первый шомпольный дробовичок. И водонос и конюшонок у квартировавшего в доме моих родителей страстного охотника, отставного подполковника Жузлова, – я скопил три рубля. Дробовичок мой мне казался верхом изящества и сокрушительности по бою.
За усердие, с каким я ухаживал за лошадьми подполковника, он взял меня с собою на охоту на озеро Джакижан, где и случилось это несчастье.
Наш стан на восточном берегу озера, за́води, плавуны, обширное главное плесо, высокие кочки на берегу, прибрежная темно-зеленая осока и густые камыши – все, все стояло перед моими глазами.
Иван, очевидно, чтоб скоротать время в дороге, рассказывал нам о своих прежних охотах и ночевках на Джакижане, а я видел себя подкрадывающимся к уткам, в азарте первых удач, позабывшим обо всем на свете.
«Узнаю ли я то место, на котором я зачерпнул в стволик тины и выстрелил?..»
Мы поднялись на гребень хребта, и я невольно остановил лошадей. Когда-то подступавшее к самому подножию хребта, уходившее в глубь степи, ныне же далеко отбежавшее, уменьшившееся вдесятеро, словно безнадежно больное, умирало оно в безводной степи.
Высохли, исчахли изглоданные скотом густые когда-то камыши. И даже ископыченные в пыль отарами овец и коз, высокие, жирные кочки выглядели жалкими бородавками на солончаковом приозерном лугу.
И все же я узнал место нашей стоянки по чудом уцелевшей наусух-высохшей, когда-то косматой зеленой раките, вблизи которой был колодец с холодной пресной водой.
А главное плесо? От него осталась обмелевшая лужа не более полуверсты в окружности, обрамленная реденьким камышком и рыжей осочкой. Правда, и на ней мы увидели немало утьвы, преимущественно чирков, широконосок и лысух, но каким же все-таки жалким выглядел когда-то полноводный, зеленый Джакижан, на котором в огромном количестве водились и шилохвости, и кряквы, и атайки.
– Двигай, Николаич, засветло надо успеть запастись свежинкой на добрую жареху, – разомкнул уста наш молчаливый шеф-повар, слесарь Володя.
Я тронул лошадей, и мы быстро скатились на облюбованную лужайку, недалеко от засохшей ракиты с ее колодцем.
В минуту лошади были распряжены, с задка долгуши снят вместительный фанерный ящик с кухонным хозяйством Володи и даже лучиною для растопки костра в степи на случай мокропогодицы.
Больше всего волновался шеф-повар:
– Вот что, братцы, вы идите за птицей, а я и сухих конских котяшков пособираю, – они пожарче любых березовых дров будут, и за водичкой, и картошечки-моркошечки, лучку для жарёхи начищу…
Обрадованный Митяйка (он боялся, что его оставят собирать аргал) быстренько опоясался патронташем, взял в руки ружье и кинулся было на озеро «обзирать окрестности»: еще с хребта зоркий его глаз приметил себе мысок с осочкой и камышком, глубоко вдававшийся в середину плеса. Но бригадир остановил его: скатившееся за горизонт уже более чем наполовину солнце красной закатной своей краюшкой золотило и небо, и жалкие остатки разрозненных кочковатыми перемычками, словно осколки разбитого зеркала, озерных лужиц. Вот-вот и погаснет оно.
И в степи, как всегда, сразу же вплотную прихлынет огромная темная ночь.
– Вот что, Митенька, ты со своими самоходными астрилябиями моментом убежишь на ту сторону Джакижана, а как только мы с Николаичем сядем в скрады, и я тебе свистну – стрель по первым попавшимся. В крайности – вхолостую…
И как же перекосилось лицо Митяйки от плана старшего брата: «Раз стрелю первый – вся утка шарахнется на них, а ты щелкай зубами!..» Но возражать бригадиру на охоте, да еще на дрофиной, не решился, и через несколько минут на своих «самоходных астрилябиях» Митяйка уже огибал западную кромку Джакижана.
Мы с Иваном тоже взяли ружья. Он – дореволюционную тулку шестнадцатого калибра, я, не доверяя своей зауэровской двадцатке, по совету друзей, на дрофиную охоту вооружился навотновскои садочницеи десятого калибра. С непривычным ощущением ее громоздкости и тяжести вложил увесистые пузатые патроны, снаряженные шестеркой, и мы пошли.
Иван направился к тому самому мыску, о котором мечтал Митяйка. Я было хотел остаться на ближней излучине озера, но бригадир удержал меня:
– Пойдем вместе, Николаич, от первого же стрела Митьки она вся пойдет вдоль мыска, и ты со своей пушкой только норови в разбор, в разбор табуна – сразу вывалишь целую улицу. А я по близу на подхвате буду…
Мы засели на длинном, хорошо укрывшем нас камышистом мысу недалеко друг от друга.
Иван свистнул и раз и другой, но пришипившийся на противоположной стороне Митяйка молчал. А солнце уже скрылось, и только оранжевые его отблески еще полыхали и в небе и на замалиновевших лужицах озера.
– Вот, чертов хитрован, никак не лопнет: ждет, когда мы откроем огонь! – проворчал Иван и, не выдержав, сердито крикнул: – Стреляй ссу-у-к-ки-ин ко-отт!
И только тогда Митяйка «лопнул».
Вслед за его выстрелом, гулко многократно повторенным в ущельях близлежащих гор, все сущее в кочках, в осоке, в камышах Джакижана с испуганным кряканьем поднялось в воздух.
Табун жировавших на плесике чирков-трескунков, летевших над самой водой, вывернулся из-за нашего мыска и налетел чуть ли не на голову Ивана, но он пропустил их и, подсвистнув мне, крикнул:
– Помни, в разбор!..
Заметившие Ивана чирки шарахнулись от него и перед моей засидкой всем табуном подставили себя на самый выгодный для стрелка боковой выстрел.
Раз за разом громыхнув по ним из своей садочницы, я действительно вывалил из табуна «целую улицу».
Поднявшееся с Джакижана все птичье царство заметалось надо мной и над Иваном. Но я уже не стрелял больше, и потому, что плохо различал в темноте налетающих птиц, и спешил засветло собрать убитых и подраненных мною чирков.
Один за другим гремели дуплеты Ивана, и каждый раз с сочным шлепком, падали в воду, в грязь убитые им утки.
На противоположной стороне несколько раз выстрелил и Митяйка. Было уже совсем темно. С собранными чирками я подошел к стоящему во весь рост Ивану и был свидетелем совершенно изумительного дуплета: точно камни, выметнутые из пращи, стремительно неслись два чирка, и, словно сожженные двумя снопами красного огня, взлетевшими в воздух, они упали у моих ног.
Четырнадцать утиных душ – чирки и широконоски – вот трофеи нашего внезапного налета на Джакижан.
От пылающего костра, пахнувшего кизячным дымком, навстречу нам выбежал успевший уже вернуться Митяйка. В руках он держал какую-то большую, узкую, нескладно-длинноногую, длинноклювую, с редким рыхлым оперением птицу.
– Фи-и-и, какой дребедени набили: чирчишки, широконожки, – умышленно переиначил он название соксуна-широконоски. – А у меня, Николаич, – косая сажень мяса! Вот! – И он протянул нам свою добычу.
– Смотрите – желтая-прежелтая, один жир!..
Иван взял птицу, взглянул на нее и, размахнувшись, швырнул в темноту ночи.
– Ухалица, лягушатница! – презрительно сказал он огорченному Митяйке.
* * *
Первая ночь в степи! Жаркое синеватое пламя от насохших, как порох, шариков конского аргала, клокочущее в котле, залитое жиром ароматное утиное жаркое, сердито плюющийся в носок вскипевший чайник, пахучий кизячный дымок, таинственное молчание ночи, вплотную – до самого костра, а отвернись – до самых ресниц окутавшей огромную, живую степь, – забуду ли я когда-нибудь эту первую ночь на пороге неизведанной, заманчивой долгожданной охоты на дроф!
Должно быть, и мои товарищи испытывали нечто подобное. Мы как-то необычно быстро, почти молча, поужинали (на зорьке, по холодку, до жары собирались добраться до основных дрофиных мест), устелились, укрылись потеплее, а ночь, как и предполагал бригадир, была холодной, и легли. Вскоре Иван и Володя заснули. Беспокойно ворочался только одержимый неуемной охотничьей страстью Митяйка, да лежал с открытыми глазами я.
Вскоре из темной мглы ночи над дальним краем степи выплыл кривой, сильно ущербленный месяц, пропали мелкие и вырезались крупные низкие звезды, как-то необычно знобко дрожащие, словно золотые махровые астры.
От ущербленной луны, от крупных дрожащих звезд, чудесно преображая ковыльную степь, катились зеленые волны.
Я смотрел на небо и слушал ночь. Величавый звездный шатер, казалось, колыхался перед моими глазами. И все та же вселенская тишина комарино звенела в моих ушах. Изредка она нарушалась лишь всхрапами наших коней, пасущихся по близу с долгушей, на сочной отаве.
Даже утки не крякали на Джакижане: напуганные нашими выстрелами, они разлетелись на дальние озера и на речку Уланку.
Кажется, все же я засыпал, но, очевидно, на малые минуты и снова смотрел на небо, на степь, покрывшуюся блестками инея: «Значит, день будет жарким, а это самое главное для удачной охоты на дроф». В притушенных усталостью мыслях смутно, как на недопроявленных пластинках, одна за другой проносились картины охоты на степных гигантов, где-то доживающих свою последнюю ночь.
* * *
И я и Митяйка проснулись одновременно: на востоке только-только начинало отбеливать.
Вслед за нами поднялся Володя и, шумно отфыркиваясь, начал умываться из брезентового конского ведра. Мы тоже присоединились к нему – сбросили шапки и ватники. На темной, сочной зелени отавы и даже на ворсе моей барсучьей дохи, под которой я спал, матовым серебром отсвечивал иней. Ледяная вода приятно обжигала, освежала лицо. Предзаревое холодное утро, близость встречи с дрофами словно наливали нас такими запасами энергии, что мы не знали, на что нам израсходовать ее. Митяйка поймал лошадей и, захватив ведро, повел их к колодцу на водопой. Володя уже разогревал остатки от ужина и кипятил чай. Мне не терпелось начать укладку постелей, но бригадир, любивший, как говорил о нем Митяйка, понежиться под тулупом, еще лежал и иронически посматривал на обуревающее нас нетерпение.
Но вот поднялся и он и благодушно заговорил:
– За такую ночь убитой, нахолодавшей дрофе никакой дневной жар не страшен, только призакрой от солнца, и все равно что на леднике – антик-маре с гвоздикой!..
Митяйка рысью примчал к долгуше и, насыпав в торбы овса, подвесил их лошадям.
– Жуйте на доброе здоровье, ребятушки! Теперь все от вас зависит: сколь полопаете – столько и потопаете… – И он любовно похлопал Барабана и Костю по тугим их бокам.
От лошадей Митяйка было метнулся к нашим постелям, но я отстранил его, свернул и, тщательно уложив одежду на линейку, прочно, как это было сделано вчера стариком Корзининым, увязал ее веревкой. Только патронташи, ружья да два бинокля оставил сверху. Вблизи костра, на отаве, валялась брошенная вчера бригадиром убитая Митяйкой выпь, невольно остановившая мое внимание. Я много раз поднимал на охотах выпей, всегда державшихся в страшных крепях, сотни раз слышал их протодьяконски-октавистое буханье весною, так гармонически дополнявшее разноголосые ликующие весенние концерты птиц в утренние и вечерние зори. И вот теперь – растрепанная, с окровавленными и намокшими от инея редкими, встопорщенными перьями, тонкая, словно вытянутая в длину – «косая сажень мяса», как удачно назвал ее Митяйка, показалась мне такой безобразной и в то же время так ненужно загубленной, что я не утерпел и с горечью сказал:








