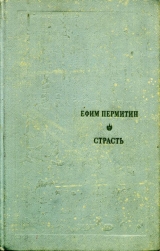
Текст книги "Страсть"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
МАТЮША
Талантливый, искренний до последнего слова автобиографический рассказ-быль «Феноген Семенович», написанный почти сто лет тому назад забытым сейчас Ф. А. Свечиным о его первом учителе в сложном увлекательном деле охоты, напомнил мне ничем не похожего на него человека, но также много повлиявшего на формирование моего характера, – Матвея Матвеевича Коноплева. Прочтя его, я уже не мог избавиться от воспоминаний о той же юношеской своей поре, поре первых охотничьих шагов, протекавших и в иное время, и в совершенно иных условиях: такова сила подлинного искусства – воскрешать в душах людей давно забытые воспоминания.
Прочел и, перенесясь в ту же пору своей жизни, с волнением ворошу в памяти дорогие мне лица людей, события, как зачарованный не могу оторваться от них.
Вот она – жалкая пашенная, сложенная из грубого саманного кирпича избушка с одним окошком, с исстрелянной дробью дверью. Рядом с избушкой – многоверстный, заросший черемушником, хмелем и непродорным ежевичником глубокий овраг с крутыми глинистыми берегами, на дне которого плещется, шумит ручей с прозрачной ледяной водой.
В тенистых, изобильных птичьим кормом кущах оврага испокон веков гнездились соловьи. «Соловьиный яр» – любовно звал свой овраг Матвей Матвеич.
Коноплевская пашенная избушка, с которой связано столько незабываемых воспоминаний охотничьей моей юности, и хозяин ее видятся мне не только как уютное и радушное пристанище от весенней и осенней непогоды во время выездов, вначале «в ночное», позже – на охоты, а как школа любви и понимания окружающего нас мира природы и первых юношеских раздумий о жизни.
Как сейчас вижу узкое, медно-красное от загара, точно у индейца, лицо, каштановые, чуть вьющиеся волосы, высокий гладкий лоб, под темными густыми бровями пытливые серые, широко расставленные глаза, строго очерченный энергичный рот Матюши.
Мне тогда было только тринадцать лет, а ему двадцать один. Он уже был женат, я же еще бегал в приходскую школу, но и тогда нас уже связывала крепкая дружба: охота сравнивает лета, звания и даже состояния.
Как всегда в субботу, «после па́ужна», сунув за пазуху узелок с куском хлеба и парой запеченных вкрутую яиц, вскочив на сытого Гнедчика, я спешил «в ночное» к своему другу.
В субботу с пашен в город навстречу мне ехали мыться в банях, отдыхать усть-каменогорские «безземельные пахари», но Матюша и в воскресенье оставался на пашне: он ждал меня.
Вот и спуск в крутой Соловьиный яр. Еще издали Матюша заметил меня и что-то нетерпеливо кричал, махал руками.
Я подстегнул Гнедчика и на маха́х вылетел на яр.
Подбористый, статный, перетянутый в талии поясом, в выгоревшей от солнца одежде, в порыжелых полуболотных сапогах, с радостно улыбающимися глазами – он мне всегда казался воплощением мужской красоты, охотничьей ловкости и какой-то детски-восторженной чуткости к окружающему миру природы.
Беззаветную преданность и преклонение вызывала у меня и кипучая, какая-то, как казалось мне, веселая энергия Матюши: он ни минуты не оставался без дела. И даже самую трудную работу, такую, как косьба вручную, метка стогов в летнюю жару, копка ям для яблонек и вишен, выполнял словно бы играючи.
За годы нашей многолетней неразливной дружбы я не видел Матюшу озлобленным, удрученно-расстроенным. Какие бы глубокие раны ни наносила ему жизнь, он не терял высокого романтического настроя своей души.
– Как хорошо, Фимушка, что не опоздал. Путай Гнедчика и пойдем. Вечер-то какой, теплынь! Вот-вот начнет! – поспешно выговорил Матюша. Съерзнув с коня, я быстро спутал его, сбросил узду, и мы, спустившись в яр, направились в тайничок.
Бесшумно скользя, осторожно раздвигая цветущие черемухи, Матюша изредка оглядывался на меня, и в расширенных глазах его были все то же восторженное ожидание предстоящего наслаждения и счастье, что эту радость вместе с ним разделю и я – его верный молодой друг.
Пришли. Засели в гуще терпко пахнущего черемушника.
Тихо. Ни шороха, ни звука. Только у самых ног немолчно, бойко лепечет шустрый ручей. А синяя майская ночь все близилась, все укутывала кустарники шелковым покрывалом. Я уже не видел лица Матюши и только ощущал его дыхание, слышал приближенный к самому моему уху шепот: «Что-то запаздывает, но нишкни, – вот-вот ударит!..» Мне даже показалось, что Матюша дрожит от нетерпеливого ожидания, и оттого я тоже начал дрожать.
Заря, дотлев, погасла. Одолевая синеву ночи, чеканно серебря купы черемух, медленно-медленно выплывала луна. Беззвучье ночи стало еще ощутимей, торжественней. Казалось, переплеск ручья и тот замер в том же напряженном ожидании, как замирает огромный зал в ожидании первых звуков голоса на весь мир прославленного певца.
И он грянул!
Матюша схватил меня за плечи и не сказал, а радостно выдохнул: «Он! Я все боялся – могли поймать, мог умереть. Теперь замри и слушай!..»
И мы, забыв обо всем на свете, слушали звонкоголосую душу властелина майской ночи. Слушали, покуда не изнемог смолкший от неистовой любовной страсти певец.
Сколько времени прошло, ни Матюша, ни я не представляли. Большая, круглая луна уже выкатилась полностью, уже плыла по безбрежному простору неба. Теперь она так щедро лила на землю свой далекий голубой свет, что не только листья черемух, сказочно ожемчуженный ручей, но даже и лицо Матюши поголубело. А мы всё сидели, всё ждали. И даже когда уже смолк этот диковинно-редкий, как говорил о нем знаток соловьиного пения Матюша, «один на всю округу богоподобный певун», нам казалось, что все еще раскатисто гремят его до ключевой прозрачности отработанные многочисленные колена на весь яр и что не только каждое из них, но и каждый отдельный звук его глубоко уходит в притихшую зачарованную землю.
Наконец Матюша поднялся. Поднялся и я. Но и поднявшись, мы долго молчали. Вдруг Матюша склонился к моему уху и сказал: «Еще раз послушать такого и умереть!» На глазах его блестели слезы…
В избушке Матюша засветил висевшую над столом лампу. От той же спички разжег плиту, поставил на нее прокопченный чугунок с очищенным картофелем на «охотничью кашу» и чайник для «охотничьего чая». Потом постелил на нары кошму, положил в изголовья по подушке и только тогда присел на скамью. Все это он проделал не спеша, как-то по-своему – обстоятельно, домовито. Мне нравилось наблюдать, как Матюша готовит ужин, колдуя деревянной толкушкой в чугуне, то добавляя в кашу сметаны, то сливочного масла.
От каши на всю избушку валил раздражающе-аппетитный пар, а он все колдовал и колдовал над ней. Так же тщательно и тоже по-своему он заварил до смоляной крепости «охотничий чай». Дав упреть заварке, влил в чайник топленого молока и тоже, сдобрив сливочным маслом, снова довел кипяток до требуемого градуса. Зато это были и каша и чай! Мне казалось, что никто, кроме Матюши, не сумеет приготовить столь вкусно ни «охотничью кашу», ни «охотничий чай».
В нерушимом молчании мы поужинали и, потушив лампу, бок к боку, легли на нары. Не спали. Я знал, что Матюша обязательно заговорит. И он, действительно, заговорил:
– Я этой, соловьиной-то ночи три года вот как ждал! Понимаешь, Фимша, в тюрьме, в ссылке тосковал по своему соловью. Один он с такой бесподобной «лешевой дудкой», с гусачком, с кукушкиным перелетом, с дроздовым на́криком…
Ведь и соловьи, как люди, – один трескун бездушный – пустозвон, другой – пронзительный сладкозвучец… А такой, как этот, – один из тысячи! Для меня он, как одна-единственная в мире женщина, которую любишь, краше которой не было и нет.
Загнездился он здесь еще за два года до моей ссылки. И я гнездо его содержал в великой тайности. А чтоб поймать! Да разве возможно такого редкача в клетке морить?! Это все равно что Пушкина бы или Шаляпина да в тюрягу упрятать!.. Соловей такой отменной страсти обязательно гордяк. Да еще, если его от гнезда, от соловьихи словить – умрет с тоски!
Матюша замолк. Я тоже ни одним словом не отозвался: знал, что не любит он, когда прерывают его. И действительно, Матюша вскорости снова заговорил:
– И ведь это поразительно, во всех коленах – кристалл! Ни единой помарки. А другому он что есть, что нет. Которому даже спать мешает. Глухие и слепые к подобной красоте – немтыри, что грибы-поганки. Ему, эдакому глухарю, разорить гнездо, выбрать запаренные утиные яйца, задушить подлетыша тетеревенка, срубить, сжечь любое дерево – ни думушки, ни заботушки…
Я так думаю, что тот, кто не чувствует красоты вокруг, не любит родную землю и всего себя для одной собственной выгодности приспособил, – тот не имеет права жить…
И опять надолго замолк Матюша. Но в этом его молчании я чувствовал кипение его мыслей, накопленных им за годы тюрьмы и ссылки. И напряженно ждал, что он рано или поздно заговорит со мною об этой полосе своей жизни. И не ошибся.
– Говорят, тюрьма – вторая смерть. И сам я поначалу так же думал. А не поверишь, Фимушка, и в тюрьме, и в ссылке я столько обо всем передумал, встретил таких людей, каких никогда бы не встретил и на воле в городишке нашем. И только в тюрьме по-настоящему понял, что такое свобода для человека, что такое природа для человека. Даже воробей за окном, какой-нибудь кустик жимолости, который до этого и не замечал никогда… Веришь ли, бывало, глухая ночь. В камере духота, вонь от спящих, от параши – не продохнешь, а я лежу на нарах и с закрытыми глазами ясно представляю себе каждый камень, каждую выбоину на дороге на нашу пашню, вот эту самую избушку, Шиловскую пойму и ранней весной, и поздней осенью. И ничего вокруг себя тюремного не вижу, не слышу, не чую. А наутро весь день с нетерпением жду ночи, чтоб снова остаться наедине с милыми местами. Вот она какова сила-то родной земли. Да как же, как не любить, не беречь ее!..
Я внимательно слушал его и все время силился представить себе жизнелюбивого Матюшу сидящим в тюрьме, – и не мог.
– Я так думаю, Фимша, что настанет же, верь мне, настанет время, когда люди поймут, что жить так, как живем мы сейчас промеж себя в злобе, в зависти, а государства с государствами в вечных войнах, – нельзя.
Матюша приподнялся на нарах и убежденно, пророчески-страстно закончил:
– Верь, придет такое время!..
Когда придет и какое оно будет, это грядущее время, я, конечно, не представлял себе, но что оно придет и будет нисколько не похожим на тепершнее, как и Матюша, был убежден твердо.
Мы проговорили до рассвета. Вернее, говорил Матвей Коноплев, а я внимательно слушал его. Но этого было вполне достаточно и ему и мне.
Как же любил я эти дивные вечера и ночи, проводимые с Матюшей в его пашенной избушке! И как мог я не помянуть добрым словом одного из первых учителей своих, точно волшебным ключом отомкнувших мне дверь в окружающий мир природы, пробудивших первые раздумья о жизни?
Повторяю, на воспоминания о Матвее Коноплеве натолкнул меня талантливый рассказ Ф. А. Свечина «Феноген Семенович». И именно склонностью своего героя тоже рассуждать о жизни и даже о литературе. Только рассуждал Феноген Семенович о них не так, как Матвей Матвеич. И весь склад характера свечинского героя – полная противоположность моему Коноплеву. Очевидно, эти явные диссонансы в какой-то мере и послужили первопричиной моих воспоминаний о Матюше.
Феноген Семенович – самоуверен, хвастлив, склонен прилгнуть. Матвей Матвеич – скромен и на редкость правдив.
Инспектор городского училища – старик Григорий Евграфович Борзятников – умный, много повидавший на своем веку страстный охотник, у которого учился и я и Матвей Матвеич, много раз бывавший на охоте с нами обоими, добродушно улыбаясь, говорил о Матюше: «У него один порок – он всегда говорит правду. И я так думаю, – из гордости: солгать значит не возвысить, а унизить себя».
Герой Свечина чрезвычайно скуп – всю жизнь носил на шее неприкосновенным бумажник со скопленными тысячью рублями, а у товарищей по охоте выклянчивал порох и дробь.
Матвей же Матвеич готов был снять с себя рубаху, разделить последний заряд.
Как и Матвей Матвеич, Феноген Семенович много читал, но из всех классиков признавал только Карамзина. Встретив в какой-либо книге яркую мысль, он непременно говорил: «Игра ума Карамзина!» Из Державина и Ломоносова кое-что знал даже наизусть, но остальных писателей за то, что они «все пустое писали», презирал, в особенности Пушкина и Тургенева. Пушкина – за то, что в «Кавказском пленнике» он все «неправду написал», так как он, Феноген, и «самого этого пленника, казака, знал, и жеребца, который весь был в клеймах, знал, и самую эту черкешенку знал, и вовсе она не утопилась, а казак увез ее на этом жеребце, подхватив под мышки, и жила она после в Туле, и знал он и ее, и была она просто распутная девка». Тургенева же не любил за то, «какой он был охотник, когда самого настоящего охотника (Ермолая), что богом стрельбы прозывался и которого он сам хорошо знавал и с ним охотился, не вправде, а в насмешке описал, и ничего у него в «Записках охотника» про самую охоту-то и нету, а так «дребедень разная написана».
«…Стракулисты, а не сочинители… Хоша Пушкин этот, вот Тургенев тоже, что про охоту взялся писать, да не написал. Господина Лермонтова сочинение что об дьяволе рогатом, нашел тоже об чем сочинять… пус-то-та…
…Тоже вот надысь читали – Гогель – что ли, еще птица такая есть… из уток-то – то пустой, про души про какие-то про мертвые выдумал… и слушать-то скверно, вот что, господа милые…»
Матвей Матвеич до страсти любил литературу и не только много прочел, но и нам, мальчишкам-ночлежникам, в ночном слово в слово читал поэмы Пушкина, пересказывал рассказы Короленко и Горького, иной раз пристраивая к ним другие начала и концы. Особенно к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Причем, очевидно борясь с суевериями, после самых страшных рассказов о чертях, колдунах и ведьмах (рассказы о них Матюша обычно приноравливал к непроглядно черным ночам) одного из нас посылал в яр то за водой для «охотничьего чая», то за сметаной, хранившейся в холодном ручье, – для «охотничьей каши».
И боже ты мой, как же тряслись поджилки у посланца! Как не хотелось показать робости!..
Но не только контрастами главных персонажей пленил меня давно и совершенно несправедливо забытый талантливый Свечин, покорил он меня глубоким чувством русской природы, уменьем без подмалёвки, правильно и проникновенно, как пейзажи Саврасова, открывшие нам поэзию сереньких мартовских дней, Левитана – очарование золотой осени, показать их не с чужих, ранее его кем-то написанных слов, а увиденных своими глазами и по-своему:
«…на горизонте показалась огромная туча. В белый свиток свертывалась она и сплошною черно-лиловою под нею полосою постепенно поднималась выше и выше. Изредка из нее отвесно падала молния, вдали глухо погромыхивало, и все, после продолжительной засухи, предвещало недоброе.
Спокойствие воздуха было поразительное. Ни один листик не шевелился. Отдельно, выше других стоявшее золотистое облако, освещенное еще лучами заходившего с другой стороны солнца, вспыхивало, отражая молнию, сверкающую в большой туче…» Или вот еще – короче: «Рассветало, костер потухал и слабо тлел, выделяя чуть заметный дымок, изредка, по серой, пепельной поверхности перебегали яркие искры, все спало кругом, только против освещенного зарею горизонта, на самой опушке леса, резко вырисовывался силуэт Феногена, обращенный к востоку. Губы его шептали молитву, и он набожно, медленно крестясь, клал поясные поклоны…»
И потухающий костер, выделявший чуть заметный дымок, и изредка по серой пепельной поверхности его пробегавшие яркие искры, и на фоне зари силуэт молящегося Феногена – мог увидеть только зоркий глаз подлинного художника.
Дважды перечитал я рассказ Ф. Свечина, и оба раза передо мною вставала незабвенная пора моей охотничьей юности, неразлучным спутником которой, как у Свечина Феноген Семенович, у меня был Матвей Матвеевич, преподававший мне уроки познания природы, развивший страсть к охоте, к отборному русскому слову, которое он так же любил, как охоту и родную природу.
– Понимаешь, Фимушка, хрушкое-то (весомое, крупное) слово, как соль ко щам, масло – к каше.
Резкий северный ветер, срывающий последние листья с деревьев, Матюша называл «сиверьян-листобой». Равнодушного, вялого человека, тупую, ленивую лошадь именовал одним выдуманным им презрительным словом «хлынь».
За долгую, в три четверти века, нелегкую мою жизнь, куда бы ни забрасывала меня судьбина – в сырые ли, вшивые окопы первой мировой войны, на суровые ли щетинистые темные уральские перевалы в злое лихолетье колчаковщины, в раскаленные ли пески Казахстана, – как райский оазис перед моими глазами вставал далекий зеленый Усть-Каменогорск. С расширенными глазами впивался я в до боли знакомые очертания родных гор, чутко ловил могучий басовито-рокочущий гул стремительных перекатов многоводного Иртыша и лихой, порожистой Ульбы.
В клубящейся ночной тишине мне слышались с детства памятные звуки пашенных птиц – отрывистый, придушенно-страстный бой перепелов, подобное скрипу напильника по железу немолчное дергание коростылей в лугах Шиловской поймы, близ пашенной коноплевской избушки.
Звуки эти не только чудились мне, но, кажется, они жили в моей крови, в мозгу, насквозь пронизывали душу. И неизменно, как по волшебству, перед глазами возникало медно-красное, загорелое лицо и самого хозяина избушки – Матвея Коноплева.
Глухая, черная, с секущим пронизывающим дождем октябрьская ночь одной из многих канувших в Лету суббот. Помывшись в бане, на коноплевских дрожках с впряженным в них большеголовым мерином Карькой, по раскисшей дороге мы не едем, а как бы плывем по грязи к пашенной избушке: завтра день открытия охоты по зайцам.
– Беляк взматерел и выцвел. В ярах рядом с избушкой, почитай чуть ли не на самых нарах. Сила – не перечесть! Натрапились на бахчу, в садик с яблоньками – отбою нет. Никакие чучела с трещотками не помогают. Не зайцы – башибузуки! И это осенью, а что будет зимой?!
Я слушаю и дрожмя дрожу не от холодного «листобоя» – от охотничьего азарта: «за всю свою жизнь» я не убил еще ни одного зайца. И хотя стрелял по ним не раз, но от расширения зрачков, как говорит мой учитель, пока что не в беляка, а в белый свет.
– Уж больно ты горяч, Ефимша, однако не унывай – на друга уповай – научу. Глаз у тебя соколиный, постреляем – ухладнокровишься. Выскочит. Прежде чем нажать гашетку, сосчитай до трех!..
Я клятвенно заверил Матюшу, что уж теперь-то я все, все понял.
Но вот миновали мы и опасный в темноте спуск к дырявому мостику в пойму и подъехали к избушке. А дождь все льет и льет. Мы распрягли и отпустили Карьку. Матюша открыл дверь, засветил лампу и растопил плиту.
Не знаю, спал ли я в эту ночь. Только заведу глаза – и пушистые зайцы-беляки, нагло ощерившись, с презрительно вздернутыми губками-раздвоешками, один за одним, издевательски неторопливо безнаказанно проскакивают мимо меня. Шомпольный дробовичок ходуном ходит в моих руках, а я, как ни силюсь унять дрожь, как ни жму на гашетку – не могу выстрелить. А «наглые башибузуки» все бегут и бегут…
Ночи не виделось конца. Я уже несколько раз выскакивал за дверь: не светает ли, не прекратился ли дождь, не стих ли ураганный ветер? Но на дворе все так же было темно, так же бесновались и дождь и ветер. «Господи, да неужто, неужто не стихнет?!» И снова к Матюше под тулуп. И вновь зайцы-беляки – один за другим… Все же под утро я, должно быть, заснул, потому что, когда вскочил с нар, у Матюши уже был согрет чайник.
– Одевайся и для продирону глаз выпей кружку крепкого чая!
Столько прошагало годов, прозвучало слов за это время, а я все слышу до мельчайших оттенков голос Матюши, помню каждое его слово, вижу каждое его движение. Но вот пил ли я чай или не пил, хоть меня убейте, – не помню!.. И не помню, как одевался. Зато отчетливо вижу, как Матюша, с какой-то одной ему свойственной грацией, закинув свою шомпольную двустволку за плечи, машинально поправил фуражку и вышагнул из избушки. Дождь и ветер, очевидно, вняв моим мольбам, стихли. В воздухе заметно похолодало. Из низко опустившихся свинцовых туч медленно, медленно, словно нехотя, на примолкшую, усыпанную сорванными с кустарников листьями землю опускались первые хлопья снега…
И все же я убил зайца! Правда, убил, как говорится, не без некоторой посторонней помощи. Вот он – снежно-белый, пушистый, вытянувшись во весь рост, с черными глазами и кончиками ушей, с щетинистыми черными усами, на которых капельками запеклась кровца, – лежит передо мной на блеклой траве. Я поднял его за задние ноги.
Как бы сами, сильно, из глубины души не написались – вылились чьи-то, свои ли, чужие ли, вдохновенные слова: «В охоте, несомненно, тоже есть элемент сказочности, счастливый уголок и трогательный отблеск нашего детства, что-то от Синей или Жар-птицы, от Ивана-царевича на Сером волке, от Аленушки на бел-горючем камне, от заповедных кладов и огней Ивановой ночи… Без чувства поэзии, без ощущения сказочности природы нет ни охоты, ни охотника…»
До́роги, до́роги мне родные места, но думается, втройне до́роги и молодые мои годы жизни рядом с Матюшей, преподавшим мне немало в познании природы и не хищнической, а разумной охоты, нацеленной не на истребление, а сохранение и приумножение природных наших богатств. Сколько раз мысленно я возвращался к своему учителю, и отблеск тех дней горит у меня в глазах даже и сейчас.
Не забыть, какую пропарку задал мне Матюша, когда я, учась стрелять, «красиво срезал», как казалось мне, дятла, упоенно выстукивавшего барабанную дробь на старой сушине.
– Ну и как, ка-а-ак тебе не стыдно, Ефимчишка, – впервые уничижительно назвал меня он, – такого музыканта и в како-о-ое время убил!.. Живая природа – это тебе не тир, не амбарная дверь!.. Да знаешь ли ты, что испреполезнейший лесной лекарь сейчас даже не для пропитания работал, а, как соловей, любовную песню пел, чтобы покорить, привлечь на гнездовье самочку…
И Матюша рассказал мне, как самцы дятлы, соревнуясь в любовных турнирах, отыскивают, каждый по своему, дарованному ему природой музыкальному слуху, самую звонкую сушину и заставляют ее звучать неповторимым призывным тоном, в который вкладывают всю свою дятловую душу.
– Ведь весна же – пора любви, размножения. Нельзя жить сегодня, не думая о завтра. Смотри какие распа́ры – земля и то, разомлев, созрела для любви: в нее сейчас кинь одно зернышко – родит двадцать!..
Матюша был яростным противником весенней охоты – уж очень он любил в эту пору все живое и, как соловей в божественных трелях, дятел в барабанном бое, безмолвно вбирал в себя всю красоту окружающего его мира. Сам он весною не стрелял ни зверей, ни птиц: «рука не поднимается».
Сколько поснимал Матюша браконьерских капканов у согринских шкурятников, безжалостно душивших сурков в запрещенную весеннюю пору, порвал силков на тетеревиных и дупелиных токах. Сколько раз грозились его убить согряне, но Матюша был беспощаден.
Шиловскую пойму – излюбленные места наших летних и осенних охот с извилявшейся речкой Шиловкой, с бесчисленными отногами, бочагами и озерками, подобно ожерелью нанизанными на нитку, – Матюша знал так, что в ночь-полночь не только не сбивался с пути, но, кажется, даже и не запинался ни об одну кочку.
Я слепо следовал за ним и, как бы ни отмотал ноги, беспокоился лишь об одном – не отстать от него, шагающего летяще-легкой походкой. «Охотник должен быть с железными ногами», – говорил Матюша. И как порою ни «захаживал» меня мой неутомимый учитель – я крепился изо всех сил: вырабатывал «железные ноги».
Но все кончается. Кончились и детство, и юность. Мне было уже двадцать лет. После шрапнельного ранения в грудь с Западного фронта я приехал домой в недельный отпуск.
Кажется, никогда так остро не ощущался во всем моем существе приток новых сил, так неистово не хотелось жить, как в те короткие семь дней отпуска.
В канун возвращения на фронт выпала редкостная пороша: все бело, воздух и чист и свеж. И я и Матюша в прощальный этот день по пороше гонялись за волками, опьяненные солнечным ноябрьским днем, пушистой переновой, сверкающей мириадами блесток, упоительной скачкой за подозренным зверем, когда не замечаешь ни рвов, ни топких ручьев, слившись воедино со скачущим во все ноги конем, видишь лишь одного достигаемого зверя с поджатым поленом и вываленным языком…
Переживая радость удачной охоты, после которой властно подступает потребность поговорить о ней, мой учитель любил с загадом допустить мудреную фразу, рассказать веселый эпизод, а иной раз и импровизированную поэтическую легенду. И теперь он поведал мне не то вычитанную, не то сочиненную им бывальщину, в основе которой лежало прославление любимого мужского спорта:
– Однажды владетельный шейх сидел перед своей палаткой, окруженный старейшинами племени. К ним подошел араб и стал жаловаться, что у него украли осла. Не ответив ничего арабу, шейх обратился к собранию с таким вопросом: «Есть ли между вами человек, никогда не испытавший чувств, волнующих каждого на охоте с борзыми или с беркутом, никогда не скакавший на своем коне через чащу и пропасти, где рискуешь сломать себе шею ради того только, чтоб следить за любимой собакой, беркутом, спешащим к зверю?» Все молчали. Один только член собрания, возвысив голос, сказал: «Я никогда даже и не пробовал испытать удовольствие от подобных ощущений, потому что всегда считал более благоразумным сидеть дома и спокойно заниматься своим делом». Тогда шейх обратился к арабу: «Не ходи дальше искать своего осла, – сказал он ему, – ты уже нашел его – вот он. Накинь веревку на шею и веди его к себе».








