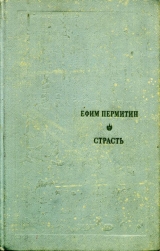
Текст книги "Страсть"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
К полуночи дождь перестал, но с низкого неба все же сыпалась и сыпалась, словно бы медленно оседала, густая морось, именуемая охотниками «мжичка».
Я наломал ворох сухого черемушника и все время поддерживал жаркий костер.
Миня разделся, развесил сушить «свою сбрую».
– Благодать у костерка-то. Люблю я огонь, Николаич, век бы смотрел на него. – Миня блаженно прижмурил глаза и еще ближе подвинулся к костру.
Узкая грудь и явственная гармошка ребер были туго обтянуты пергаментно-желтой кожей. Босой, голый, лишь в фуражке на голове, восседающий у жарко пылающего костра, Миня с гвоздями и напильником «шаманил» над моей двадцаткой. Сдержанный и даже молчаливый в обычной жизни, сегодня Миня разговорился. И говорил откровенно – от души, словно на исповеди…
Много наслышанный от своих земляков о чудаковатом слесаре, я столкнулся с Миней на охоте у костра впервые, и потому внимательно слушал «святую душу на костылях». От земляков же я знал, что больной слесарь ко всему прочему, кроме «душевного десерта», совершенно равнодушен. Но я даже и не предполагал такой фанатической увлеченности слесаря охотой, такого младенческого простодушия, какие обнаружил в Мине Минееве.
– Курортой полечиться, говоришь, Николаич? Куда там! Размысли – доступно ли нашему брату Михрютке это? Допустят ли меня эдакого до крымской-то санатории?.. – Миня сощурился и оглянул себя, такого жалкого в своей худобе. – Ни в жисть не допустят. Вот она, моя санатория! – Миня махнул костлявой рукой на примолкшие просторы Бужуров.
– Что вы, Миня! То есть как это не допустят? – попробовал возразить я, но Миня прервал:
– Погодя, не горячись, Николаич. Ну, положим, и допустили бы меня. Так я там, без охоты, на любых лекарствах, на любой пище через полгода в доски уйду. Бужуры меня только и держат…
Я знал, что в самом дальнем углу Бужуринской поймы, километрах в четырех от моего скрадка, тоже на мысу, на высоком берегу Талой, у Мини свой, довольно обширный, теплый шалаш, с окном, с дверью и даже со склепанной из жести печуркой.
«Не салаш – катеджа, зимовать можно», – хвалился своим летним пристанищем слесарь.
«А ведь, пожалуй, без Бужуров Миня действительно давно бы умер в гнилой своей избушке, в ней и здоровый-то долго не проживет», – подумал я.
А Миня все говорил и говорил о себе без каких-либо признаков самовосхваления – слабости, довольно распространенной среди охотников.
– Нет, без этих лугов, Николаич, без моих карасевых, линевых озер, без камышей, без охоты и жизнь не в жизнь. Подумай только: зима, буранище, в избенке сырость, чад, а я у горна за пайкой самоваров, не закрывая глаз, вижу свою катеджу в этих самых Бужурах ранней весной. Еще чуть-чуть дохнуло с полудня теплом, а уж она, моя безобманная верба-первовозвестница, что растет у самого порога, распушилась-высеребрилась, что хоть на колени падай и молись на нее! Тут луга начнут и сверху и снизу потеть, болотины по ночам сопеть, вздыхать, словно тесто в квашне. А потом Иртыш разливом как хлынет на них!.. Пробрызнет трава. В озерах, в старицах рыба заплещется. Прилетит птица и засвистит, закрякает, запоет. А уж как радуются, как любятся… Положишь ружье – стрелять не хочется. Слушаешь не наслушаешься, глядишь не наглядишься: одна другой голосистей, нарядней… Десятый год я словно бы светло Христово воскресение встречаю на благодатном своем мысу, а не поверишь, все едино, точно в первый раз, все внове… И понимаешь, Николаич, среди всей этой природности я себя губернатором чувствую. А любая санатория для меня – тюрьма.
Миня так ожесточенно стал опиливать гвоздь, придавая ему форму бойка, точно хотел распылить его в порошок.
– А осень! Инеек хватит траву, она высеребрится вся и, как весной, снова запахнет лимонатом. Журавли застонут в небе, и пролет начнется. Ну как же, как же тут утерпеть?! Да может, и пролет-то мой этот последний!.. – снова негромко, как-то притушенно повторил Миня больно резанувшую меня скорбную фразу.
Миня говорил, а худые руки его неустанно работали. Речь его текла плавно и мягко. Так говорят о давно продуманном, с чем уже смирились и ничего другого не ждут от жизни. На его иссеченном ранними морщинами, никогда не загорающем бледном лице в отблесках жаркого костра было удивительно добродушное выражение. Я не отрываясь смотрел на него. От охотников я слышал, что чудак Миня никогда не стреляет ни тетеревят, ни утят-подлетышей: «они же еще дети малые». Не ахнет он и в сгрудившуюся у куста на ночевку стайку серых куропаток: «двух-трех убьешь, а пяток заранишь». Не бил он и в лежащего, издалека видного во время чернотропа зайца-беляка: «ты к нему уже вплотную подошел, а он, бедняга, только ужимается. Ну, как его такого!..»
– Чудак вы, Миня, право, чудак: да ведь с первого октября, по черной тропе, охота на беляка законом разрешена.
– Закон. Что закон? Его и обойти можно. Совесть не дозволяет. А совесть не обойдешь… При случае прошу охотников, убеждаю, что такое подобное преступство и от бога грешно, и от людей совестно. Да где там!.. – Миня безнадежно махнул рукой.
Отложив напильник, он сидел, обхватив колени руками, и в глубокой задумчивости свесил голову на грудь.
– Да и разве могу я сладить с людьми? – после длительной перемолчки снова заговорил Миня. – Когда они не только зайца и птицу – друг друга норовят обидеть. Собака у меня – сеттерок – нежных кровей была. Стрункой звал. Уж так-то ли она помогала мне!.. Сосед-мясник сгубил: иголку всунул в кусок печенки и скормил ей. Человек ли он?! Самое дорогое губят. Разве это жизнь?..
Он вспомнил вдруг о юности, о любви:
– Когда мне было девятнадцать лет, и я, Николаич… Ну, одним словом, сам понимаешь… А ее в деревню, за бородатого пасечника вдовца-раскольника силком выдали. Узнал я – сердце у меня так и зашлось. Сказывают, тиранит нещадно…
Миня замолчал. К шалашу с жарким костром вплотную подступила осенняя темная ночь. Одежда Мини просохла, и он с удовольствием оделся.
Вскоре слесарь в колодку моего ружья вставил новые, удлиненные бойки.
– Возьми, Николаич. Эти не подведут… Теперь спать бы да спать – самый развал ночи, А спать не хочется, расшевелил я себя – до зари не усну.
Со старицы донеслось кряканье потревоженной кем-то птицы.
– Непременно хорек на берегу, а может, лиса на отмели, – как бы про себя сказал Миня и снова умолк. Задумался. Потом проговорил:
– Да, была и у меня любовь. И все было. И все прошло… Как говорится в поезии: «Ничто не вечно под луной»…
И вдруг Миня – этот безнадежно больной тридцатипятилетний старик – заговорил стихами:
Где ты, где ты,
О друг мой далекий,
Отзовись, поспеши ко мне…
Глаза его были устремлены куда-то в глубь себя. Казалось, он забыл и обо мне, и о любимых своих Бужурах. Но вот, встряхнув головой, словно отгоняя мрачные мысли, он совсем тихо, почти шепотом, договорил им ли сочиненные или чужие чьи-то стихи:
И двустволка системы
Толетта
Сиротинкой висит на стене…
– Хватит, приляжем, Николаич, до зорьки еще не близко…
Легли в шалаше. Я не шевелился. Миня же все время ворочался и тяжело вздыхал.
– Осенние перелеты! Пуще всего люблю я их: птица отыграла на весенних токовищах, птенцов вывела, нажировалась. Одним словом, закончила положенный ей круг жизни… Я тебе, поди, мешаю?
– Что вы, что вы, Миня!..
– Весной мне и селезня жалко бить. И березку срубить муторно. Весной я больше любуюсь на природную жизнь: у каждой букашки, зверушки, птицы – своя смекалка, свой норов. И каждую я понимаю насквозь. По траве, по лопуху знаю, на каком озере какая птица загнездится…
Перед утром я заснул. Разбудил меня Миня. Уступив ему свой скрадок на мысу, мы с Марсом ушли на излучину Тихой.
Пролет хотя и был много слабее, чем вечером, но и я и Миня славно постреляли на утренней зорьке.
Я предложил Мине уехать со мною в город, но слесарь решительно отказался:
– Вот если уважишь, Николаич, – дичину мою прихвати и маменьке отдай. А я потихонечку потянусь в свою катеджу и до конца пролета поживу. У тебя-то все впереди, а мне успевать надобно. Стреляю, а все думаю: доживу ли до следующего пролета, – печально улыбнулся он.
Я уехал в город один.
…До следующего осеннего пролета Миня не дожил: ранней весной он умер. Умер на охоте, в заветных своих Бужурах, в любимой своей «катедже».
Как-то осенью я завернул к матери Мини – занес ей пару убитых селезней. Над бывшей кроватью Мини на стене висела старенькая бельгийская двустволка, и я вспомнил стихи, читанные слесарем прошлой осенью:
Где ты, где ты,
О друг мой далекий,
Отзовись, поспеши ко мне…
И двустволка системы
Толетта
Сиротинкой висит на стене…
ПЕРВОЕ ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ
Возмутителем моего охотничьего спокойствия осенью 1924 года оказался самый неподходящий для этой роли «молчун», склонный к ранней полноте слесарь Владимир Максимович Напарников.
За добродушие и простоту все знающие его устькаменогорцы звали просто – слесарь Володя. Так вот этот-то слесарь Володя, которого по общему убеждению ни внезапный пожар его избенки, ни землетрясение не способно было вывести из равновесия, прибежал ко мне в редакцию с вытаращенными глазами и, распираемый новостью, еще на пороге выкрикнул:
– По-о-шл-а! Та-а-бу-у-нами!..
И я, двадцатичетырехлетний демобилизованный из Красной Армии «ответственный редактор журнала «Охотник Алтая», как пышно подписывались тогда мои журнальные передовицы, и «разменивающий девятый десяток» старик-секретарь редакции, мой бывший учитель Григорий Евграфович Борзятников, оторвались от гранок очередного номера.
– Какая?
– Когда? Где видел?
– Северная! Сегодня… Над Иртышом…
– Да ты сядь, сядь, Володенька, и толком…
С молодо вспыхнувшими глазами, тучный, безнадежно, отяжелевший, но в душе все еще страстный охотник Григорий Евграфович подвинул слесарю стул и, приложив ладонь лопаточкой к уху, приготовился слушать всегда необычайно волнующую усть-каменогорских охотников новость о ва́ловом пролете северной птицы.
– Вышел я на солнцевосходе на рёлку – в устье Ульбы – переметишки на налимов с вечера бросил… и вчера еще галки в небе шубой свьюжились – ворожили. Ну, думаю, вот-вот повалит…
Только взялся за хребтинку перемета, а они ни́зом, над самой серединой Иртыша – табун за табуном, как из рукава!..
Я к Ивану: так и так… Митяйка, конечно, не отстал – тоже с нами… Втроем с час понаблюдали. Иван и говорит: «Беги к Николаичу – обрадуй. Да непременно скажи – вечером соберемся: пора плановать, – вслед за утьвой – невдолги за большими печенками[5]5
Печенки – дрофы.
[Закрыть], а там и за лисами, за волками к Джеке…»
Захлебистый рассказ всегда спокойного, увальневато-медлительного слесаря, молодо загоревшиеся глаза древнего старика Борзятникова (о себе уже не говорю, хотя я с трудом удержался, чтоб не закричать «ура!») – красноречивей всяких слов выражали радость наступления долгожданных отъезжих полей.
Окрестности нашего уездного городка в те годы славились обилием и разнообразием дичи.
Особенно увлекательны были осенние отъезжие поля под Красный яр – на просянища за скапливающейся там в это время в несметном количестве ожиревшей кряквой. Чуть позже – в заиртышские ковыльные степи за сторожкими гигантами – дрофами, а по первым порошам – в монастырские горы к казаху-беркутятнику Джеке за лисами и волками.
И как бы ни была легка и добычлива даже для малоопытного «зеленого пуделя» летняя стрельба местовой дичи, осень – золотая пора матерых усть-каменогорских охотников. Ее ждут, о ней мечтают, к ней готовятся с великим тщанием.
Пешие – «сходные по ногам» – намечают извечные пролетные трассы в окрестных поймах, на островах и косах Иртыша и Ульбы..
А конные? Мечты их – крылаты. Куда, куда только не собираются они!
Готовясь к осенним отъезжим полям, охотники ночи напролет подгоняют все домашние работы, подкармливают коней. Служилый люд приурочивает отпуска. А перед отпусками, выгадывая лишний денек, работают сверхурочно и даже в воскресенья: только чтоб осенью, закатившись в степи, в горы и в леса – подальше от города, подольше побыть с глазу на глаз с возлюбленной природой, с ее вечной, необманною красотой. Забыться, забыть постоянные думы о «хлебе насущном», о нуждах и печалях, послушать дыхание земли.
Не закрывая глаз, видишь пылающий костер, меркнущие на лету искры, черное небо над головой. Вокруг – бескрайняя ковыльная степь и вселенская тишина. Только бурлит котел, да клокочет закипевший чайник…
Немало пережито светлых охотничьих ощущений с дорогими мне товарищами по охотам!
И как бы, как бы ни было хорошо настоящее – во сто крат кажется оно краше, когда станет невозвратно минувшим…
Не знаю, суждено ли повториться чему-либо в будущем хоть один еще раз! Вряд ли: неотвратимо близится старость с ее утратой яркости и силы ощущений!..
Но прежде чем приступить к рассказам об отъезжих наших полях, я позволю себе напомнить читателям о жемчужине охотничьей литературы из времен крепостничества «Записках мелкотравчатого» Е. Дриянского, блистательные сцены из которых приводили, да и сейчас еще приводят, в восхищение всякого читателя, в груди которого бьется охотничье сердце.
И пусть действующими лицами «Записок» были канувшие в лету графы Атукаевы, крупные и мелкие помещики Алеевы, Стерлядкины и Бацо́вы, но главными-то подлинными героями их все же были крепостные ловчие, доезжачие, псари и подпсарки – Феопены, Афанасии, Егорки, Пашки, Васьки. Они воспитывали стаи гончих и борзых, не щадя живота, правили ими, лезли в ледяную воду, в топь, в крепи, мастеря зверя на ухоронившихся по опушкам островов, дрожащих от волнения господ – псовых охотников.
Не могу не привести хотя бы краткую выдержку из несравненных «Записок»:
«…я дрогнул в седле.
В острове в один миг, как будто упавшая в пропасть, взревела стая. Но что это были за звуки! Это был не взбрех, не лай, не рев – это прорвалась какая-то пучина, полилась одна непрерывная плакучая нота, слитая из двадцати голосов: она выражала что-то близкое к мольбе о пощаде, в ней слышался какой-то предсмертный крик тварей гаснущих, истаивающих в невыносимых муках. Кто не слыхал гоньбы братовской стаи, тот может вообразить только одно: как должна кричать собака, когда из нее тянут жилы или сдирают с живой кожу…
Загудел рог с двумя перебоями… и вслед за тем голос этого колдуна повершил всю стаю:
– Слу-у-ша-ай! Вались к нему! Эх, дети мои! О-го-го-го!
Сам сатана, вселясь в плоть и кровь человека, не зальется и не крикнет таким голосом! Нет, буква мертва и не певуча для выражения этих, не для нее изготовленных, песен…
«Так вот он ловчий», – думал я и чувствовал, что меня треплет лихорадка.
– Слышал? – спросил меня Атукаев.
– Да… – протянул я, недоумевая, что сказать.
– Взгляни на Луку, – прибавил граф.
Я посмотрел на Бацова: сзади Алексея Николаевича, он утирал платком глаза.
– У-а! Вались к нему! У! – раздалось снова в болоте, и стая залилась еще зарче, пошла вразнобой, несколько голосов повели в нашу сторону.
Прямо на нас выкатил переярок…»
Талантливое описание псовых охот земельных магнатов крепостной России, разъезжавших целыми обозами с многочисленными слугами, с поварами и брадобреями по всей губернии, а многие даже и по соседним губерниям в горячий осенний сезон охоты из-под гончих со всеми их удачами, невзгодами и случайностями, в которых с какой-то непреоборимо-влекущей, притягательной силой проявлялось охотничье молодечество, – и до сегодня волнует сердце охотников.
Но, иные времена – иные песни. И совсем не важно, что у нас не было ни «оркестрово-подобранных, голосистых» стайпаратых гончих, ни атлетов-злобачей борзых, в одиночку берущих матерого волка, за которых нередко помещики отдавали по нескольку семей крепостных: противоестественным, диким казалось нам и самодурство самодержавного степного владыки, запарывающего псаря за не вовремя спущенного на зверя борзого кобеля.
Да, иные времена – иные песни. Знаменитый нэп, с шумными, многолюдными базарами, с буханками горячего белого хлеба, с поросятиной и гусятиной из пригородных деревень. С первыми хозяйственными и строительными дерзаниями молодой Советской республики.
А главное, главное, что и сами мы были молоды тогда. И все, за что бы ни брались мы, – все удавалось. Удавалось, может быть потому, что отдавались мы нашему делу не вполсилы, а во всю мочь неукротимого молодого азарта.
И лучшим из лучших, единственным, ни с чем не сравнимым отдыхом охотников была охота.
И наши скромные, однако по-своему также поэтические отъезжие поля до самозабвения увлекали нас.
* * *
Собрались у меня в тот же вечер.
Но прежде всего, – кто же мои спутники в отъезжих полях?
Двое из них, да не обидятся на меня мои земляки, лучшие из лучших охотники. И это не вольное мое определение. Нет, это признание всей нашей стрелецкой громады. А среди устькаменогорцев, где каждый третий считал себя достойным охотником, прослыть первоклассным, каковыми заслуженно прослыли шубник Иван Корзинин и слесарь Володя, – дело не такое уж легкое..
Владимир Максимович Напарников. – сосед и друг детства братьев Корзининых – из опасения, что женитьба свяжет, предпочел остаться холостяком. Ему двадцать восемь лет, а по понятиям устькаменогорцев это уже – безнадежный перестарок. По бедности – он пеш. Весь его достаток – «золотые руки» да тяжелая самодельная двустволка с длиннейшими стволами, которую злоязыкий озорной Митяйка Корзинин почему-то прозвал «единорогом». Братья Иван и Митяйка – шубники. У них свое кустарное шубное производство. За кройкой и пошивкой полушубков из выдубленных ими же овчин работает вся их семья. В обычное время, кроме осеннего сезона, их охоты – в теснейшей зависимости от основной работы. Есть досуг – они ярые охотники, нет – работа в вонючей землянке у чанов с выквашивающимися овчинами.
Но осенью охота властно отодвигает все их суетные житейские расчеты.
Братья – потомственные охотники. Отец их – высокий, жилистый старик Поликарп Мефодиевич – передал своим детям «дианину» страсть, охотничью смекалку, неуемность в ходьбе и отличное знание ближних и дальних угодий.
У Корзининых – откормленный на жмыхах и отрубях рослый гнедок мерин Барабан, приличная ирландская сука – Альфа. Старик Корзинин, при сборах нас в отъезжие, привлек мое внимание несвойственным уже его возрасту охотничьим задором, интересными рассказами о прежних своих охотах, дельными советами и напутствиями по маршрутам наших поездок.
– На Джакижаныче сделайте перьвую остановку: атайки, мелкой утвы – там невпроворот. А у аула Марсека – пробегитесь по сиверам: в шиповнике, в таволганах тетерева в обильности на́дорожатся. Мы без собак их там всегда ногами выпинывали…
Перьвые табунки дудаков, еще не доезжая Караузька, влево от дороги, по мелкосопошнику каждогод встречались…
И хотя охотничье время старика от нашего отделяло не одно десятилетие, советы Поликарпа Мефодиевича частенько помогали нам.
Любили мы и его всегда правдивые, с присущими только ему интонациями и жестами рассказы о незаурядной своей стрельбе и стрельбе своих товарищей по охотам: «Смотрю – ле́тит. Не лети́т, а ле́тит. И высоконько. Я накинул стволами – стри́лил – она оттуда с голком об земь, да так, что зоб лопнул!..»
Рассказывая, старик и стремительно выкидывал воображаемое ружье, и картинно представлял, как падала убитая птица.
– Удалей меня стрелял только неразливный дружок мой – плотник Василий Кузьмич Сухобрус. Левша, жердястый, длиннорукий, но несказимо дюжой в ходьбе и проворный в стрельбе. Бывало, налетит на него табун дудаков, а у него два патрона в стволах и один в руке. Накинет он насустречь стволами, стри́лит и раз и другой. Переломит, всунет патрон, да и вдогонь стри́лит. И как огнем – стрех самых крупных дрофичей сожгеть. Я было тоже пробовал, но у меня не получалось…
Старший из сыновей Иван – наш бригадир – женат, у него двое детей. Он в отца – подборист, по-охотничьи щеголеват. Сухоног. «Несказимо» (употребляя слова его отца) «дюжий в ходьбе». Казалось, он сплетен из одних выносливейших костей и мускулов. С такими же, как и у отца, небольшими, зоркими глазами.
Но не столь говорлив, а даже наоборот, как-то подчеркнуто строго сдержан. Иван любит больше слушать. А когда заговорит, для бригадирской убедительности в речь свою любит вставлять «учено-интеллигентные», как он их понимает, слова. С детства, с поездок с отцом за караульщика у палатки, позже за загонщика, он досконально изучил всю охотничью округу. Отличный стрелок, как и отец, Иван почти не знает промахов из своей тулки. И что особенно поражало меня, так это необычное его искусство стрелять в ночной темноте. Уже давно потухла заря. Темь – пальцев на руке не видно, охотники давно вернулись на стан, а выстрелы Ивана все гремят и гремят в лугах. И знаем – редким промахнется он.
Глаз у него кошачий – с поперечным зрачком – объясняли усть-каменогорские охотники навык Ивана «навскидку», по слуху и какому-то безошибочно-звериному чутью в темноте поражать стремительно летящую птицу.
Шестнадцатилетний, как и отец говорун, певун, веселый, озорной Митяйка на переломном возрасте. Но, несмотря на молодость, у него широкие плечи, юношески тонкий, гибкий стан. Во всей его фигуре, в каждом его движении ощущается родовое проворство, ловкость, ястребиная зоркость глаз. Митяйка горяч, как молодой, только что взятый егерем на выучку пойнтер.
На охоте он частенько «срывался». Как горячему пойнтеру, ему требовался «строгий парфорс». Этим «парфорсом» для него и был его подчеркнуто сдержанный, рассудительный старший брат.
За озорство, за горячность мы нередко дружески подтрунивали над ним. Митяйка не всегда огрызался, но по его лицу было заметно, что он досадовал.
Охотничье самолюбие развилось у него не по годам рано: «обстрелять» кого-либо из нас для Митяйки было заветной мечтой на каждой охоте. Выбрать, занять раньше других лучшее местечко во время пролета птицы Митяйка в грех не ставил. Правда, за это ему крепко попадало от брата, но он стоически переносил и брань и угрозы.
Зато как же сияло лицо самолюбивого паренька, как победительно сверкали озорные его глаза, когда, возвращаясь с зари на стан, он приносил хотя бы на одну утку больше кого-либо из нас!..
– Одноутробник, брат он мой, да разум-то у него свой: плутовства в нем, что репьев в овце, – не оберешь… – осуждающе говорил о младшем брате Иван.
Митяйка – любимец старика Поликарпа: «В меня он: на погово́рье – лют, в каждое слово щетинку всучит. А уж удал, поспешлив – ходит так, что от него ветром дует. «Митяйка-пуля» смальства звали мы его с матерью. Я такой же и шустрый, и собачей, и охотник смолоду был, до женитьбы с ружьем в обнимку спал…» О любимчике – «младшеньком сынке» – старик готов был говорить без конца.
У слесаря Володи все крупное: широкое лицо, грудь, спина, кисти рук. Он слегка сутуловат и, как большинство сутулых, страшно силен.
Говорит Володя только после сытного обеда, а потому роль кашевара не уступал никому. Занимается он поварским делом весьма серьезно. И вообще Володя не терпел «коекакничества» ни в каком деле.
«Любовь к кашеварскому делу, – говорит он, – перешла мне по наследству: батянюшка поваром всю военную службу у ротного котла продежурил. Вот и я к котелку, к сковородке накрепко пришурупился. Грешник, люблю пожрать. И все бы хорошо, но чемодан, – которым он презрительно величал свое брюхо, – врагом моим становится. Ловкость пропадает. Где бы пониже пригнулся – мешает. Ноги и те словно бы короче становятся».
Володя открыт, услужлив, девственно застенчив с женским полом. На охоте он безропотно переносит любую неудачу.
Таковы мои всегдашние спутники в отъезжих полях. Среди них, кроме Митяйки, я – самый малоопытный и менее удачливый, но жадный до всякой учебы, особо охотничьей. Мне оставалось только выполнять указания Ивана и Володи. Охотились мы всегда коммуной – дичь делили на четыре равные части. Догадываюсь, что принять меня в отличную свою компанию их понудил ряд обстоятельств. Как и они – я от рождения был крепко «ушиблен» тем же «дианиным» недугом и предавался ему беззаветно. На охоте же, да еще в дальних поездках и на стану «невоодушевленный – мертвяк» (так величал Иван Корзинин палил-дилетантов, зачастую из моды имеющих и дорогие ружья, и породистых собак, но не способных сопереживать всей прелести жизни среди природы) «непереносен, как глухой среди музыкантов».
Второе – у меня знаменитый по резвости и выносливости на весь городок конь калмык Костя, специальная, удобная для охоты рессорная линейка – «долгуша». Впряженные в нее парой добрые наши кони не знали расстояний. И к тому же я редактор журнала – средоточие всей культурной охотничьей жизни городка: дружба со мной им, очевидно, была не безразлична.
Так вот эти-то мои друзья и собрались у меня на большой совет перед отъезжими полями в сезон 1924 года.
Предстояло решить, с чего начать наши отъезжие поля: когда и куда ехать па первый, большой пролет кряквы.
Наш бригадир – приодевшийся в новый костюм, тщательно причесанный – выглядел необычайно торжественно. Он нервно поглаживал гладко выбритый подбородок и вопросительно глядел на меня и Володю. Мы же молчали – думали. Митяйка по безудержной горячности не выдержал томительной перемолчки и, решительно сверкнув глазами, выпалил:
– Завтра! И непременно – на Корольки! Ее там теперь – лопатой греби…
Но Иван, словно и не слышал слов брата, продолжал все так же выжидательно смотреть на нас.
Меня задерживали гранки журнала и незаконченная передовица (заготовка на следующий номер, чтоб с легким сердцем пойти в месячный отпуск), Володю – ремонт прокурорского охотничьего ружья. И как нам ни хотелось бросить все и окунуться в сладостную горячку сборов – мы молча продолжали обдумывать день выезда.
Бригадир, отлично понимающий нас, не торопил с ответом.
– Да что же это за казнь египетская: один молчит, другой – ни слова! О чем тут думать? Завтра, и только на Корольки. Там она теперь шапку с головы будет сбивать, – чуть не плача, вновь взорвался Митяйка.
Иван круто повернулся к нему и, презрительно сощурив глаза, оборвал братца:
– Тебе вынь да положь – тогда и хорош – завтра. А ты забыл, что у Николаича неотложные научно-культурные, а у Володьки слесарные – дела могут быть. Да и у нас целый чан овчин не выквашен.
А потом завтра на эти излюбленные твоя Корольки вся братва и пе́шки, и на лодках в первую голову кинется. Нет, о Корольках рассудительной речи быть не может! Я предлагаю под Красный яр.
– Еще лучше! К дьяволу овчины! И непременно, непременно завтра! – заспешил Митяйка.
Но Иван, не слушая его, продолжил:
– Я думаю, что денька через четыре, в пятницу, и мы, и Николаич, да и Володьша – подуправимся, а за это время пешаки шуганут с корольковских стариц утку, так что вся она сдвинется на недоступные красноярские гольцы – на дневки. К пятнице и луна в колесо вызреет. Ночами же крякве фактично плыть да быть – на просянищах…
План бригадира устраивал и меня, и Володю.
– Гут, Иван Поликарпович! – сказал я.
– Да еще какой гутище! За это время я и с прокурорским ружьем покончу! – просиял медлительный на слова Владимир Максимович.
– А теперь до дому, до хаты… – надевая шапку, двинулся было к порогу Иван, но из другой комнаты с подносом и стаканами чая вышла моя жена и пригласила:
– Чаек пить пожалуйте, товарищи-охотники!..
– Спасибочка, Анастасия Ивановна, до чая ли тут, когда на охоту спешить надо. Кто как, а я быстрым зверем-барсуком побегу в мастерскую. За ночь-то я денек-другой выгадаю: ждать до пятницы – слюной изойдешь…
И вновь братца-торопыгу остановил бригадир:
– Тебя и хлебом не корми – только на охоту возьми. Ни в какую мастерскую ты не пойдешь – ключ у меня. А за чайком мы об деле преспокойно, преблагородно поговорим…
– Правильно, Ваньша, чайку попить, да об охоте поговорить – почти что на охоте побыть, – с готовностью присоединился к другу большой любитель чая слесарь Володя.
* * *
Про моего коня Костю и сеттера-лаверака Кадо усть-каменогорские охотники с завистью говорили: «Собаку да лошадь деньгами не укупишь – их посылает счастье».
Гнедой, рослый (полумесок калмыка с дончаком), ширококрупый Костя, купленный двухлетком-дикарем на первый учительский заработок у выкрещенного богатея-калмыка Кости, выезженный мною, шел на свист, как собака, не боялся выстрела, сноровисто мастеря, достигал преследуемого по пороше волка. Обычно раньше меня он обнаруживал звериную сакму и неуправляемый скакал по ней. Не раз Костя спасал меня от неминуемой смерти.
Сеттер-лаверак Кадо, с белоснежной, тронутой иссиня-черными крапинами, шелковистой и длинной псовиною, происходил от собак, украденных во время первой мировой войны прапорщиком Васькой Тропиным из питомника польских князей Вишневецких. Прапорщик с разбитыми бандами анненковцев бежал в Китай, бросив двух щенков на руки престарелой матери. От них устькаменогорцы и повели невиданную до этого в нашем захолустье породу лавераков.
Лучшей легавой собаки по чутью, по страсти, по врожденной деликатности я не знал.
Молодость, любимое дело (а созданию первого советского охотничьего журнала я отдавался целиком), добрая жена, верные товарищи, как мне казалось тогда, составляли «золотую пору» моей жизни. «У каждого человека, – думал я, – наступает счастливая пора, когда и жизнь, и каждое его дело катится как по маслу».
И охотничий конь, и собака всегда заранее угадывали о моих сборах на охоту. И каждый по-своему выражал нетерпение перед выездом.
Вот и теперь, запряженный в долгушу Костя, в красивом волнении, изогнув шею, рубил копытом землю. Выворачивая темно-фиолетовый глаз, косил им на нас, когда я и жена укладывали на линейку охотничьи вещи.
Ошалело лаявший Кадо то бросался к коню и вылизывал ему морду, то вскакивал на долгушу и, полежав на ней, спрыгнув, бросался к воротам, пытаясь зубами открыть их. Не справившись, он кидал лапы ко мне на грудь, нервно трепеща, смотрел мне в глаза и отрывисто взлаивал.
И действительно, Костя и Кадо, оставившие счастливый след в моей молодой охотничьей жизни – были не куплены мною за деньги: их милостиво подарила мне судьба.
Наконец все было собрано (основная укладка багажа вашей коммуны всегда производилась на дворе у моих спутников под непременным наблюдением старика Корзинина). Мы с женой сели на линейку, и под радостный лай Кадо Костя вынес нас за ворота.
* * *
На большом дворе Корзининых шла такая же суета сборов. Слесарь Володя уже принес своего «единорога» и объемистый рюкзак, набитый преимущественно овощами и всякими потребными для кулинара специями (в охотничьей нашей коммуне все было заранее оговорено).








