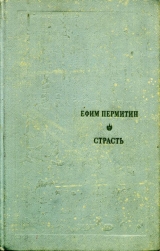
Текст книги "Страсть"
Автор книги: Ефим Пермитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Митяйка носился из дома в амбар, из амбара в погреб и складывал приносимое на расстеленный среди двора брезент, где священнодействовал седенький, как иконописный божий угодник, – Поликарп Мефодиевич.
Однако хлопоты сборов не мешали Митяйке поминутно выглядывать за ворота: «Что-то запаздывают?! Не случилось ли, боже упаси, чего?!»
Но вот Костя на крупной рыси подлетел к дому Корзининых: полотнища ворот тотчас же распахнулись. Мы въехали во двор, и ворота сразу же захлопнулись: по суеверному поверью Поликарпа Мефодиевича сборы на охоту должны быть без чужого, «черного» глаза.
– Боже вас упаси, на охоту собираться при полых воротах. Что вы там ни говорите, а не перевелись еще ведьмы и в наше время. Есть такие, что не дай и не приведи! Да чего далеко ходить – когда в нашем квартале та же старуха Самойлиха, испятнай ее в сердце, в душу, в овечий хвост. Узорит – и хоть не езди. Из-за нее мы чем свет или ночью с покойничком Василием Кузьмичом на охоту выезжали…
При окончательной укладке на мою долгушу продуктов, одежды и снаряжения, необходимого для нашей «коммуны», Поликарп Мефодиевич пребывал в необычайном волнении: ничего не забыть, уложить в палаточный брезент, увязать так, чтоб ничто не мешало в пути, не брякало и, боже упаси, не потерялось…
«Не допущу никого к укладке: будто сам собираюсь на охоту. И будто молодым себя чуйствую», – рассуждал старик.
Мы только молча помогали ему. А жены наши – одна перед одной – все подавали старику в объемистую кожаную суму и калачи, и шаньги, и пироги, и чай, и сахар.
Поликарп Мефодиевич принимал, бережно укладывал с приговором: «Давай, давай, бабочки: чем меньше у вас еды дома останется – тем с большей радостью встретите мужиков с добычей».
Но вот наконец все уложено, увязано, мы сели на линейку, и старик истово перекрестил нас. Митяйка распахнул ворота. Давно обнюхавшиеся Кадо и Альфа с истошным лаем выскочили на улицу.
Я взял вожжи, застоявшиеся кони рванули с места.
И старик и женщины что-то кричали нам вдогонку, но мы уже не слышали их: мы отправились в первое отъезжее поле.
* * *
И городок, и паромная переправа через Иртыш, и прииртышский казачий поселок Меновное давно позади. Поднявшись на первый изволок, мы вырвались на просторы левобережья. Перед нами распахнулись светлые степные дали.
Люблю я степь и ранней весной, когда на краткий срок зазеленеет, зацветет она тотчас же, как только сбросит с себя снежный покров. Когда на пышные ее ковры многоцветных ве́тренниц по взгорьям, солнечно-золотых калужниц и лютиков по мочажинникам – в весенний пролет – стаями опускаются покормиться сановито степенные, сторожкие кроншнепы с неправдоподобно длинными, изогнутыми, как ятаганы, клювами. Мне они почему-то всегда кажутся загадочными, философски-сосредоточенными гостями из нездешнего мира. А сопутствующие им подбористые, вечно или кувыркающиеся в воздухе, или же семенящие малиновыми ножками по берегам озерин – хохлатые, празднично-нарядные чибисы – беспечно-легкомысленными гулеванами.
Люблю ее и знойно-миражным летом, когда зацветут ковыли, выбросив седые, мягкие, как куделя, пряди – точно солоноватое море колышутся и колышутся они до самого горизонта. Чуть глаз обнимет, и все-то ковыль, все-то искрящееся серебро переливается и переливается под солнцем, убегая к голубому подолу неба.
Люблю и сейчас, осенью – с блеклыми, выжженными буграми, с желтыми плешинами сурчин, с проплывающими над ними орлами, с стеклянной прозрачностью золотого от солнечного света воздуха, пронизанного горьковатым душком полыни.
Люблю я и лес багряной осенью. Как полуобнаженная красавица манит он к себе охотника: в глухих, темных его кущах много и таинственного, и своеобразной величественной красоты…
Но, признаюсь, мне, выросшему рядом с заиртышской ковыльной степью, душно, тесно в лесу – нет простора взору.
Другое дело – степь, земля да небо. Широкая, родная степь, с ее невыразимой тишиной, навевающей на мою душу всегда ожидание новых волнующих охотничьих ощущений…
После первых осенних перетрусок накатанная, блестящая, точно насаленная дорога шла по границе степи и прииртышской поймы, с ее котлубанами и озерками, старицами и заливами – угодьями пеших усть-каменогорских охотников.
Уже далеко остались промелькнувшие на скором ходу окаймленные осокой, камышами и кустарниками корабейниковские, бужуринские, корольковские острова.
Дорога все отходила и отходила влево и в глубь степи от прииртышской поймы.
Теперь уже и слева, и справа, и впереди расстилалась все та же заманчивая, всегда чем-то таинственная древняя ковыльная степь.
Дальше, дальше…
Сытые кони, пофыркивая, шли ходкой рысью. Костя, как всегда азартный в паре, горячась, высоко нес голову и, поматывая ею, «попрашивал вожжей».
Безлюдье, тишина, усладительная зыбкая качка рессорной долгуши навевали неодолимый сон на моих спутников. Спали, устроившись у моего бока, Кадо и Альфа. Даже крепившийся и осуждающе поглядывавший на дремлющих товарищей Митяйка, даже и он нет-нет да и «поуживал окуней». После каждого «клевка» он опасливо оглядывался на спутников. Сорок верст для пары наших коней – не расстояние: проехали уже бо́льшую половину.
И вдруг из-за увала низко, над самой дорогой и нашей долгушей с тугим характерным свистом крыльев нас накрыл табун дроф. От неожиданности я натянул вожжи и крикнул:
– Дро-о-о-фы!
Сон точно ветром сдуло с моих товарищей. Как встомашились они, хватая ружья, расстегивая патронташи.
А степные исполины, казалось, медленно машущие крыльями, уже пронеслись над увалом и, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, вскоре растаяли в воздушном океане. Лишь, словно парус уходящего за горизонт корабля, изредка сверкал на солнце стальной отблеск могучих их крыл.
Митяйка сорвался с долгуши и помчался им вслед, но, добежав до увала, остановился, притенив глаза, стал наблюдать за табуном: ждал, не спустятся ли дрофы на соседние, пашни.
Прошло несколько минут, а он все не возвращался.
– Вот увидите, что Митька начнет уговаривать попусту солому молотить – время проводить, попытать счастья погоняться за ними. Уж я-то его знаю, – сказал Иван.
И действительно, Митяйка еще на бегу закричал:
– Опустились на донские пашни! Восемнадцать штук… А уж здоровы, как бараны!
Митяйка задохнулся от волнения.
– А уж жирны – сало на полету с хлупей так и брызжет! А что самое главное – дуры дурами, ждут не дождутся тебя, Митенька, с утиной-то дробью, – спокойно, с совершенно серьезным лицом сказал Иван.
– Не догнал? Жалко! – добродушно подтрунил и «молчун» Володя.
Митяйка понял, что спорить с ними бесполезно. Он махнул рукой, перешел от них на другую сторону долгуши и молча сел рядом со мною.
Я тронул лошадей: до заветных лугов с коммунарскими просянищами было уже недалеко. А вот и долгожданный отвороток с степного большака к распаханным и засеваемым ежегодно коммунарами почти одним просом пойменным лугам.
Степь осталась слева, внизу направо раскинулась обращенная в поле пойма, кое-где изрезанная взблескивающими стеклышками озерин.
В конце просянищ, далеко на горизонте – Иртыш. За Иртышом, на правобережной, нагорной его стороне – село Красный яр.
Обширную, гектаров на тысячу котловину пойменных лугов со стороны степного большака наподобие гигантской подковы окантовал высокий берег, именуемый у нас венцом. Венец невысок, метров двадцать – тридцать. Крутые склоны его заросли шиповником, колючим ежевичником, повиликой. В седые тысячелетья волны Иртыша плескались у подножия венца и, постепенно отступая, образовали эту благодатную, обогащенную плодородным илом пойму… На поднятой коммунарами дернине и перелогах просо давало неслыханные урожаи.
Спустившись с венца, луговая дорожка повернула к реке. На первой же пережабинке между двух озерин она пошла через колдыбажины чуть ли не в полчеловечьего роста. И собаки и мы спрыгнули с долгуши.
Кадо и Альфа, раздув ноздри, жадно втягивая влажность кустарников, направились было в манящие их крепи. Митяйка, как и все мы, спешивший к заветным местам, грозно крикнул им: «На-а-зза-ад!» И собаки вернулись к долгуше.
Но вот еле заметная в кочках колея снова вырвалась на гриву. Мы сели. Кони, почуяв близкий отдых, без понуждения пошли ходкой рысью. Собаки ошалело-радостно носились по гриве, то ненадолго наведываясь к долгуше, то вновь уносясь вперед.
Обогнув последнюю излуку длинной прозрачно-родниковой озерины, вскоре нам открылась широкая стальная важевато-текучая лента Иртыша и посредине – темная гряда Красноярских островов с языками длинных открытых со всех сторон гольцов, неприступных ни с берега, ни с воды охотнику: эти-то гольцы и были облюбованы для дневок сторожкой в стаях пролетной кряковой уткой. Безлюдные поздней осенью поля коммуны со скошенным и убранным – а частью в валках, в копнах просом, за неуправкой – нередко уходящие даже под снег, были как бы специально приготовлены для откорма пролетной птицы.
Заветную эту «палестину» два года назад я открыл совершенно случайно во время поездки в Семипалатинск за огнеприпасами. Припоздав, я остановился на ночевку и кормежку лошадей на полях коммуны и обнаружил тысячные стаи дневавшей на гольцах, а ночью летавшей на просянища утки. Дома я уговорил своих товарищей взять поле на Красноярских просянищах. Мы так славно поохотились тогда, что уже навсегда включили эти места в обязательную программу наших отъезжих полей.
И справа и слева от дороги пошла полоса сложенного в копны проса. Спрыгнув с долгуши, вблизи озерины, у первой же копны Митяйка усмотрел перья и утиный помет.
– Вот они, вот они где, родные! – как-то особенно ликующе выкрикнул он, не сдержав юношеского восторга. – Ну, держись, Володьша! На сей раз не будь я Дмитрий Корзинин, если в дымину не обстреляю тебя нынче!.. И вас, Николаич, – повернувшись ко мне, – тоже обстреляю! Наверняка обстреляю, вот отрубите мне голову по самые плечи, если не обстреляю!.. – поклялся расхрабрившийся Митяйка. – Хотите пари?!
Я засмеялся над задором пылкого паренька и, понимая его возбужденное состояние перед охотой, отделался шуткой:
– Когда-то Наполеон сказал: «Кто держит пари не наверняка, тот дурак, а кто наверняка – подлец». Ни тем, ни другим я быть не хочу…
Митяйка смутился и замолчал. Замолчал и я. Иван и Володя так же, как и я, были как-то особенно сосредоточенно молчаливы. Каждый ушел в самого себя, что всегда наблюдается перед серьезными охотами: «Какая-то задастся ночь? Покажется ли луна? Как-то буду стрелять?..»
А вот и хорошо знакомое со следами прошлогоднего кострища место нашей стоянки на берегу длинной излучистой озерины, рядом с зарослями черемошника и тальника, отлично скрывающих палатку со стороны гольцов.
– Слава тебе, обетованная земля, – как и Митяйка, не сдержав волнения, сказал я и остановил лошадей: возбужденные мои нервы уже рисовали одну за другой картины налетов и удачной стрельбы залитой жиром полновесной осенней кряквы.
* * *
Мне нравился неписаный, но прочно установившийся распорядок обязанностей каждого члена нашей охотничьей коммуны. Лишь только долгуша встала на облюбованном месте, как я, распрягши и вы́водив лошадей, заковал корзининского мерина в железное путо, а Костю непутаным отпустил на попас. Бригадир начал ставить палатку, Митяйка – заготовлять топливо, Володя – разбирать свой «кухонный агрегат». Относившийся серьезно к своим обязанностям слесарь искусно сделал вкладывающиеся один в другой «скорокипящие» – с отверстием в середине наподобие самовара котел, чайник и две объемистые сковородки – для поджаривания дичи и рыбы. Даже чистил, резал, поджаривал лук и картофель наш шеф-повар по какой-то своей методе с таким серьезным лицом, что нетерпеливый, злоязыкий торопыга Митяйка называл его готовку «архирейской службой»: так же длинно и торжественно.
Одежду, оружие, охотничье снаряжение и продукты заносил в палатку, в раз навсегда отведенные им места сам бригадир.
Менее чем в час стан наш выглядел обжитым, костер пылал, а от «скорокипящего» котла с заложенным в него, смотря по обстоятельствам, приварком, но непременно щедро сдобренным лавровым листом, петрушкой, луком и перцем, благоухало «на всю округу».
Надо было видеть крупногабаритное лицо нашего Володи, когда он подавал варево «на стол».
Скорей всех «отвалился» от котла Митяйка. Обжигаясь, наскоря́х хлебнув несколько ложек, сунув в карман краюху хлеба, он поспешил раньше других улизнуть не на охоту, не стрелять, боже упаси! а, как выражался Митяйка, «пообзирать окрестности». Снова он напомнил нам молодого горячего пса, с лаем выносящегося с родного двора поджидать замешкавшегося хозяина на ближайшей опушке леса.
Вот и сейчас, не успели мы еще по-настоящему распробовать аппетитного, приготовленного Володей кулеша с горохом и свиным салом, а за кулешом нас ждал всегда желанный после дороги огненный – с костра – крепкий (Володиной заварки) чай, – Митяйка на всех духах помчался «обзирать окрестности», но, дошагав до первых копен проса, вблизи озерины, где он обнаружил жировку утки, растянувшись на копне, стал поджидать нас. Мы же, добросовестно расправившись с кулешом, неспешно выпив по кружке чая, стали одеваться.
Нетомящая теплота погожего осеннего дня к вечеру сменилась заметной свежестью: ночь обещала быть ясной, прохладной.
Я надел свой стеганый, защитного цвета ватник и теплую, сшитую из солдатского башлыка, – с квадратным козырьком (защищающим глаза от солнца) – шапку. Иван и Володя облачились в дубленые, под цвет жнивника полушубки. И только убежавший на вечерянку Митяйка был в летней, выгоревшей на плечах и спине «фартовой», как звал он ее, бумазейной блузе.
Когда мы подошли к нему, он уже сидел, зарывшись в копне по самые плечи. Иван, нахмурив брови, посмотрел на младшего брата и осуждающе сказал:
– Оделся бы, божье древо: будешь чакать зубами – дрожжи продавать…
– А мне, братка, в этой копне даже жарко будет. Должно, порядком промочило ее – горит просцо, и я здесь, как в печке – бери веник и парься… – Митяйка спешил, многословил, больше всего он опасался, как бы Иван не выпроводил его на левый край поля. Митяйка еще дорогой наметил эту сильно побитую утками копну, находившуюся почти у самой озерины: «утки пешком от нее на воду после жратвы пить – зобы переваривать – взад-назад отпиваться будут…»
И действительно, копна эта находилась на основной линии лета утки с гольцов на просянища.
Но Иван, сурово воспитывавший младшего брата, разгадав его планы, с нескрываемой издевкой заговорил:
– Смотрю я на тебя, Митька, и не дивлюсь, что ты такой солощий до охоты, – порода! Что кошка родит, то все мышей ловит. Но в кого ты с такой пройдошистой головой – ярославской вышколки уродился – не пойму. Ни отец, ни мать на хитрованском полозу никогда не езживали. А ты и в блузенку с у́мыслом обрядился и вперед убежал, чтоб сесть на центровое место… – Повернувшись-ко мне, Иван уже по-бригадирски – коротко, веско изложил план охоты:
– Ты, Николаич, останешься здесь. Местечко это из притоманных приманное. Я уйду правей к истоку озерины. Володьша тоже со мной – места там хватит. Ну, а ты, Митенька, дуй влево в самый, самый угол: после наших выстрелов она вся собьется к тебе. А здесь, я тебя знаю, ты еще засветло откроешь пальбу и всю нам обедню испортишь. Осенняя утка шибко грамотная – ее только стрель при солнце по первому облетному табуну – она так спланует, что ни тебе, ни нам пострелять не удастся…
Обескураженный до онемения, Митяйка неохотно вылез из своего гнезда и вдруг, схватившись обеими руками за живот, как-то болезненно перекосив лицо, опрометью бросился к озерине и поспешно скрылся в прибрежных ее камышах.
– Вот-то испрезаядлое чадушко – до медвежачьей болезни расстроился, – усмехнувшись, сказал Иван. – Однако пора и нам.
Иван снял шапку и проникновенно выговорил кабалистические, якобы помогающие в охоте, три слова:
– Безотменно! Бесспоронно! Безубойно! (нечто вроде охотничьих «ни пуха ни пуха») тебе, Николаич… Пошли, Володьша. – И, подсвистнув Альфу, амурничавшую с моим Кадо, они скорым шагом отправились на свои места.
Митяйка что-то долго задержался в камышах, а выбравшись довольно далеко от меня, у излучины озерины, как-то пригнувшись, таясь, точно подкрадываясь к кому-то, перебегая от копны к копне, скрылся из моих глаз.
Мне и жаль было его, но нечего греха таить, я с радостью залез в обмятую уже, действительно дышащую преловатым теплом копну. Слегка раздвинув гнездо, рядом с собой усадил радостно повизгивавшего Кадо.
– Ну вот, а теперь, Кадошенька, мы оглядимся и будем ждать дорогих гостей! – громко сказал я и потрепал собаку по шелковистому загривку.
* * *
Предвкушение первого поцелуя любимой женщины – слаще самого поцелуя. Поэзия ожидания не менее сладка охотнику, чем сам процесс охоты. И каждый из нас эти тревожно-сладостные минуты переживает, сокращает или, наоборот, удлиняет – по-своему.
Я провожу их в деятельной подготовке к стрельбе: тщательно осматриваюсь, строю разные предположения о том, в какое время, как и откуда появится птица. При какой видимости и до какого рубежа необходимо нажать, сколько упреждать при выцеливании, чтоб выстрелить наверняка. Перепроверяю гильзы – не разбухли ли от влажности, те ли номера дроби для первых табунов при более высоком их налете уложены в карманы моего ватника.
Но, кажется, все уже предусмотрено, проверено, а скорые осенние сумерки сегодня что-то не наступают, хотя солнце вот-вот окончательно скроется за далекими, густо рассыпанными по этой полосе, по жнивнику копнами, так похожими сейчас на морские волны, золотисто выблескивающие под его косыми, прощальными лучами.
Как же огромно поле под просянищами! Какая неизъяснимая тишина в природе в минуты, когда печальные осенние жнивья погружаются в объятия вечера.
Все тихо, все недвижно. Каждая копна, куст полыни и даже отдельная стернина жнивника, как бывает только осенью, отчетливо выделяются в хрустальной прозрачности воздуха в предзакатный миг – на рубеже дня и ночи.
И какая же благостная тишина западает в мою душу!
Так, переходя от одного к другому, встают то далекие, всегда милые воспоминания детства, то державно, все оттесняя, выплывает образ давно ушедшей из жизни, но оставивший неизгладимый след в моей душе, любимой женщины с ее доверчиво-радостной улыбкой, навсегда запечатленной вот в такой же тихий осенний вечер у до боли знакомого порога.
Такова власть природы над моей душой – самосильно вызывать в памяти дорогое невозвратно-прошедшее.
Но, грезя наяву, я не только не утрачиваю способности видеть, чутко воспринимать все, что окружает меня, но, кажется, даже обостренней слышу, вижу и бесшумно пролетевшую над моей головой серую с мягкими, круглыми крыльями сову, выслеживающую в жнивнике мышь, и зазмеившуюся над озериной первую ватную струю тумана от вечерней прохлады. «Скоро! Теперь скоро!» – вслух выговорил я.
И тотчас же меня охватил жгучий охотничий озноб, а сердце сжалось в такой комок, так подступило, казалось, к самому кадыку, что стало трудно дышать.
И разом все отодвинулось, бесследно пропало: я уже целиком был во власти моего древнего неисцелимого охотничьего недуга.
Действительно, время полета утки с гольцов на просянища подошло. На островах возник такой шум, словно градовая туча низринулась на землю: «Или утьву потревожил орел, или уже снялись на кормежку», – подумал я, невольно сжимаясь, врастая в копну.
И хотя в этом еще не было никакой надобности, я, судорожно сдвинув предохранитель своего ружья, напрягся, как перед стрельбой.
А тревога и впрямь оказалась напрасной: обеспокоенная кем-то кряква, черной тучей покружившись над гольцами, снова опустилась: «Конечно, орел: на кормежку утки летают небольшими табунами и, как правило, молча. Разве какая молодая крякушка-сеголетка, или селезенек коротко прокрякают и тотчас же смолкнут…» А вечер теперь уже надвигался стремительно – видимость сокращалась с каждой минутой. Уток же все не было.
«Когда же, да когда же они начнут?!» – волновался я.
И наконец дождался: в неясном, обманчивом свете угасшей зари заметил первый табунок летящих на просянища уток. Но летевшие прямо на меня утки вдруг побочили и прошли много левее моей засидки.
Раньше меня заметил крякв Кадо. Это я понял потому, как он вздрогнул и, выставив голову из-за моек спины, слегка приподнялся с лежки. Еле заметным движением дотронувшись до его загривка, я успокоил страстного своего помощника. Табунок скрылся из моих глаз где-то в глубине полей. «На Митяйку, конечно, на Митяйку напорются», – решил я. И действительно, вскоре один за другим полыхнули два выстрела. «Не выдержал – ударил засветло по облетным. И конечно, вышиб пару, а может, и больше», – и осуждая и завидуя удачливому пареньку, подумал я.
Вслед за дуплетом Митяйки загремели выстрелы справа.
Табунки уток, насколько хватал глаз, теперь уже кружились над полями. Некоторые без облета, почти отвесно, вытянув лапы, опускались на просянища и не взлетали даже после выстрелов моих товарищей: так прикормились они здесь.
Лет нарастал с каждой минутой, но вся птица проходила много левее моей копны.
Охотники теперь уже стреляли только дуплетами. Огненные брызги взметывались и взметывались над полями.
«Все палят, а я… Господи, да когда же! Когда! Вот тебе и центральное место». Обида и зависть, подлая черная зависть грызли меня.
Неуютно и душно почувствовал я себя в своем скрадке. В горле першило от затхлой плесени преющего проса. Я расстегнул ворот ватника, но не ощутил облегчения. Померкла задумчивая прелесть тихого осеннего вечера. Близкая к копне озерина, так скрашивавшая унылое однообразие просянищ, теперь казалась мне безобразным мутным бельмом. Даже выстрелы товарищей, всегда радовавшие меня удачей нашей охоты, весельем на стану, счастливым возвращением домой, теперь, точно кнутом, обжигали мою поясницу: «Словно заговоренный. Ждал, ждал, готовился, а на поверку – пустой номер…» – невольно возникали жалкие слова.
Не отрываясь ни на секунду, я все смотрел на свою далеко уходящую к Иртышу озерину, вдоль которой шла основная масса утки на просянища. Но летящие вдоль озерины прямо на меня табунчики, не долетая, вдруг круто взмывали вверх и, побочив, уходили в сторону Митяйки. «А что, если перебежать левее?» – подумал я. Но неожиданно, не спереди, откуда я ждал уток, а сзади с шумом, с треском крыльев большой табун кряквы упал чуть ли не на голову мне, облепив мою копну со всех сторон.
И я и Кадо оцепенели: утки так безбоязненно-дерзко и жадно сразу же защелочили, зачмокали, ошмыгивая тяжелые кисти проса, и были так близко, что до них можно было дотянуться стволами ружья. «Нажрутся, потянутся к озерине, привстану и в угон!..»
Но утки, или услышав нас, или испугавшись подбирающегося к ним хорька, вдруг разом взмыли и, обдав меня ветром от крыл, замельтешили над моей головой с таким истеричным кряканьем, что я не выдержал и, чувствуя, что «мажу», дважды пропуделял по ним.
От растерянности я как вскочил во весь рост из теплого своего гнезда, так и продолжал стоять не менее минуты. Рядом со мной, на верхушке копны, очутился и выскочивший из скрадка Кадо, отчетливо выделяясь на ней белоснежной своей рубашкой.
Табунок крякв, низко летевший над озериной прямо на мою копну, снова круто взмыл и, побочив влево, уже скрывался из глаз, когда поспешно всунув патроны, я снова безрезультатно отсалютовал по ним.
Я опустился на дно скрадка и, резко рванув за ошейник, грубо втащил за собой, очевидно, не менее меня сконфуженного пса: никогда раньше Кадо не позволял себе после выстрела без команды выскакивать из засидки.
Сняв шапку с вспотевшей головы, я подставил ее холодной струе, тянувшей от озерины.
Осенняя ясная ночь равнодушно-спокойно смотрела на меня миллионами далеких лучистых глаз. Справа, из-за заиртышского нагорья, на безбрежный простор неба медленно выкатывался огромный совершенно круглый диск луны. И от луны и от далеких звезд с их дрожащими ресницами – поля, казалось, тоже струили серебристый свет.
И луне, и звездам не было никакого дела до моей огорчительной неудачи. Утки по-прежнему кружились по всему полю, но все так же исправно облетали мою копну.
Выстрелы же товарищей все гремели и гремели в ночи, и за каждым из них я представлял себе, как с характерным звуком удара о землю падали то ржаво-коричневые, налитые жиром кряквы, то полновесные дымчато-голубые, краснолапые селезни…
Наконец стрельба смолкла. Я понял, что Иван, Володя и даже Митяйка вернулись на стан. И хотя ожидать уток уже было совершенно безнадежно, я все еще ждал счастливого налета… Иной раз упорное это ожидание вознаграждалось – скрашивало неудачу.
«Охотника кормит не год и даже не час, а иногда минута», – всегда в таких случаях вспоминались мне слова отца. Но и это мое сверхупорство не помогло: уток точно метлой вымело с просянищ. Я встал на верхушку копны и увидел пылавший у палатки костер. На фоне огня маячили фигуры всех моих друзей.
– Ну, Кадошенька, за гриву не удержались, а за хвост и подавно, – сказал я.
И Кадо, точно поняв мое огорчение, не бросился весело вперед, как он всегда это делал, а, понуря голову, поплелся следам. Только позже я понял, что преданный мне пес не забыл, не простил еще обиды, пережитой им в злополучной нашей копне.
* * *
Это воистину была зоря испытаний и моим нервам и… моей совести. Да-да, и совести, друзья охотники!
Как на исповеди, расскажу все без утайки. От места ночных моих терзаний до нашего стана было не менее полутора километров. Сокращая путь к палатке, чтоб не обходить довольно протяженное колено озерины, я круто повернул влево к полям, где охотился Митяйка. Шел медленно, остро переживая неудачную свою зорю и обдумывая, как правдоподобнее объяснить друзьям не просто обидную, но и позорную для всякого уважающего себя охотника нескладиху. Испытавшие подобное отлично поймут меня: кому из нас не совестно выглядеть «мазилой», вернуться к друзьям на стан «в протопоповском звании», «пустым, как турецкий барабан», по всегда язвительному в таких случаях определению злоязычного Митяйки.
Оглянувшись, я не обнаружил бредущей за собой собаки. Высоко подняв голову, Кадо шел по стерне к черневшей весенней водомоине… Легонький ветерок тянул мне в лицо. «Куропатки!» – подумал я и поспешил к собаке. Кадо встал. Я послал его вперед и ждал шумного вылета куропаток. Но Кадо прыгнул в водомоину и, припав на передние лапы, накрыл подстреленного крякового селезня: «Митяйкин, он стрелял в эту сторону», – подумал я и, взяв подранка, подвесил его к ягдташу.
На площади не более чем в двести – триста сажен, мы подобрали еще трех потерянных Митяйкой крякв. Кадо с его редким чутьем исправил положение. «Вот и мы с добычей, – криво улыбнувшись, подумал я. – Скажу, что стрелял всего, только два раза и оба красивыми дуплетами…»
Но с каждым шагом к стану настроение мое не только не улучшалось, а наоборот, дошло до крайнего раздражения и на неудачу и на самого себя. Подобно тому, если бы я на помосте перед многочисленной толпой зрителей поднял фальшивую пятипудовую штангу, поднял и горделиво раскланялся перед одураченными людьми.
Первым мое возвращение заметил Митяйка и побежал навстречу. Он всегда ревниво пересчитывал добычу каждого из нас и всегда до болезненности остро переживал, если его «обстреливали» и даже во много раз отличные стрелки Иван и Володя. Перед каждой охотой самолюбивый парень держал пари с Володей, что уж теперь-то обязательно, обязательно победителем будет он.
Взглянув на скромную мою добычу, Митяйка не выдержал и с веселым лицом выкрикнул:
– Четыре штучки! Не богато, но, как говорится, все же не попом. А я – восемь, Володьша из своего «единорога» – десять, Иван – ну, за Иваном и сам дьявол не угонится! – у него глаз кошачий, – он шестнадцать. Однако что-то вы, Николаич, стреляли нынче совсем мало. Я всего насчитал четыре патрона, – смягчая торжествующую издевку, выговорил он и стыдливо опустил озорные мальчишечьи свои глаза.
Ни слова не ответив ему, я подошел к палатке, молча отвязал уток и бросил их в общую кучу.
Ликование мальчишки, обстрелявшего меня, усугубившее и обиду и боль от редкостной неудачи на охоте, которую я так долго ждал, гнусность, что думал присвоить себе чужую добычу, что не сказал Митяйке сразу о подобранных его утках, а как своих бросил в общую кучу, – переросли в такое отвращение к самому себе, какого я до сего времени еще никогда не испытывал на охоте. С детства родители воспитывали в нас такое обостренное чувство стыда, что соврать в чем-либо серьезном было так же немыслимо, как немыслимо бывает проглотить жабу.
Я подошел к костру и подробно рассказал о своей неудаче.
– Как будто кто-то заговорил мою засидку. Вижу, летят вдоль озерины прямехонько на мою копну, но, не долетев сажен полсотни, шарахаются вверх и влево на Митяйку.
Четыре патрона сжег и… как без дроби!.. А этих четырех крякв подобрал Кадо недалеко от Митяйкиной засидки. Так что, Митенька, ликуй сегодня, ты действительно обстрелял и меня, и даже Володю…
Я помолчал. Молчали Иван и Володя, а Митяйка нервно переступал с ноги на ногу, порывался что-то ответить мне, но не говорил, а только как-то по-детски растерянно моргал глазами.
– Ну, а присвой я, утаи эти две пары твоих уток, я бы сам себе плюнул в душу… Как бы посмотрел я тебе в глаза, Митенька… А дома – жене?! Да и вся охота для меня была бы испорчена.
Отец, еще мальчишке, говорил мне: «Бойся, сынок, вранья: раз соврал, два соврал – укоренишь дурную привычку – одеревенеет сердце, не будет чувствовать лжи».
Оправдывая свою неудачу, я говорил запальчиво, не заботясь о словах, в которые облекал мысль, но с каждой минутой чувствовал себя чище, счастливей.
– Вот так-то, Митенька, и оскандалился я: на стан явился, как в старину говаривали псари, с хвостом промежду ног… Ты же сегодня заслуженно отличился, значит, законно хвост трубой, а голову высоко…
И тут случилось то, чего никто из нас не ожидал: раскрасневшийся во время моей речи, как помидор, Митяйка подошел ко мне вплотную и настойчиво потребовал:
– Николаич, дайте мне в морду! Изо всей силы дайте… Это я на озерине, на поворотном колене к вашей копне из камыша куклу завязал: шибко обидно мне стало, что братка выгнал меня с облюбованного места, да еще и хитрованом назвал. Ну, думаю, раз хитрован, – буду хитрованом… и я схитрил, чтоб утки отворачивали на меня…
Другой бы… А вы мне этими двумя парами Володьку обстрелять помогли…
Митяйка был взволнован не менее меня и не менее меня сбивчиво исповедывался в гнусном своем поступке. Очевидно, и ему не легко досталась победа над самим собой. Я, конечно, не выполнил горячей просьбы Митяйки.








