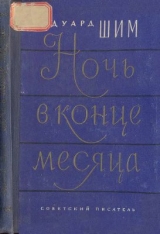
Текст книги "Ночь в конце месяца"
Автор книги: Эдуард Шим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Лушка.
–Рабочих, обязательно рабочих, и причем лучших!– смущаясь, заспешила журналистка
и вынула из сумочки кожаный блокнот.
Кирилл понимал ее состояние. Очевидно, она привыкла изящно одеваться, и эта прическа
радовала ее и везде встречала одобрение. А тут, может быть впервые, случилось так, что эта
дорогая, со вкусом подобранная одежда мешает ей и вызывает неодобрительные взгляды…
–Мне заказан положительный материал о передовиках. Понимаете, трудный участок, а
они – впереди, преодолевают трудности, борются, понимаете?
–Я полагаю, тогда…– начал Кирилл.
–Пошли тогда на бетонный!– уверенно сказала Лушка.– Там такая борьба,
залюбуешься!
Она повернулась и вперевалку, махая руками, зашагала вперед. Журналистка
заторопилась за нею, старательно целясь босоножками в глубокие Лушкины следы на
грязной земле.
Серая башня бетонного завода виднелась невдалеке. Сквозь щели в неплотной обшивке
сочился зеленоватый дымок пыли, – казалось, что башня горит изнутри медленным,
тлеющим огнем.
Лушка свернула в проезд для машин, пихнула скрипучую дверку. Кирилл заметил, что
журналистка невольно поежилась: внутри, вспыхивая в сумраке бледными искорками,
падали сверху капли.
–Смелей!– ободряюще надвинулся Кирилл. Экскурсия теперь уже забавляла его.
Положение, в котором находилась журналистка, было знакомо Кириллу. В первые дни он
вот так же боялся ходить по стройке, шарахался от машин и кранов, снизу вверх глядел на
каждого встречного… «А теперь я выгляжу человеком, который удачно перебрался через
лужу и с удовольствием наблюдает, как в этой луже барахтаются другие…» – втихомолку
смеясь, подумал Кирилл.
Наверх башни вела тесная, запорошенная цементом лестница. Журналистка поднималась
по ней, подхватив пальцами юбку. Замшевые босоножки взбивали фонтанчики пыли.
На такую сцену стоило полюбоваться!.. Наверху, возле черных дозаторных ящиков,
журналистку обступили три женщины, в таких же, как у Лушки, шароварах, в темных
платках, надвинутых по самые глаза. Лица у них были серыми от цемента, а ресницы
казались пушистыми и необыкновенно длинными.
–Вот вам герои!– сказала Лушка.– Пишите, пишите, а то им некогда.
Журналистка смущенно и как-то растерянно оглядывалась.
–Я пока… не представляю…
–Ну, это мы представим. Ксения, какой марки бетон гоните?
–Двести,– ответила одна из женщин.
–Подите сюда!– сказала Лушка журналистке.– Вот ящик, звать дозатором. Вот ручка.
Жмите!
Журналистка оторвала руки от юбки, послушно схватилась за рукоять, согнутую из
водопроводной трубы.
–Ну? Шибче поднавались!
И тут произошло такое, чего никто не ждал.
Прежде чем опорожнять дозатор, надо было отодвинуть защелку – железный крючок
сбоку ящика. Лушка, очевидно, забыла о нем.
Привычным движением журналистка откинула крючок, ее руки налегли на рукоять —
ухнул вниз цемент, оставив над собою зеленое облако…
Кирилл попросту онемел. Растерялись и женщины, стоявшие возле журналистки.
А она спокойно закрыла дозатор, снова наполнила его, пустила из бачка воду. Потом
крикнула в квадратную деревянную трубку, по которой переговаривались с нижним этажом:
«Готово!» Внизу что-то ответили, загрохотала бетономешалка.
–Ну, как, все правильно?– Журналистка обернулась, вытирая локтем лицо.– Значит, не
забыла еще… А вы почему без респираторов работаете?
Кирилл шагнул вперед, но Лушка опередила его. Она подскочила к журналистке,
захохотала, обняла ее, стала хлопать рукой по спине:
–Ну, девка!.. Ну, брат… А я-то, дура, пугать выдумала. С виду-то не скажешь! Зато я
теперь тебе всю стройку покажу, по-настоящему… Пошли!
–Подождите!– смеясь, отмахивалась журналистка.– А про этих-то героинь я должна
написать?
Экскурсия оказалась интересной даже для самого Кирилла. Куда только не водила Лушка
журналистку!
Они побывали на полигоне сборного железобетона, слазали в автоклав, где, как в бане,
держалась немыслимая жара и клубился рыхлый, обжигающий пар.
Затем Лушка раздобыла две пары резиновых бахил и повела журналистку на укладку
бетона. Кирилл храбро лез вслед за ними сквозь переплетения железной арматуры,
карабкался по доскам опалубки и почти ничего не понимал из их разговора. Это была беседа
специалистов. Впрочем, Кирилл почти не прислушивался,– он только наблюдал за Лушкой.
Какое-то необыкновенное удовольствие, почти гордость были на ее лице. Казалось,
Лушке доставляет наслаждение показывать знающему человеку, что она может и что умеет.
А умела она много. Десятки работ были ей известны до тонкостей; с одинаковой
уверенностью она брала в руки вибратор, плотницкий топор или стальной мастерок. И этот
инструмент, взятый от разных людей, вдруг оказывался ей удивительно впору, словно она
давно уже привыкла к нему и знала его особенности…
И, наверное, оттого, что работа доставляла наслаждение Лушке, смотреть на нее было
тоже приятно. Журналистка давно забыла о своей нарядной одежде, успела испачкаться,
сбить прическу, но не обращала внимания на это и азартно хватала из Лушкиных рук все
инструменты,– ей хотелось тоже попробовать…
А Кирилл к концу путешествия совершенно измучился. Он прикидывал, какие объекты
остались неосмотренными, и боязливо поглядывал на Лушку, вытираясь платком.
Журналистка заметила его вид, пожалела:
–Может, отдохнем?
–Что вы, что вы!– прошептал Кирилл и тотчас опустился на траву, даже не посмотрев,
чистая ли она.
Лушка села рядом, закурила. Молчать было неловко, Кирилл спешно придумывал, о чем
бы завести безопасную беседу…
–Вот сколько раз ходил здесь,– проговорил он бодро,– а до сих пор не знаю, что там за
флажок висит.
Они сидели возле главного корпуса; прямо перед глазами вставала к небу его
недостроенная стена, зашитая волнистыми листами шифера. Под кровлей, на одном таком
листе, казавшемся снизу не больше почтовой марки, болталась белая тряпка.
–Это я вывесила,– сказала Лушка.
–Зачем?
–Так, баловство. Была тут прошлой осенью комедия.
–Расскажите, Луша!– попросила журналистка.
–Да чего… Ну, не достроили корпус, одной стены нет. А уже холод, вода на машины
льет. Начальство решило стенку шифером обшивать. Прилепили струнные леса, вызвали
плотников. А те – шиш!– не лезут.
–Отчего?
–Леса-то какие! Живопырка. Тросы из проволоки, а поперек досочки простелены.
Ступишь – и закачается все, зазвенит, как гитара. Вздохнуть боязно… Дождь хлещет, ветер,
а надо во-он куда лезть да там шифер приколачивать. Дали страху плотники.
–Тогда ты полезла?
–Ну да. Позвала свою бригаду, зашили стенку. А напоследок у плотницкого бригадира
отняла рубаху да и вывесила под крышей. Пускай, говорю, люди на твою капитуляцию
глядят! Так и висит рубаха, снять не могут.
Кирилл посмотрел на далекую, еле видную с земли тряпку. Смог бы он сделать то же
самое? Он, молодой, сильный? Вряд ли…
Он представил себе Лушку, работающую на страшной высоте,– как подымает она
мокрые листы шифера, как переходит по шатким доскам, как кричит, отворачиваясь от ветра
и брызг… Что заставило ее выдержать? Почему она смогла?
–Знаете, Луша,– засмеялась журналистка,– право, мне хочется про вас написать. Но я
одной вещи пока не пойму… Давайте начистоту, напрямик!
–Давай.
–Сколько вы лет на стройке?
–Двенадцать.
–Ого! И неужели нельзя было на другую работу перейти… ну, чтобы полегче,
поспокойней… Я же сама работала, знаю, как это достается! Можно год поработать, два,
три… А потом пусть другие! Откровенно говоря, я бы не осталась так долго.
–Ну, вот,– ответила Лушка, гася в ладони окурок.– В этом все и дело.
–Я не понимаю.
–Очень просто. Так всегда бывает,– которые уходят, а которые остаются. Уйти проще;
сколько раз меня звали…
–Так в чем же дело?
Лушка аккуратно закапывала окурок в землю, долго заравнивала ямку.
–Вообще-то можно…– сказала она неохотно.– Только кто заместо меня работать
будет? За двенадцать-то лет я кой-чему научилась… И могу такое, чего другие не могут. Как
же уйдешь, жалко ведь.
–Не знаю…– задумчиво сказала журналистка.– Не знаю…
Она закрыла блокнот и еще раз подняла глаза вверх – на белую тряпочку под крышей.
Тряпка дразнилась, как длинный язычок: то скрывалась, то вылезала из-под кровли.
–Не знаю…
А Кириллу отчего-то представилась утренняя живая дорога, полная людей, и он вспомнил
свои мысли, вызванные этой дорогой. И он подумал, что если и в правду когда-нибудь
исполнятся его мечты, и он – командир целой армии людей и машин – опять встретит
среди своих подчиненных Лушку, точно такую же, как сейчас, занимающую свой маленький
бригадирский пост, то, вероятно, окажется, что Лушка все равно счастливей и удачливей его.
Он это чувствовал, но хотел думать иначе, потому что так было проще и спокойней.
–Ну что ж,– сказала журналистка.– Пусть, Луша, будет так. А написать я все-таки
хочу. Пройдемте на ваш объект, я с бригадой познакомлюсь.
Кирилл неожиданно вспомнил об оставленном дома чертеже. Он совсем забыл, что
бригада простаивает, что надо искать копию! Вскочив на ноги, он торопливо забормотал:
–Вы идите, а я побегу за чертежом… Совсем забыл!
–А чего так спешно?– удивилась Лушка.
–Понимаешь, крепеж не могу выписать. Не знаю без чертежа, как перегородки крепятся.
–И бегать нечего,– сказала Лушка.– Я уже давно выписала крепеж-то твой.
ПАЛАН КРАСЕАЯ КАЛИНА
Вечером Палан пригнал с пастбища овец и стал разводить костер, устраиваясь на ночлег.
В это время пришла из деревни жена.
Присев у огня, она выкладывала на камень жесткие, высушенные в печи творожные
лепешки, свежий сыр, плитку зеленого чуйского чая – и ждала, когда муж с нею заговорит.
–Что передавали?– спросил Палан.
–Бригадир сказал, через неделю можно сбивать отару. Другие пастухи помаленьку
кочуют домой. Отец деньги на трудодни получил, теленка хочет покупать… А больше нету
новостей.
Жена села, протянула к огню ноги в мокрых сапогах. От подметок потянулся красноватый
пар.
–Сними,– сказал Палан.
Он воткнул над костром ветку-рогульку, повесил сапоги так, чтобы в голенища попадал
теплый дым. Потом вынул из своего мешка чистые портянки.
–Бери. А пока станем чай пить.
Жена потянулась за котелком, но Палан поднялся и пошел за водою сам.
Мутная река шумела под берегом, перекатывала гальку. Из расселины в камнях бил
родничок. Его струйка походила на ниточку; она дрожала в воздухе и рассыпалась каплями,
едва коснувшись гранитной плиты.
Пока котелок звенел, подхватывая струйку, Палан взял прислоненную к дереву удочку. Он
проверил, не смялась ли мушка из конского волоса, присел на корточки и забросил леску
через камни.
Там была яма, вымытая течением. Зеленовато-белая, блестящая вода крутилась на месте,
переплетаясь тугими жгутами. Иногда слышался плеск, взлетали брызги: это в холодных
струях играл хариус.
Мушка с крючком коснулась воды и заплясала в пене. И сразу мягкий удар чуть не
оборвал леску. Палан подсек – и выбросил на берег рыбу.
С толстой спиной, крапчатая, она была так холодна, что занемели пальцы. Палан стукнул
ее о камень, чтоб не билась, и опять закинул удочку.
К тому времени, как скупая струйка родничка наполнила котелок, Палан поймал еще трех
больших хариусов и одного маленького. Вот и хватит.
Он обтер крючок, поставил на место удочку и пошел назад.
Пока его не было, у пещеры под скалой, где горел костер, сгрудились овцы. Они стояли
полукругом, глядя в огонь выпуклыми, немигающими глазами. Им не хотелось лежать на
сырой земле, и они только вскидывали головы, когда жена замахивалась на них.
Палан коротко свистнул. Тряся грязными, кудлатыми хвостами, овцы шарахнулись в
загон.
–Чужого разговора не понимают,– усмехнулся Палан.– Только меня слушают…
Котелок скоро забулькал. В крутой кипяток бросили щепотку зеленого чая, – вода
потемнела, наверх всплыли мелкие веточки. Палан снял их и налил чай в кружку. Он видел,
что жене хочется узнать, какие новости расскажет он сам. Он видел это и не спешил, чтобы
не тревожить ее прежде времени.
Лишь потом, когда жена собралась уходить и сложила рыбу в сумку, он сказал беззаботно:
–Там попросишь, пускай зоотехник приедет. Надо акт написать на овцу.
–Болезнь, что ли?– забеспокоилась жена.
–Нет.
–А чего же?
–Да так. Медведь задавил.
Палан заметил, как остановились руки жены, завязывавшие сумку. Жена отвернулась и
замолчала.
Но Палан все равно знал, о чем она думает.
Она вспоминает тот ненастный осенний день, когда Палана принесли из тайги с
распоротым животом. Год назад медведь тоже задавил овцу, Палан пошел на медведя и не
смог его взять.
Когда Палана принесли домой, лицо у него было белое, как береста. Но Палан не стонал,
нет. Он посмеивался и пробовал шутить:
–Медведь такой попался… Калину любит кушать…
На языке алтайцев «палан» означает калину. И вот Палан шутил и смеялся, хотя лицо у
него было как береста, а мокрые глаза вздрагивали от боли.
Жена помнит это. И молчит, потому что боится спрашивать. Но она все-таки спросит.
–Пускай зоотехник сразу едет,– повторил Палан.
–Хорошо. А ты, ты пойдешь?
–Пойду.
–Ты пустой человек, Палан!– крикнула жена и бросила наземь сумку с рыбой.
Палан засмеялся.
–Я же красная калина,– сказал он, дергая себя за рыжие волосы.– Я просто качаюсь
под ветром и ничего не думаю. Как я могу быть другим?
Жена посмотрела на него и, не сдержавшись, улыбнулась сквозь слезы. Она не могла
долго сердиться.
Палан проводил жену до реки, помог перейти по камням на другой берег.
Она переступала боязливо, хватаясь за протянутую руку мужа. Губы у нее были
закушены.
Этой осенью она ждала первого ребенка.
Палан кочевал с отарой в одиночку. Старший пастух, абагай Тартыс, месяц назад уехал на
сельскохозяйственную выставку.
Перед отъездом он сильно сомневался, можно ли доверить Палану овец. Парень женатый
и работать не ленится. Но какой-то странный! Поет с утра до ночи, неизвестно чему
радуется. А то вдруг загрустит, с цветами начнет шептаться, совсем как девчонка, играющая
с куклой.
Абагай Тартыс заглядывал в лицо Палану и вздыхал. Трудно положиться на человека,
глаза у которого все время блестят, как после глотка хмельной араки.
Но свободных людей в колхозе не отыскалось, и Палан остался с отарой один.
Долго время все шло хорошо. Молоденький месяц, поднимавшийся над горами, успел
превратиться в круглую луну и опять похудеть; желтый лист начал падать в тайге, первые
заморозки по утрам прижигали траву, а Палан перегонял отару с пастбища на пастбище, и
все овцы у него были целы и здоровы.
И вдруг – одна погибла.
Но самое плохое было в том, что медведь мог вернуться. Вкус овечьего мяса приятен,
охота легка; очень просто найти дорогу к отаре…
Вот почему Палан сказал жене: «Пойду».
Утром он пригнал овец в узкую долину, с трех сторон окруженную скалами. У выхода из
долины повалил несколько тонких лиственниц, чтобы овцы не могли разбежаться.
Теперь можно было оставить их без присмотра.
Он вернулся к себе в пещеру, поел, потом взял ружье и самодельный кожаный патронташ.
И едва ружейный ремень привычно лег на плечо, Палану стало хорошо и спокойно.
Тихонько напевая, он шел зарослями вниз по реке. О чем была его песня?
Он видел водопад в темном ущелье и пел про белый огонь водопада; поднимаясь в гору,
он касался руками стволов и пел о соснах, стоящих на плечах друг у друга; он спугивал с
камней золотых трясогузок и пел о том, что они похожи на солнечных зайчиков…
А затем ему встретился калиновый куст.
Палан остановился и оборвал песню.
Калина росла над обрывом; ее зубчатые листья, чуть окрапленные желтизной,
отворачивались от ветра и показывали пушистую изнанку, словно покрытую шерсткой. А
ягоды были похожи на капли крови.
–Ты зачем?– спросил Палан.– Ты нарочно?
И, прежде чем он договорил, перед его глазами возникло то, чего он боялся и не хотел
вспоминать.
Он увидел занесенную лапу с грязными, желтыми на концах когтями, вкось падающее
небо и перед самым лицом – осенние листья калины, на которых он лежал в тот самый день.
Теперь листья еще зелены, только кой-где на них проступают сухие, бурые пятна.
Усмехнувшись, Палан сорвал несколько ягод и бросил их в рот.
–Медведь ошибся тогда,– сказал он убежденно.– Ты совсем не вкусная, красная
калина!
Калина закачалась, залопотала что-то, но Палан уже отвернулся от нее и пошел дальше.
Что ж, если ему напоминают о медведе, Палан станет думать о нем. И даже споет про
него песню. Пусть будет так!
И Палан запел о медвежьих следах, оставленных возле мертвой овцы. Их было три —
один большой, с толстой голой пяткой, и два маленьких, суетливых следа.
Палан узнал по этим следам, кто приходил. И он верил, что найдет зверя. Все медведи
теперь поднялись высоко в горы, где в кедрачах поспел орех. А здесь остался какой-то
жадный, глупый, обучающий своих детей охотиться на овец… Палан найдет его и проучит.
Так он шагал, не уставая, со склона на склон, и тихонько пел, а тайга неохотно
расступалась перед ним, пряча звериные тропы.
Синие круглые листья бадана распрямлялись позади него и долго шептали о поющем
охотнике, что идет по медвежьим следам. И жесткий маральник, вцепившийся в скалы,
шептался о том же. И седая акация, покалывая соседей сухими колючками, сплетничала
тоже, и шепот бежал по травам позади Палана: «Слышали? Рыжий человек поет песню и
разыскивает одного большого медведя и двух маленьких…»
Палан не слушал этот шепот и обгонял его. А там, куда он шел, была пугливая тишина и
солнечные лучи дымились между черных лиственниц. Птицы, пролетая сквозь такие лучи,
вспыхивали яркими пятнами и, ослепленные, задевали за тонкие веревки мха, свисающие с
ветвей…
Там тайга молчала и укрывала зверя.
Но все-таки Палан отыскал его.
Он увидел, как внизу, в кустах, шевельнулось темное, медленное,– и на поляну вышел
медведь, опустив башку на длинной, худой шее.
Палан приник к земле. Хоть зверь и далеко, но может учуять. Тогда не догонишь.
Вскоре на поляну выкатились, торопливо загребая лапами, два лончака – годовалых
медвежонка. «Все верно!» – сказал себе Палан.
Подкидывая задами, лончаки играли в догонялки: хлопали друг дружку лапами,
бодались… Медведица обернулась, поджидая их.
Палан сорвал с плеча ружье и выстрелил в воздух.
Будто по ступенькам скатилось на дно ущелья отчетливое эхо. Медведица быстро
кинулась прочь. А лончаки – ошарашенные, задрав носы,– на миг присели, а потом
бросились к ближнему кедру и полезли вверх.
Поддавая задними лапами, они взлетели по стволу. Замерли потревоженные ветки.
–Хорошо!– похвалил Палан.
Он снова присел в траву, затаился. Он ждал. Медвежата еще не понимают, что на дереве
от человека не спрячешься. Они будут сидеть крепко. А медведица не бросит их, придет и
тоже взберется на кедр.
Палан переломил ружье, вынул теплую стреляную гильзу, загнал новый патрон. Он
старался не спешить.
Медведица вернулась бесшумно. У края поляны постояла с поднятой лапой —
прислушалась. Лончаки завозились на кедре, хрюкнули. Подойдя к стволу, она легко
вздыбилась и тоже полезла кверху.
Тогда Палан вскочил и побежал к поляне.
Медведица услышала шаги и теперь подталкивала лончаков,– заставляла карабкаться
выше. Палану хорошо были видны ее задние лапы с когтями, впившимися в кору.
Он остановился шагах в десяти.
–Ну что?– громко спросил он.– Нашел я вас?
Он прислушался к своему голосу и заметил в нем дрожь. Это нехорошо. Торопиться
нельзя.
И Палан не стал торопиться. Он положил ружье, присел на землю и стал закуривать.
Медведица не нападает первой. Если ее не трогать, она будет спокойно ждать, когда ты
уйдешь…
Но Палан уходить не хотел. Он просто ждал, пока успокоятся руки, и медленно
сворачивал цигарку. Знакомый шепот дополз до него по земле; листья и травы
переговаривались осторожными голосами: «Рыжий охотник ждет, и медведи на кедре
ждут…»
И тайга замерла настороженно.
Палан выкурил цигарку до конца, плюнул на окурок.
–Ничего,– сказал он.– Вот руки уже перестали плясать. Еще немножко, и они станут
смелыми. В прошлом году я торопился, а теперь не хочу.
Палан неторопливо вынул из ружья патрон и покачал пальцами круглую свинцовую
пулю, зажатую картонной полоской. Нет, пуля сидела плотно.
Ну, тогда пора.
Он поднялся и обошел кедр, выбирая, откуда ловчее стрелять.
Он целился в шею – в рыжеватое пятно между горлом и грудью. Оно просвечивало
между ветвей, и на нем плескалась тень от хвои.
И, может, у него дрогнула неуспокоившаяся рука. Или в тот миг, когда стукнул выстрел,
медведица шевельнулась. Совсем немного.
Но пуля не ударила в позвоночник, как он метил, а прошла навылет, чуть ниже.
Обламывая ветви, медведица рухнула с кедра, но сразу – будто подкинутая,– рванулась
вперед. Палан, отшатнувшись, увидел занесенные в прыжке лапы. Захлебывающийся рык
плеснул ему в уши.
Ружье у него – одностволка. И он не успел выбросить гильзу и сунуть новый патрон.
Зверь налетал.
Палан метнулся вниз по склону.
…Все было как в прошлом году. Раненый зверь догонял Палана, и обрывалось дыханье, и
подкашивались ноги в неистовой скачке по кустам и валежнику. Еще секунда – и этот
рычащий, страшный ударит в спину, и тогда навзничь повалится небо, и тьма, крутясь,
вольется в глаза…
В прошлом году рядом с ним был второй охотник. Абагай Тартыс прыгнул на медведя с
ножом; удар был точней выстрела, и это спасло Палану жизнь.
Сейчас рядом – никого. Палан бежал, и зверь настигал его, и казалось – спину жжет
яростное дыхание.
Но что-то изменилось с прошлого года. Тогда Палан бежал, ничего не сознавая. Сейчас
мгновенно ловил взглядом землю, кусты, деревья, и когда заметил впереди каменную осыпь,
– сразу понял, что делать.
Мелкие камни лежали на крутом откосе, как серая застывшая река. Палан вынесся к ней и
вдруг круто прыгнул в сторону, вбок.
–Ага!..
Мчавшаяся по пятам медведица не смогла повернуть. Она выскочила на осыпь, камни
дрогнули – и загрохотали вниз, таща за собой зверя.
Медведица рвалась из этого потока, крутилась, но камни сыпались быстрей и быстрей.
Обвал стремительно рос.
Палан зарядил и вскинул ружье. Эхо полоснуло в горах, как свистящая плеть. Когда оно
смолкло, обвал уже застыл. Мертвые лапы лежали на мертвых каменных волнах…
–Вот и все,– сказал Палан.
Сворачивая цигарку, он стал подниматься обратно к поляне. Он дышал легко и спокойно и
опять улыбался своей знакомой, беспечной улыбкой.
Лончаки все еще сидели на кедре.
–Эй, вы!– крикнул им Палан.– Я не возьму вас, глупых. Но вы не ходите к моей отаре
и не трогайте красную калину. Она ведь совсем не вкусная!
Он стоял на поляне, веселый, уверенный, и вся тайга – с ее бегучими ручьями, с
туманом в сырых ущельях, с тяжелой и темной травой, оплетенной ежевичником,– слушала,
как смеется рыжий охотник.







