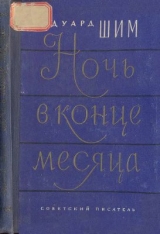
Текст книги "Ночь в конце месяца"
Автор книги: Эдуард Шим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
вокруг нас уже нет. Обнажилась земля, – раскисшая, в грязи и тине, но все-таки земля! До
чего приятно сидеть на ней, чувствовать ее под собою.
– Дура серая... – как сквозь вату, доносятся до меня слова Пети. Он отплевывается,
вытирает синие губы. —Вот зачем полез?
–Я уж думал, ты...
–Ду-умал, голова, два уха...
Мы перекидываемся обычными словами, но сколько за ними скрыто! У Пети еще не
прошел испуг; он словно не верит, что все обошлось благополучно, вот и сам вылез, и
дружка вытащил... А я слушаю хриплый, шипящий его голос и радуюсь, и мне приятно, что я
сижу рядом с ним, вижу его обалделые глаза, торчащие от холода брови...
Петя замечает, что я гляжу на него, и стесняется – скромно опускает голову. Потом
плюет в канаву и говорит:
–Видал? Прет вода, как нанятая. Так я и думал, что лучше всего пузом чистить... У меня,
брат, пузо – сила!
А мне даже немножко обидно, что труба уже прочищена и по канаве стремительно, как
струя из брандспойта, летит вода. Я же ничего не сделал, прыгал на берегу, а после полез
топиться... Пожалуй, я не помогал, а мешал Пете...
Петя достает из груды одежды пилотку, советует:
–Надень. Чтоб пятки не зябли.
И голос у него уже обычный, с лукавинкой.
Накинув шинели, мы выжимаем обмундирование. Чтобы согреться – скачем и зверски
лупим друг друга под бока. А едва успеваем одеться, как со стоянки прибегает сержант
Лапига. Еще издали он машет рукой, торопит:
–Быстрей! Помочь... Самолет сорвало!..
Всегда спокойный, Лапига сейчас растерян. Мы с Петей переглядываемся, – видать,
теперь не до объяснений...
Мы бежим по очистившейся от воды рулежке. Ветер бьет нам в спины, гонит. Я вижу, как
впереди, в раздутой колоколом шинели, Петя вымахивает невероятные прыжки. Его
тоненьких ножек не видно, и кажется, что Петя катит по воздуху, словно ведьма, подруливая
подолом.
На стоянке много народу – и наши солдаты, и поднятые по тревоге технари. Кричат,
бегают. Внезапно рядом с нами слышится треск, похожий на пистолетные выстрелы, и потом
из земли взвивается фонтан синих чудовищных искр. Я шарахаюсь в сторону.
–Провод оборвало!.. – толкает запыхавшийся Лапига. – Законтачивает... Берегись!..
Фонари на столбах не горят. В темноте я не сразу понимаю, что произошло. Потом я вижу
неуклюже повернутые самолеты и возле них – автомобиль-буксировщик. Оказывается,
несколько самолетов сорвало с тормозных колодок. Они повернулись так, что буксировщику
их не зацепить. А если не растащить – врубятся, помнут друг друга...
Мы с Петей кидаемся под плоскость. Там какие-то серые, согнутые – уперлись в шасси,
кричат сдавленными голосами: «Ище-о-хыть!.. И еще-о-хыть!..»
Я тоже подставляю плечо под толстую стойку шасси. Вкапываюсь ногами. Шасси
медленно напирает, гнет, гнет... Еще миг – и сомнет широким, будто чугунным колесом,
отскочить не поспеешь.
–И еще-о-хыть!.. – выдыхает рядом задушенный, но очень знакомый голос. Я
скашиваю глаза. Рядом вмялось в стойку плечо с золотым майорским погоном, видна надутая
щека и глаз. Глаз выпучен, но он все-таки замечает меня и ободряюще подмаргивает:
держись, солдат!
–И еще-о-хыть!..
На какое-то мгновение ветер обрывается. И этого мгновения хватает, чтоб мы задержали,
остановили самолет. «Навались!!»– истошно кричит майор, и я чувствую, что шасси опять
начинает двигаться, но теперь уже назад, н-назад, нн-назад...
Между мной и майором на четвереньках просовывается Лапига, он тащит красную
тормозную колодку. Сунув ее зубцы в щель между бетонными плитами, он коротко ухает:
«Все!» – и мы разгибаемся.
Потом буксировщик отвозит самолет на место, выравнивает остальные, – мы в этом уже
не участвуем. Это могут без нас.
Я стою, и меня качает, словно внутри, в теле, мускулы еще не могут остановиться и тянут,
толкают вперед. Спина и руки наливаются горячей тяжестью. Но мне плевать на эту тяжесть,
на мокрую одежду, на звон в ушах, – яростная радость захлестывает меня: сделали,
выстояли, перемогли!
На заплетающихся ножках бредет Петя Кавунок. Он потерял пилотку и шарит ее глазами,
а нагнуться – я же знаю! – ему трудно, нет сил нагнуться.
–Петя, – бормочу я, – брось, Петя!.. Застрелись твоя пилотка, бери мою, после
найдем...
Обратно в казарму мы выезжаем на заре. Из рваных туч по-прежнему сеет дождь,
перемешанный с мелким снегом, но в мутном утреннем свете он кажется слабей и тише.
Ветер тоже притих, словно выдохся за ночь.
Мне тепло, со всех сторон стиснули меня бока, спины, плечи. Трехтонку трясет, а я сижу,
будто в чьих-то больших руках. Но лицо у меня, наверно, здорово измученное, потому что
сержант Лапига искоса к нему приглядывается.
Потом он лезет в карман, долго роется в нем, вытаскивает восьмушку газетной бумаги.
Снова лезет на самое дно, загребает что-то... Я вижу на его заскорузлой ладони слипшиеся,
сырые крупинки махорки. Лапига бережно стряхивает их на бумагу и протягивает мне:
–Вот... осталось... Скрути, полегчает. Я скручиваю, и мы курим по очереди, передавая
цигарку по кругу.
Проезжаем мимо клуба, на заборе —афиша. Я вижу на ней цифры и вспоминаю, что уже
настало первое число. Кончился месяц, данный мне майором Чиренко.
Только сейчас мне совсем не хочется мечтать о тихой канцелярской комнате. Наверно,
перестал я ценить такие блага... За этот месяц я понял, что такое настоящая работа, я нашел
много настоящих друзей. Неужели я уйду от всего этого? Нет, не хочется... Интересно,
понимает это командир, умный человек, или не понимает?
Петя Кавунок мнется, опасливо поглядывает на приплюснутые уши сержанта Лапиги,
затем – придвигается ко мне и шепчет:
– А самосад-то у него злой, тамбовский... Вот бы нажать, чтоб поделился!
И глаза Пети снова блестят каверзно.
УЧЕНИК МАСТЕРА СОБОЛЕВА
1
Начальник цеха толкнул облупленную дверь мастерской, пропустил Алешу вперед и уже
не казенным голосом, как вчера, а запросто, по-свойски сказал:
–Вот, давай… Верстак тебе сюда поставили. Инструмент бери в кладовке. А если
заминка какая, то спросишь вон у соседа, он все знает.
И, кивнув, ушел.
Алеша оглядел мастерскую. Она была низкая, тесноватая, заставленная уже готовыми
столами, диванами, стульями, и казалась необжитой комнатой, в которую только что въехали
жильцы и еще не успели расставить мебель.
Пол, закапанный клеем, был подметен, а повыше – на оконных рамах, на лампочках и
карнизах – везде лежала седая древесная пыль. Алеша вспомнил, что на ощупь она скрипит.
Сильно пахло спиртом и чуть подгоревшим хлебом. И это знакомые запахи. Спиртом
пахнет отлакированное дерево, а подгоревшим хлебом – свежие опилки, упавшие из-под
горячих зубьев пилы.
Два верстака стояли в мастерской. За одним из них работать Алеше. А за вторым,
задвинутым в дальний угол, склонился сутулый человек в черном фартуке. На звук шагов он
даже не обернулся.
–Добрый день!– сказал Алеша и подошел ближе.
Человек нехотя поднял голову.
Только секунду длилась растерянность, а затем Алеша сразу вспомнил, узнал – и эту
тяжелую, лысую голову с квадратным лбом, и приплюснутый нос, и широко посаженные,
крупные желтые глаза под набрякшими веками… Мастер Соболев!
–Корней Лукич?.. Вы?!
Соболев разогнулся над верстаком. Разумеется, он тоже узнал Алешу. По хмурому лицу
скользнула улыбка, но быстро погасла, растаяла, глаза остались равнодушными. Он словно
не удивился, не обрадовался… Протянул руку:
–Здорово, работничек.
Алеша подскочил, затряс в ладонях шершавые, испачканные политурой пальцы Корнея
Лукича.
–Вот… Вот не ждал-то!
–К нам поступил?
–Ну да!– заторопился Алеша.– Не думал, не гадал… Три года в армии, а теперь вот —
сюда…
–Не бросил, значит, ремесла?
–Что вы, Корней Лукич! Так охота работать, руки зудят… А вы-то почему здесь? А
училище?..
Соболев присел на край верстака, вытащил из нагрудного кармана папиросу.
–Нету больше училища.
–Как так?!
–Закрылось.
–И давно?
–Я уже о нем забывать стал,– усмехнулся Соболев.– Вот, за другое дело принялся. На
большом верстаке время обстругиваю…
Пальцы у Соболева дрожали, неприятно приплясывали, будто их дергали за ниточки.
Папироса сломалась. Он долго склеивал ее, слюнявя бумажку.
–А ты что же – лучше места не нашел?
–Да я и не искал…– растерянно проговорил Алеша.– Я и хотел сюда, думал… Разве
здесь так уж плохо?
Соболев ответил не сразу. Прикурил, выщелкнул спичку из пальцев, закашлялся. И уж
только потом, заворачивая скрипучий винт верстака, буркнул:
–Да чего… Сам увидишь.
2
На свете есть всякие ремесла.
Одни – серые, незавидные, другие – яркие, в золоченых позументах романтики. Есть
ремесла веселые, злые, отчаянные, горькие.
Но есть и еще одни – редкостные.
Вот таким было ремесло Корнея Лукича Соболева. Он реставрировал музейную мебель.
С небольшим чемоданчиком, где был сложен инструмент, Соболев поднимался по
дворцовым лестницам, входил в торжественные, с застоявшейся тишиной залы.
Служащие музеев предупредительно распахивали двери, а Соболев двигался, не отвечая
на приветствия, грузный, насупленный, похожий на старого доктора, и палка, на которую он
опирался, твердо стучала по навощенным паркетам: туп, туп, туп…
Подойдя к экспонату, какому-нибудь готическому креслу, Соболев вешал палку на локоть
и надевал очки. Глаза его, за выпуклыми стеклами, были холодны и почти бесцветны.
Он смотрел на кресло долго, пронзительно, будто рассекал его взглядом, распластывал на
полу, обнажал скрытые пороки. Палка беззвучно качалась на его локте, как стрелка
аптекарских весов.
На одной чаше – музейный экспонат, на другой – труд мастера Соболева. Что
перевесит?
Палка останавливалась. Поработать – стоит.
И сразу все менялось. Торопливыми, жадными пальцами Соболев завязывал фартук.
Маленький чемоданчик распахивался, показывая бархатный черный зев со сверкающими
зубьями долот и стамесок.
Затем в тишине музейного зала раздавались хрипы, радостное сопенье,– Соболев
раздирал кресло, вышвыривал гнилые бруски, выколачивал труху, веками копившуюся в
углах. Удары его инструмента казались безжалостными,– он не боялся ошибиться и не
сдерживал руку.
Что происходит кругом – его не касалось. Он мог начать работу поутру и – с пальцами,
изрезанными до крови, с онемевшими ногами, с лицом серым и дряблым от усталости —
оторваться от нее лишь поздней ночью.
По едва уловимым признакам, по следам инструмента на дереве Соболев узнавал
древнего столяра. Сдвигались пространства, исчезало время, ничего не оставалось, кроме
тайной связи, объединявшей двух людей из разных столетий. Этой связью было мастерство
– непреходящее, вечное…
Потом, всегда неожиданно, работа кончалась.
Соболев боялся этого часа. Напряжение обрывалось, наступала пустая тишина; еще не
сознавая себя, не успев очнуться, Соболев с трудом разгибался, невидящими глазами
обводил музейный зал…
Он уходил опустошенный, разбитый, равнодушно оставляя только что собранную вещь.
Полагалось радоваться, что она заново рождена, опять займет свое место,– Соболев не
радовался.
Для него был важен процесс, а не результат. Законченная вещь не нуждалась в руках
Соболева, она не могла вызвать в нем взрыва душевных сил, яростного желания работать…
И он больше не замечал ее.
После войны в городе открылось несколько художественных училищ. Старых
специалистов не хватало, чтоб восстанавливать разрушенные дворцы и музеи.
Соболев согласился преподавать краснодеревное ремесло.
Пускай сотня-другая мальчишек, попавших к нему на выучку, станет такими же
мастерами, как он сам. Корней Лукич не стерег секретов ремесла – они были слишком
ценными, чтобы их утаивать.
Среди учеников Соболева был и Алешка Бакалин, долговязый, неловкий парнишка,
которого долго пришлось учить уму-разуму.
3
На верстаке лежит дубовая доска. Она перекошенная, в трещинах. Цвет у нее как у
гнилого сена. Темные сучки похожи на старческие закрытые глаза.
Но Алеша видит не только это.
Он видит, что в доске скрыт столик. Небольшой шахматный столик на острых точеных
ножках. У него круглое подстолье, а крышка тонкая, легкая, и если стукнуть в нее – звенит
как бубен.
Если бы Алеша делал не столик, он увидел бы в доске еще что-нибудь.
Например, вазу. Она плавно развернула свою чашу, как огромный цветок, и ручки у нее
обвиты листьями. На листьях – тонкие прожилки и блестки, похожие на солнечную пыль.
А может, он увидел бы в доске раму для картины. Покрытая золотистым лаком,
массивная, она кажется отлитой из бронзы.
В доске много разных вещей. Только все они скрыты под грязной корой, спят как
мертвые.
Но Алеша может их разбудить.
Он обнимет рубанок за теплую спинку, проведет по доске. Морщинистая стружка
брызнет кверху. И откроется чистое дерево, будто кожа в легком загаре, и дубовый сучок
взглянет на Алешу живым и веселым глазком.
Как в сказке, Алешины руки разбудят спящую красоту.
–Говоришь, три года рубанка не держал?– спросил Алешу начальник цеха.– Наверно,
забыл, с какой стороны железку суют? Придется пробу сдавать.
Он думал, что Алеша побоится. Но Алеша не испугался, нет. Учили его хорошо, и свой
разряд он всегда подтвердит.
Утром Соболеву принесли заготовки для шахматных столиков. Это был не массовый, а
«штучный» заказ, для какой-то новой гостиницы.
Алеша рассмотрел чертеж, и столик ему понравился.
–Очень удобный… Вот и попробую сделать!– сказал он Соболеву.
Корней Лукич поднял сумрачный взгляд, потом нехотя, очень медленно потянул к себе
фиолетовый измятый листок.
–Двоим по одному чертежу… что за работа.
–Ну, сбегаю, принесу еще чертеж.
–Дело твое…
Весь день Соболев был отчего-то хмур и с Алешей почти не разговаривал.
Но Алеша не замечал этого. Началась работа.
Словно и не было трехлетнего перерыва – руки задвигались точно и быстро, сам собой
прыгнул за ухо карандаш, привычно нажал подбородок на стамеску… Инструменты,
сделанные еще в училище, разложены по своим местам, они в полном порядке…
Алеша вспомнил, как Соболев учил его беречь инструмент. В группе только что начались
занятия. Корней Лукич роздал мальчишкам свои пилы, рубанки, долота.
Алеша первый раз в жизни строгал брусок. Рубанок полз тяжело, будто вязнул; чтобы
уменьшить стружку, Алеша хотел стукнуть по нему молотком.
Никогда потом он не видел такого яростного лица, какое было тогда у Соболева.
–На, бей!– выдохнул Соболев и сунул под занесенный молоток пальцы с черными,
толстыми ногтями.– Бей! Рука заживет, а рубанок не вылечишь…
Алеша торопливо отдернул молоток и принялся строгать еще усердней. Как это было
трудно! Дерево сопротивлялось, оно почти визжало, когда отрывались волокна; оно
вывертывалось, изгибалось, и Алеша в слепом отчаянии наугад пихал и пихал рубанком…
Потом неделю у него ныла спина. Невозможно было нагнуться. Свежие мозоли кусались
так, будто в руках зажаты раскаленные пятаки.
Соболев это видел, но утешать не стал.
–Будет еще солоней,– сказал он.– Мужское ремесло… Лучше сразу плюнь, если не
можешь.
И в самом деле: красивое, чистенькое с виду ремесло оказалось не больно-то сладким.
Сколько раз Алеша в сердцах швырял инструмент, уходил в темный коридор, закусив губу.
Руки не слушались, сил не хватало.
Злился на мастера. Видеть не мог его размеренной поступи, склоненной головы, желтых
глаз, спрятанных за очками…
И лишь потом понял, что беспощадным был не Соболев, а его профессия. Она не
прощала ошибок.
Многодневную, выстраданную работу можно было загубить одним движением. Заедет
вкось пила, соскользнет стамеска – кончено. Не поправишь, не приклеишь, не приткнешь…
Не всегда выручит и станок, у столяра половина работ – ручные. Нужна уверенная сила,
точность, адское терпенье.
Но зато какая же радость ощущать, что дерево тебе подчиняется!.. За год стали
железными пальцы, окрепло все тощее Алешкино тело. Когда поводил плечами —
чувствовал, как перекатываются, пружинят мускулы.
Стоит за верстаком – потный, волосы на лбу, к мокрой шее пристали опилки, руки
напряглись. Кругом хаос: доски, планки, вороха стружек, а ему наслаждение – из этого
хаоса составлять, состраивать вещи… Удивительно видеть, как они рождаются на глазах!
Вот так трудился Алеша и сейчас, вернулось это ощущение работы взахлеб…
Соболев тоже копошился в своем углу, – постукивал киянкой, скрипел расшатанным
винтом верстака.
Поглядывая на его спину, Алеша улыбался. Как он должен благодарить мастера… Ведь
все, что умеет Алеша, подарено Корнеем Лукичом. Вплоть до последней мелочи. Даже такой
пустяк – прижать ногтем пилу, чтоб не съехала, – и тот не выдуман Алешей, а показан
мастером Соболевым.
4
С работы шли вместе.
На углу, около низких витрин мебельного магазина, Алеша придержал шаг. В полупустом
магазине вдоль стен выстроились алюминиевые складные креслица, а на витрину был
выдвинут зеркальный розовый шкаф. Он казался голым, только на дверце был прилеплен
плоский деревянный цветок.
–Наша продукция, Корней Лукич?
–Бес ее знает,– равнодушно сказал Соболев.– Везде одно… Выкрасить да выбросить.
–Ну, как же… Обидно, если наша!
–Пойдем, толпу соберешь.
Опираясь на палку, сутулый, с подбородком на груди, Соболев медленно зашагал прочь.
Алеше казалось, что он все время о чем-то думает, но думы эти – привычные, старые, от
которых уже не стоит волноваться.
–Все равно завтра погляжу в цехах!– упрямо пообещал Алеша.
Соболев усмехнулся, оцарапал блеснувшим взглядом.
–И что тогда?
–Ну как «что»… Если увижу, что это мы выпускаем, ругаться начну.
–Ага. И думаешь – поможет?
–Ну, Корней Лукич!.. Ведь так же все равно нельзя…
–Брось ты,– устало оборвал Соболев.– Нашелся ругатель… Все это ни к чему.
Он махнул рукой и грузно поднялся в парадную. Палка его застучала о ступеньки
лестницы – туп, туп, туп,– словно убегая, все еще тявкала, как собачонка.
Алешу расстроил этот разговор. И по дороге домой, и вечером он перебирал слова
Соболева, пытался понять – откуда в них такое странное, неприятное безразличие…
Он припомнил верстак, будто нарочно задвинутый в дальний угол мастерской; сутулую
спину – она была как захлопнутая дверь, ничего за ней не увидишь; и голос – бесцветный,
сухой голос, ни радости в нем, ни живинки…
Какая-то перемена произошла с Корнеем Лукичом.
5
Жизнь Соболева круто изменилась, когда он попал в мебельную артель.
После нескольких выпусков художественное училище закрыли. Вероятно, спрос на
краснодеревцев снизился,– профессия редкая, зачем готовить излишек специалистов.
Корней Лукич распрощался с последней группой и стал ждать, когда его пригласят на
новую должность. Он не сомневался, что его помнят. В минувшие годы Соболева
уговаривали работать, кланялись, заискивали, он не привык напрашиваться сам. Но теперь
его не звали.
Соболев терпеливо ждал, крепился. Потом обиделся так, как умеют обижаться одни
старики,– насмерть.
Он не искал, не хотел знать никаких утешений. Он не подумал о том, что могло десять раз
смениться начальство, знавшее его; что теперь во дворцах и музеях трудятся его ученики,
справляющиеся с любым делом; что, наконец, попросту меньше стало работы, мебель – не
башмаки, требующие каждый месяц ремонта…
Соболев знать ничего не желал.
Прождав месяц, он – всем назло! – пошел и нанялся работать в захудалую артель, благо
находилась она вблизи от дома.
Цехи этой артели располагались в бывшей католической церкви. Между контрфорсами
храма, под галереями высеченных из камня святых, стояли новенькие станки.
Святые содрогались от заливистого визга циркульных пил. Их головы медленно
покрывала древесная пыль.
Мастерская, которую отвоевал себе Корней Лукич, помещалась в коридоре церковной
пристройки.
–У нас тут все временное!– с готовностью объяснил начальник цеха.– И вам дадим
временную работу. Резьбу на шкафы делать, уголки полировать, то, се… А потом пойдут
штучные заказы, на них развернетесь…
Корней Лукич не стал спорить. Самоуничижение было даже приятным,– чем ниже
опускался мастер Соболев, тем сильней звучал брошенный им вызов…
Ядовито улыбаясь, Корней Лукич сел вырезать из липовых колобашек цветы.
Это было украшение для шкафов. Оно одинаково годилось для семейной, канцелярской и
больничной мебели,– деревянный цветок не выражал ничего.
Соболев не стал улучшать его. С подозрительной точностью он создавал десятки копий. В
блестящем повторении уродливых линий была виртуозность и скрытая издевка.
После работы, проходя у витрин мебельных магазинов, Корней Лукич видел
выставленные на продажу шкафы. На каждом сидел деревянный цветок.
Соболев подмигивал цветку, как сообщнику,– ведь они вместе насмехались, вместе
бросали вызов…
Но текли дни, месяцы. Брошенного вызова никто не принимал. Начальник цеха был
доволен работой мастера, шкафы расходились по магазинам, кто-то их покупал…
Корней Лукич ждал взрыва, ругани, упреков, – ничего не было.
Тогда цветы ему надоели. В течение двух дней он обучил девочку-подсобницу
штамповать их, а для себя потребовал иного дела.
Ему поручили фанеровать дверцы.
Соболев решил показать класс. На горячей плите он прогрел бруски, сам сварил клей.
К обеденному перерыву были собраны десять дверок.
Когда они подсохли, Соболев начал их скоблить и чистить. Он прошкуривал каждую
пядь, убирал крохотные заусенцы, снимал царапины. Дерево становилось шелковым, его
хотелось погладить.
Работа еще не была кончена, когда забежал начальник цеха.
–Ого!– сказал он.– Вот это я понимаю…
Корней Лукич невольно распрямился, отряхнул руки,– впервые за много дней он
услышал признание…
–Восемь, девять, десять…– считал начальник цеха.– А качество!..– он поднял дверцу,
повертел ее.– Хоть на выставку!
Но дверца в руках начальника была не та. Это была еще не законченная, грязная дверца.
А чистые лежали в пачке, рядом.
–Значит, хорошо?– с тяжелым спокойствием спросил Соболев.
–Чудненько! У меня лучшие работники не выжимают по десять!
Начальник быстро собрал все дверцы, взвалил на плечо и утащил в сборочный цех.
И Корней Лукич не остановил его.
А позже он посмотрел, как «жмут» лучшие производственники. В цеху работало
несколько мальчишек. Они ничего не умели делать,– клей ложился на сырое дерево, фанера
– на холодный клей; кое как обшурханные дверцы шли прямо на сборку.
Соболев стоял, и опять качалась палка на его локте, как стрелка весов.
Вернувшись к себе в мастерскую, он не стал работать. До конца смены еще оставалось
время, можно было взять новую партию заготовок, но знакомое чувство опустошения
захватило Корнея Лукича… Под гулкими сводами церкви по-прежнему заливались пилы, во
дворе грузчики с грохотом скидывали доски с машины, а вокруг Соболева не было ничего,
кроме пустой тишины.
Погасла печка, над которой грелись бруски,– мастер не замечал этого, неподвижно
сидел, курил…
Для чего вылизывать одну дверцу, размышлял он, если вторая слеплена неумелыми
руками мальчишки? Для чего стараться и лезть из кожи вон, если это никому не нужно?
Пусть шкаф выйдет неважным,– купят и его, потому что мебель нарасхват, покупают все
что угодно… Никто не добивается качества – лишь бы пропустил контролер, лишь бы
принял магазин…
А может, так и надо? Шкафы делаются не для музея, если трезво рассудить – это просто
большие ящики, в которых висит одежда, пересыпанная нафталином…
И вот так, отталкиваясь от мелочей, вроде недочищенной дверцы, Корней Лукич,
вероятно, впервые серьезно задумался над самым главным – над тем, ради чего он работает.
Он вдруг подумал, что все его знания, весь талант, все мастерство, в сущности, так же
бесполезны, как и та дворцовая мебель, которую он когда-то чинил.
Сейчас людям нужны простые, грубые стулья и кровати. Кому потребуется золоченая
банкетка или консоль с инкрустациями?
Музейные вещи, которые так любил Корней Лукич, отжили свое время. Больше таких
делать не будут. Вот и оборвалось это вечное, непреходящее, – мастерство, что
протягивалось сквозь века…
И Соболев решил – как всегда, круто, – будто отсек, обрубил последние сомнения.
Он затолкал верстак в дальний угол мастерской, повернулся спиной к дверям. Никто
теперь не видел, что появлялось из-под рук мастера Соболева, Подсобник уносил готовые
детали на сборку, там они смешивались с другими – пойди разбери, чья работа…
Сначала Корнею Лукичу было совестно, при каждом стуке двери он вздрагивал, закрывал
собою верстак.
Потом – плюнул. В конце концов, если потребуется, он всегда покажет, на что
способен…
И он стал гнать дверцы уже спокойно, просто, привычно. Он не боялся, что притупит
глаз, растеряет прежние навыки. Никуда это не денется. А пока можно и так…
Иногда у него являлось желание поработать всерьез; руки сами собой задерживали
инструмент, не хотели отпускать от себя грязное, шершавое дерево. Не сознавая, что делает,
Соболев начинал выскабливать какой-нибудь уголок, на фанере проступали ясные линии
волокон… Очнувшись, Корней Лукич отбрасывал дверцу в сторону, криво усмехался.
Незачем, лишнее.
Так прошел год, потом другой. Из католической церкви артель перебралась в подходящее
здание, появились новые мастера, даже мальчишки помаленьку научились работать и делали
теперь целые гарнитуры.
Из всей старой продукции, выпускавшейся артелью, выжили только шкафы с цветами. Их
давно собирались снять с производства, да все медлили, потому что задерживалась
разработка образцов.
И Соболев продолжал фанеровать дверцы. Он не старался заполучить новой работы. Для
чего? Шкафы делаются похуже, столы получше, но, в общем, одно и то же… Не слаще хрен
редьки. Если главной цели нет, человеку безразлично, что делать. Кому-то надо фанеровать
дверцы, кому-то надо лепить дрянные шкафы, ежели их заказывают. И Корней Лукич
равнодушно принимался за очередную партию.
Наконец шкафы сняли с производства. И в это же время в мастерскую пришел Алешка
Бакалин.
6
Собрав и загрунтовав столик, Алеша, пока выдался свободный час, пошел по цехам. Было
интересно поглядеть, что делается в артели.
Еще в армии он раздумывал, куда пойти работать, и решил, что поступит на мебельную
фабрику. После училища он два года служил в реставрационных мастерских и больше не
хотел туда возвращаться. К музейным вещам у Алеши было странное, сложное отношение.
Да, он понимал, что все эти готические стулья, буллевские бюро красного дерева,
позолоченные кресла рококо были произведениями искусства.
Но Алеша считал, что они плохо выполняли свое назначение. Это вещи скорей
прислуживались, чем служили человеку.
В эпоху завоевательских походов, как денщики, они надевали военные мундиры,
украшали себя оружием, мирная ручка дивана превращалась в львиную лапу. Пусть
неудобно, казенно, зато – устрашающе.
Во времена разгульной роскоши вещи наряжались в золото и драгоценности, они
вставали на тонкие копытца, – дряхлеющий золотой век словно качался на жиденьких
ножках, молодясь и прикрашиваясь.
В смутные годы, в периоды упадка вещи принимали неясные, искаженные формы, —
сквозь переплетение линий, судорожно скрученные завитки наружу рвались страх и
бессилие…
Человеческая история, нравы, события накладывали на вещи свой отпечаток. Ничто не
оставалось неизменным. Менялось представление о красоте, о пользе, удобстве. И Алеша
давно уже пробовал выяснить эти закономерности, чтобы не работать вслепую.
Какой должна быть современная, новая мебель?
Ее черты только еще проступают, – они еле видны в нескладных алюминиевых креслах,
в старомодных шкафах, наспех перекроенных на другой лад, в громоздких диванах и
кроватях.
Но тем интересней сейчас работать! Надо самому что-то искать, пробовать, добиваться…
И открыть людям новую красоту! Алеша жмурился даже, когда пытался представить себе
это…
После тишины мастерской было непривычно войти в цех, полный рокота и мягкого гула.
Звонко перещелкивались киянки, смеялись девчата-станочницы, – запудренные древесной
пылью, в платках по самые брови, – в открытые окна задувал ветер, шевелил стружку на
верстаках. Было здесь куда веселей, чем в пустой мастерской Соболева.
В соседнем цеху Алеша увидел мальчишек, собирающих гарнитуры. Они действовали
необычно.
Для крупной мебели артель разработала типовые детали. Из них, как из детских кубиков,
можно было сложить книжный шкаф, тумбочку, стол.
У Алешки рот расползся в улыбке,– вот где попробовать-то! Тыщи вариантов, тьма
возможностей, только раскидывай мозгами…
Мальчишки работали неважно, Алеша это приметил сразу. Они мало знали, робко
придерживались знакомых сочетаний…
–Дай-ка попробовать!– нетерпеливо сказал Алеша одному.
–Чего?
–Можно лучше состроить… Гляди!
У парнишки были младенчески синие глаза, одна бровь торчала круче другой.
–Ты откуда сорвался?
–Погоди, чудак человек, ты попробуй…
–Знаешь,– сказал парнишка,– беги отсюда мелкими шагами. Таких указчиков мы
быстро заворачиваем…
Алеша не обиделся и ругаться не стал. Ладно… Завтра закончит пробу, все равно
добьется, чтоб направили в этот цех. Только доказать надо, что имеет он право…
Обратно вернулся веселый, хотел поделиться новостью с Корнеем Лукичом. Но когда
открыл дверь мастерской – замер.
Соболев ходил у его столика.
Низко нагибаясь, он рассматривал крышку, проводил по ней ладонью, будто ощупывал…
Алеша знал, что грубые пальцы Соболева умеют определить работу на ощупь. Едва
заметная шероховатость, капелька клея под фанерой – и рука дрогнет, почувствует дефект.
Сколько раз, усмиряя невольную дрожь, следил за этими руками Алеша, когда был в
училище.
Неспокойно стало и сейчас.
Но рука мастера двигалась плавно. Обошла кромки стола, соскользнула вниз… Соболев
остановился неподвижно, и опять Алеше показалось, что он задумался.
Хлопнула отпущенная Алешей дверь. Соболев вздрогнул и, не обернувшись – боком,
боком,– захромал к своему верстаку.
А потом быстро ушел, словно не хотел, чтобы Алеша начал разговор.
7
Когда Соболев учил своих мальчишек полировке, он рассказывал им историю одного
старика краснодеревца.
Старик был великим искусником. Он полировал мебель так, что она казалась
вырубленной из драгоценного камня.
Старик никогда не работал в больших городах. В городском воздухе много пыли, а пыль
затуманивает полировку. Старик устроил себе мастерскую на берегу моря и работал только в
безветренные дни, когда воздух был совсем чист.
На подбородке у старика торчала бородавка. Из нее росла волосинка, старческая седая
волосинка. Старик ее не состригал.
Когда в отполированном дереве, как в зеркале, отражалось лицо старика,– он считал, что
работа сделана наполовину. Если можно было разглядеть бородавку,– дело шло к концу. Но
совсем вещь бывала готова лишь тогда, когда старик явственно различал отражение своего
седого волоса.
Однажды старик несколько месяцев полировал крышку рояля. Подмастерья говорили, что
пора шабашить,– лучшей полировки достичь нельзя. Но старик упрямо уходил в
мастерскую: он еще не видел волоса и не мог позволить себе бросить работу недоделанной.







